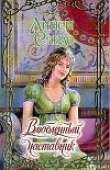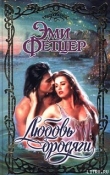Текст книги "На маяк"
Автор книги: Вирджиния Вулф
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Как странно: сидят тут рядком, – твои детки, Джеспер, Роза, Пру, Эндрю и, в общем, помалкивают, но по губам же видно – чему-то своему усмехаются. Это не имеет отношения к общему разговору; что-то они припасают, копят, чтоб потом у себя уже в комнатах нахохотаться. Только б не над отцом. Нет, думала она, нет. Но что же это у них, гадала она, огорчаясь, и ей казалось, не будь ее здесь, они бы давно уже прыснули. Что-то такое там копится, копится, за тихими, почти застывшими лицами-масками; и не подступиться; они как надсмотрщики, как соглядатаи, выше, что ли, не то в сторонке от взрослых. Но, глядя на Пру, она видела, что по отношению к той это сегодня не вполне справедливо. Она только-только расшевеливается, встает, еще и не подступает к черте. Слабый-слабый свет лег на ее лицо, как отблеск сияния Минты, восхищенным предчувствием счастья; словно солнце любви мужчины и женщины всходило над скатертью и она, неведомому, ему поклонялась. Она все поглядывала на Минту, робко, но с любопытством, и миссис Рэмзи, переводя взгляд с одной на другую, в душе говорила Пру: «Ты будешь такой же счастливой. Ты будешь даже гораздо счастливей, ведь ты моя дочь» (разумела она); ее дочь должна быть счастливей, чем чья-то еще. Но ужин кончился. Надо идти. Они только кожурой на тарелках играются. Надо обождать, пока отсмеются над историей, которую рассказывает муж; у них с Минтой свои шуточки, про какое-то их пари. А там она встанет.
А ведь ей нравится Чарльз Тэнсли, подумала она вдруг; нравится, как он» смеется. Нравится, что он так сердится на Пола с Минтой. Нравится его нелепость. Безусловно, в нем что-то есть. Ну, а милую Лили, подумала она и положила салфетку рядом с тарелкой, всегда выручит чувство юмора. И нечего о Лили волноваться. Она ждала. Она сунула салфетку углом под тарелку. Ну как они – кончили? Нет. Та история потащила за собою другую. Муж сегодня в невероятном ударе, и, желая, наверное, загладить перед стариком Августом эпизод по поводу супа, он втянул и его в разговор – они друг другу рассказывали про кого-то, кого знали по колледжу. Она смотрела в окно, где свечи горели жарче на совсем уже черных стеклах, смотрела в то заоконье, и голоса доходили оттуда странно, как церковная служба, потому что она не вникала в слова. Потом вдруг взрыв хохота и голос, единственный (Минтин), ей напомнили о мужских и мальчишеских возгласах на латыни в одном католическом храме. Она ждала. Муж заговорил. Он говорил что-то, и она догадалась, что это стихи – по ритму и еще по высокой печали в голосе:
Слова (она смотрела в окно) плыли, как лилии по водам за окном, ото всех отделенные, будто их и не произносит никто, будто сами собою рождаясь:
Все жизни, те, что впереди, те, что давно прошли,
Как лес шумят, как листопад.
Она не понимала значения слов, но, как музыка, они будто говорили ее собственным голосом, помимо нее, легко и просто говорили то, что весь вечер было у нее на душе, покуда она всякое произносила. Не глядя вокруг, она знала, что все за столом слушают голос:
Не знаю, думаешь ли ты,
Луриана, Лурили
с той же радостью, легкостью, что и она, будто наконец-то подыскали самое нужное и простое; будто это их собственный голос.
Но вот голос смолк. Она поглядела вокруг. Она себя заставила встать. Август Кармайкл поднялся и, так держа салфетку, что она обвисала у него в пальцах длинной белой робой, стоя, он выпевал:
И по ромашковым лугам
Верхами мимо короли
В сверканье лат спешат назад,
Луриана, Лурили,
и когда она проходила мимо, слегка к ней оборотясь, повторил:
Луриана, Лурили
и склонился перед нею в глубоком поклоне. Почему неизвестно, но она догадалась, что сейчас он к ней лучше относится; и с облегчением, с благодарностью она поклонилась в ответ и прошла в дверь, которую он для нее придержал.
Теперь надо было все продвинуть еще на один шаг. Стоя на пороге, она мгновение медлила участницей сцены, которая уже распадалась под ее взглядом, и потом, когда она снова двинулась и, взяв под руку Минту, выходила из комнаты – изменилась, очертилась по-новому; уже, она знала, прощально оглядываясь через плечо, – стала прошлым.
18
Как всегда, думала Лили. Вечно что-то надо сделать именно сию секунду, что-то миссис Рэмзи по каким-то резонам решает сделать безотлагательно, и пусть все еще стоят, острят, вот как сейчас, не в силах разобраться – перейти ли в курительную, в гостиную или разбрестись по мансардам. И посреди этого гама вы видите вдруг, как миссис Рэмзи с Минтой под ручку заключает: «Да-да, пора» и тотчас с таинственным видом удаляется по собственным надобностям. И стоило ей уйти, все распалось; слонялись, бродили без цели; мистер Бэнкс взял под руку Чарльза Тэнсли, и они вышли на террасу оканчивать дискуссию о политике, затеянную за столом, разом все сдвинув и повернув, будто, думала Лили, глядя им вслед и выхватывая словцо-другое относительно политики лейбористов, взошли на капитанский мостик и определили курс корабля; такое на нее произвел впечатление переход от стихов к политике; итак, Чарльз Тэнсли и мистер Бэнкс удалились, прочие же смотрели, как миссис Рэмзи, одна, поднимается по ступенькам в озарении ламп. И куда, удивлялась Лили, она поспешает?
Нет, она не то чтобы торопилась, взбегала; она, в общем, даже медленно шла. Ей хотелось минуточку постоять после всей этой кутерьмы и выделить главное; единственно важное; отделить от всего остального; очистить от мусора чувств, шелухи слов, предъявить конклаву судей, ею же созванных для разбирательства. Пусть решат. Хорошо это, плохо, это верно или неверно? Куда мы держим путь?[15]15
Перефразированные детские стишки: «Куда ты держишь путь, красавица моя?»
[Закрыть] И прочее. Так она приходила в себя после развязки и неосознанно, несообразно звала ветки вяза за окнами стать ей опорой. Ее мир менялся; они оставались на месте. Ей казалось, что все теперь сдвинулось, стронулось. Все теперь будет прекрасно. Надо только кое-что уладить, думала она, механически отмечая недвижное достоинство веток, а то величавый их взмыв (как корабля над волной), когда вспыхивал ветер. А было ветрено (она остановилась на лестнице – поглядеть). Было ветрено, и ветки вдруг обметали звезды, и звезды кидало в дрожь, и они отряхивали лучи и прошивали иглами листья. Да, дело сделано, кончено и, как все завершившееся, стало торжественным, и уже казалось, что так и было всегда, только все теперь очистилось от шелухи, от мусора чувств, очистилось и сделалось явным, а сделавшись явным, поступило в веденье вечности. Теперь они будут, думала она, уже опять поднимаясь по лестнице, до конца своих дней вспоминать этот вечер; этот ветер; луну; этот дом; и ее. Ей было особенно лестно воображать, как, влегши в их души, она до конца их дней там останется; и это, и это, и это, думала она, всходя по ступенькам, усмехаясь, но нежной усмешкой, дивану на лестнице (еще маминому), качалке (еще отцовской); карте Гебридов. Все это оживет в жизни Пола и Минты; этих Рэйли. Она попробовала новоиспеченное сочетанье на вкус; и, берясь за дверную ручку детской, она ощущала ту общность с другими, которую дарит нежность и при которой разделяющие нас переборки делаются до того тонки (и это такая отрада и легкость), что мы вливаемся в общий поток, и стулья, столы и карты – все делается их и твое, чье – не важно, и Пол и Минта повлекут это все по потоку, когда самой ее уже не будет на свете.
Она повернула дверную ручку, твердо, чтобы не скрипнула, и вошла, слегка поджав губы, как бы напоминая себе, что нельзя говорить громко. Но едва вошла, она с досадой увидела, что предосторожность напрасна. Дети не спали. Ужасно досадно. Хороша же и Милдред. Джеймс – сна ни в одном глазу, Кэм – торчком в кроватке, Милдред – на полу босиком (а уже полодиннадцатого), – спорят. Что такое? Да опять эта жуткая голова вепря. Она велела Милдред убрать ее, а Милдред, конечно, забыла, и вот Кэм и не думает спать, Джеймс не думает спать, пререкаются, а уж час назад им полагалось уснуть. И как только Эдварда угораздило прислать этого жуткого вепря? И она-то сама, тоже дура, разрешила его тут повесить. Он крепко прибит, Милдред сказала, и Кэм из-за него не может уснуть, а Джеймс поднимает крик, едва до него дотронешься.
Но Кэм надо спать, спать (у него такие большие рога, говорила Кэм…), спать, спать и поскорей увидеть во сне прекрасные замки, – говорила миссис Рэмзи, садясь на кроватку с ней рядом. По всей комнате эти рога, везде-везде, говорила Кэм. И правда. Едва зажигают ночник (а Джеймс без ночника спать не может), по всей комнате сразу расходятся тени.
– Кэм, ну подумай, ведь это просто старая свинка, – говорила миссис Рэмзи, – милая, черная свинка, ну, как свинки на хуторе.
Но Кэм утверждала, что страшные рога ее ловят повсюду.
– Ну, хорошо, – сказала миссис Рэмзи, – вот мы их укутаем, – и все следили, как она подступила к комоду, быстро, один за другим, выдергивала ящички и, не найдя ничего подходящего, сдернула с себя шаль и намотала на вепря, намотала, намотала, и вернулась к Кэм, и легла лицом на подушку с Кэм рядом, и сказала, что теперь все очень, очень красиво; эльфам страшно понравится; похоже на птичье гнездышко; похоже на дивную гору, вот как она за границей видала, с цветами и долами, там звенят колокольчики, птички поют, и там антилопы и козлики… Она видела, как ее распев эхом отдается у Кэм в голове, и Кэм уже повторяла за нею, что это похоже на гору, на гнездышко, на сад, и там антилопы и козлики, и глазки у Кэм расширялись, слипались, и миссис Рэмзи говорила все монотонней, ритмичней, бессмысленней, что пора закрыть глазки, и спать, и увидеть во сне горы, долы, и падучие звезды, сады, антилоп, попугаев и козликов, и все-все такое красивое, говорила она, очень медленно отрывая лицо от подушки, и все механичней журчала, журчала, пока, распрямясь, не увидела, что Кэм спит.
А теперь, шепнула она, перейдя к кроватке Джеймса, Джеймсу тоже надо спать, ведь видишь, сказала она, вепрь тут как тут; никто его не тронул; все как хотел Джеймс. Да, он убедился, что вепрь тут как тут, под шалью. Но он еще что-то хотел спросить. Они завтра поедут на маяк?
Нет, сказала она, завтра – нет, но совсем-совсем скоро, она ему обещала, как только погода будет хорошая. Он был очень хорошим мальчиком. Сразу лег. Она его укрыла. Но он никогда не забудет, она знала, и она сердилась на Чарльза Тэнсли, на мужа, на себя – зачем в него вселила надежду. Потом, ощупав себя по плечам, вспомнив, что намотала шаль на голову вепря, она встала и чуть побольше опустила окно, и услышала ветер, и глотнула прохладного безразличия ночи, и прошуршала Милдред «спокойной ночи», и тихо-тихо опустила щеколду, и ушла.
Главное, книги бы на пол у них над головой не обрушил, – думала она, все досадуя на Чарльза Тэнсли. Оба спят чутко; оба очень возбудимые дети; а раз он мог такое сказать насчет маяка, ему, естественно, ничего не стоит и книги на пол обрушить, как только дети уснут, задеть локтем и сверзнуть со стола целую стопку. Ведь кажется, он потащился наверх работать. Но, правда, у него такой заброшенный вид; но, правда, она вздохнет с облегчением, когда он отбудет; но, правда, надо присмотреть, чтоб уж его завтра не обижали; но, правда, с мужем он чудо как мил; но, правда, манеры у него ни в какие ворота; но, правда, ей нравится, как он смеется, – спускаясь в этих мыслях по лестнице, она заметила, что луна уже смотрит в лестничное окно – круглая, желтая луна равноденствия; и она повернула, и все увидели, как она стоит над ними на лестнице.
Это моя мама, – думала Пру. Да. Пусть Минта смотрит; пусть Пол Рэйли смотрит. Мы все – что? А она настоящая[16]16
Ср.: «Все мы поддельные, а он настоящий» («Король Лир», акт III, сц. IV).
[Закрыть], – чувствовала Пру, и никто на свете не мог сравниться с ней; с ее мамой. И, только что по-взрослому беседовавшая с другими, она стала снова маленькой девочкой, и все, что делали они, – оказалось игрой, и вопрос был только в том, позволит ли мама игру или ее запретит. И, думая про то, как повезло Минте, и Полу, и Лили, что они ее видят, и какое невозможное счастье ей самой привалило, и что она никогда не станет взрослой и не уедет из дому, она сказала, как маленькая:
– Мы хотели пойти на берег, на волны посмотреть.
В миг, ни с того ни с сего миссис Рэмзи превратилась в двадцатилетнюю, одержимую весельем девчонку. Лихую полуночницу. Да-да, пусть идут, конечно, пусть идут, кричала она и смеялась; и, бегом одолев последние две-три ступеньки, она поворачивалась к одному, к другому, и смеялась, и кутала Минтины плечи шарфом, и говорила, что ей бы страшно хотелось пойти, и они, наверное, страшно поздно вернутся. А часы у них есть?
– Да, есть, у Пола, – сказала Минта. Пол выкатил из замшевого футлярчика изящные золотые часы, чтобы ей показать. И, протягивая ей часы на ладони, он думал: «Она знает. Ничего не надо говорить». Показывая ей часы, он говорил: «Я это сделал, миссис Рэмзи. А все благодаря вам». И, глядя на золотые часы у него на ладони, миссис Рэмзи чувствовала – вот счастливица Минта! Стать женой человека, у которого золотые часы в замшевом футляре!
– Как бы мне тоже хотелось пойти! – вскрикнула она. Но ее удерживало что-то такое сильное, что и спрашивать даже не надо – что именно. Разумеется, ей невозможно было с ними пойти. Но она бы пошла с удовольствием, если б не то, другое, и, развлекаясь смешной мыслью (какое счастье стать женой человека, у которого есть замшевый футляр для часов), она с улыбкой вошла в другую комнату, где за книгой сидел ее муж.
19
Разумеется, говорила она себе, входя в эту комнату, ей там что-то такое понадобилось. Чего-то хотелось. Прежде всего, хотелось сесть на определенное кресло под определенную лампу. Но ей хотелось чего-то еще, хоть она не знала, понятия не имела, чего именно. Она посмотрела на мужа (берясь за чулок и принимаясь вязать) и поняла, что ему не хотелось, чтоб его прерывали – это было ясно. Он читал и был увлечен. Он смутно улыбался, и она поняла, что он сдерживает себя. Он с треском перебрасывал страницы. Он играл. Возможно, воображал себя одним из героев. Интересно – что за книга? А-а, это старый сэр Вальтер, разглядела она, пока прилаживала абажур, направляя свет на вязанье. Потому что Чарльз Тэнсли говорил (она кинула взглядом по потолку, как бы опасаясь, что оттуда посыпется грохот сваленных книг), говорил, что Вальтера Скотта в наше время читать невозможно. Вот муж и подумал: «Так и обо мне скажут»; и взял эту книгу. И если он придет к заключению «Это верно», про то, что говорил Чарльз Тэнсли, он успокоится насчет Вальтера Скотта. (Она видела – он взвешивал, сопоставлял, прикидывал то да се.) Но не насчет себя. Вечно он насчет себя беспокоится. Это печально. Вечно дергается из-за собственных книг – будут ли их читать, хороши ли, почему не становятся лучше, да что обо мне скажут? Недовольная такими своими мыслями про него, гадая, не понял ли кто за ужином, откуда взялось его раздражение, когда речь зашла о долговечности славы и книг, гадая, не над ним ли смеялись дети, она спустила петлю, и лоб и губы подернулись у нее как тонко по меди вытравленной сеткой, и она затихала, как дерево трепещет, дрожит, а потом затихает, листок за листком, когда успокоится ветер.
Не важно, совсем это не важно, думала она. Великий человек, великая книга, слава – кто скажет с уверенностью? Ничего она этого не понимала. Но уж так он устроен со своим правдолюбием – и за ужином она ведь, главное, думала: хоть бы он заговорил! Она совершенно на него полагалась. И, опуская все это, как минуешь, ныряя, там водоросли, там пузыри, там соломинки, снова она почувствовала, погружаясь все глубже, как почувствовала тогда в прихожей, сквозь пестрый разговор – «Чего-то мне хочется – я зачем-то пришла», – и она падала глубже и глубже, сощурив глаза, так и не разобравшись, что же это такое. И она выжидала, она вязала и думала, и вот те слова, которые произносились за ужином:
О том, что розы расцвели,
Нам уши прожужжат шмели,
стали плескаться, качаться у нее в голове, и покуда они плескались, качались, – еще слова, как затененные огни, тот красный, тот синий, тот желтый, возникали, лились, ускользали, или это снимались с насестов, и летели, и кричали они, а им вторило эхо; и она повернулась и нашарила на столике книгу.
Все жизни, те, что впереди,
Те, что давно прошли,
Как лес шумят, как листопад,
тихонько прошуршала она и воткнула спицы в чулок. И она открыла книгу и принялась читать наобум, наугад, будто карабкаясь вверх, вниз, пробираясь густой лепестковою осыпью и едва различая – тот вот белый, тот – красный. Сперва она совсем не понимала слов.
прочитала она и перевернула страницу, и, во власти ритма, доверясь его зигзагам, перебиралась со строки на строку, как с ветки на ветку, от одного красного и белого цветка к другому, пока не очнулась от легкого звука, – муж хлопнул себя по ляжкам. На секунду их глаза встретились; но разговаривать им не хотелось. Им нечего было друг другу сказать, но что-то все равно перешло от него к ней. Жизнь сама, ее власть, невероятное удовольствие вызвало этот хлопок по ляжкам. Ты уж меня не трогай, будто умолял он, ты ничего не говори. Только сиди тут, пожалуйста. И он продолжал читать. У него подрагивали губы. Его переполняло прочитанное. Оно его укрепляло. Он начисто позабыл о мелких шероховатостях минувшего вечера, о том, как тяжело, как скучно было ему торчать за столом, покуда прочие без удержу ели и пили, и как сердился он на жену, как задело его и унизило, что о его книгах попросту не было речи, будто их и не существует на свете. А теперь ему было с высокой горы наплевать, кто достигнет конца алфавита (если мысль человеческая, как алфавит до конца, добирается до вершин). Кому-нибудь да удастся – не ему так другому. Сила и цельность этого человека, простое, без штук, понимание главных вещей, эти рыбаки, бедное, старое, полубезумное созданье в хижине Макльбеккита[18]18
Персонаж романа Вальтера Скотта «Антикварий» (1816).
[Закрыть] – дали ему ощущение такой силы, такого освобождения, что он почувствовал невозможное сжатие в горле, он ликовал, он не мог сдержать слез. Чуть приподняв книгу, чтобы спрятать лицо, он их и не сдерживал, и качал головой, и раскачивался, и совершенно забыл себя (лишь два-три соображенья мелькнули – о морали, об английском и французском романе, о том, что у Скотта связаны руки, но понимание жизни, быть может, не менее верно, чем у прочих иных), забыл о своих терзаниях и несостоятельности, они были стерты, стерты решительно гибелью бедного Стини и горем бедного Макльбеккита (здесь Скотт в своем лучшем виде) и странным восторгом и ощущением силы, которое они ему дали.
Н-да, пусть-ка попробуют переплюнуть старика, думал он, дочитав главу до конца. Он будто с кем-то спорил и одержал верх. Им его не переплюнуть, пусть говорят, что хотят; а собственная его позиция укрепилась. Любовная пара – весьма не ахти, думал он, снова все перебирая в уме. Это весьма не ахти, а то – первоклассно, думал он, сопоставляя частности. Но надо еще перечесть. Восстановить целиком образ вещи. От окончательного суждения он покуда воздержится. И он вернулся к другой мысли – если уж молодежи не нравится это, естественно, он сам ей не может понравиться. И тут нечего жаловаться, думал мистер Рэмзи, изо всех сил одолевая порыв пожаловаться жене, что у молодежи он не пользуется успехом. Но он решил – нет; не станет он ее мучить. Он смотрел, как она читает. У нее за книгой такой благостный вид. Приятно было думать, что все убрались и оставили их одних. Смысл жизни не только в постели, подумал он, снова возвращаясь к Бальзаку и Скотту, к английскому роману и французскому роману.
Миссис Рэмзи подняла голову и, как человек в легкой дреме, будто говорила, что, если он хочет, она проснется, она непременно проснется, ну, а нет, так можно ей еще чуть поспать, еще только чуть-чуть поспать? Она карабкалась по своим веткам, так и сяк, нашаривая цветок за цветком.
– читала она и, так читая, взбиралась вверх, на самую маковку. Как хорошо! Как вольно! Все мелочи дня липли к этому магниту; душа очищалась от мусора. И вдруг – стройный, цельный – он оказался у нее на ладони, дивный, разумный, округлый, верх совершенства, крепкая вытяжка из жизненных соков – сонет.
Но она почувствовала на себе взгляд мужа. Он на нее смотрел с насмешливой улыбкой, как если бы нежно ее корил за то, что уснула среди бела дня, но тем временем думал: читай-читай. Сейчас ты зато не печальная. И он гадал, что же она такое читает, и он преувеличивал ее невежество, ее простоту, потому что ему нравилось думать, что не так уж она образованна, не так уж умна. Интересно, хоть понимает она, что читает? Наверное нет, он думал. Она поразительно хороша. Ее красота, если это только мыслимо, все расцветает.
– А? – спросила она, этим сонным эхом отзываясь на его улыбку, и подняла взгляд от книги.
– Мне показался тенью милой тени… – прошептала она и положила книгу на столик.
Что произошло, перебирала она, снова взяв в руки вязанье, с тех пор, как они в последний раз виделись наедине? Она вспомнила, как переодевалась к ужину, как увидела луну; Эндрю слишком высоко держал тарелку за ужином; какие-то слова Уильяма ее огорчили; грачи на вязах; диван на лестнице; дети не спали; Чарльз Тэнсли вечно их будит, обрушивая свои книги – ах нет, это же она сочинила; а у Пола замшевый футляр для часов. Что бы ему такое сказать?
– Они обручились, – сказала она, принимаясь вязать. – Пол и Минта.
– Я догадался, – сказал он. Тема казалась исчерпанной. У нее душа все еще качалась – вверх-вниз, вверх-вниз – в такт стихам; он все еще чувствовал себя сильным, прямым после сцены похорон Стини. И оба молчали. Потом она поняла: ей хотелось, чтобы он сказал что-нибудь.
Что-нибудь, что-нибудь, – думала она, накидывая петлю. Что угодно сойдет.
– Какое, наверное, счастье стать женой человека, у которого есть замшевый футляр для часов, – сказала она, потому что такие шутки были у них в ходу.
Он фыркнул. Он эту помолвку расценивал так же, как все вообще помолвки; девица чересчур хороша для юнца. А у нее в тайниках сознания вставало: и почему всегда так хлопочешь, чтобы люди женились? И все вообще – для чего и зачем? (Что бы они ни сказали теперь, будет правдой.) Ну, скажи что-нибудь, думала она, только чтоб услыхать его голос. Она чувствовала: тень, коснувшаяся, окутавшая их обоих, теперь смыкалась над нею – одной. Скажи хоть что-нибудь, глядя на него, молил а она, как на помощь звала.
Он молчал, раскачивал компас на своей часовой цепочке, думал о романах Скотта и романах Бальзака. Но сквозь вечереющие стены их близости – ведь их ненароком притягивало друг к другу, и они были уже совсем-совсем близко, бок о бок, – она почувствовала, как своим умом он будто застит ей свет; он же, едва мысли ее приняли оборот, которого он не любил и честил пессимизмом, стал дергаться, хоть ничего не сказал, стал поднимать руку ко лбу, крутить прядь и отшвыривать, покрутив.
– Ты сегодня не кончишь этот чулок, – сказал он и ткнул в чулок пальцем. А ей того и надо было – резкости, недовольства в его голосе. Раз он говорит, что нельзя быть пессимисткой, значит, наверное, нельзя, – думала она; брак еще окажется на редкость удачным.
– Да, – сказала она, разглаживая чулок на коленях. – Не кончу.
Но что же дальше? Ведь он все смотрел на нее, но взгляд теперь изменился. Ему чего-то хотелось, – хотелось того, что ей всегда так трудно было ему дать; хотелось, чтобы она сказала ему, что она его любит. А вот это она, ну, никак не могла. Ему говорить легко. Он все может выговорить, а она вот нет. Поэтому именно он и говорит всегда разные вещи, а после почему-то вдруг обижается и ее корит. Бессердечная женщина – он ее называет; ни разу ему не сказала, что любит его. Но не так это все, не так. Просто она не умеет выражать свои чувства. На пиджаке у него ни сориночки? Так-таки ничего не может она для него сделать? Она встала к окну с красно-бурым чулком в руке, – отчасти чтоб от него отвернуться, отчасти потому, что была не прочь под его взглядом смотреть на маяк. Она знала: он повернул голову, едва она отвернулась; он на нее смотрел. Она знала: он думал – никогда еще не была ты так хороша. И она чувствовала, что хороша. Неужто ты мне хоть раз в жизни не скажешь, что любишь меня? Он так думал, потому что расстроился из-за Минты, из-за своей книги и оттого, что кончался день, и они ссорились из-за этого маяка. Но она не могла; не могла это выговорить. Потом, зная, что он на нее смотрит, она не сказала ничего, зато повернулась с чулком в руке и на него поглядела. И, глядя на него, она начала улыбаться, и хоть она ничего не сказала, он знал, ну конечно, он знал, что она любит его. Этого он не мог отрицать. И, улыбаясь, она поглядела в окно и сказала (а сама думала – что на свете сравнишь с этим счастьем?):
– Да, ты прав оказался. Завтра будет дождь.
Она ничего не сказала, но он знал. И она на него поглядела с улыбкой. Потому что снова она победила.