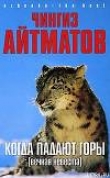Текст книги "Бал безумцев"
Автор книги: Виктория Мас
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Глава 3
ЛУИЗА
22 февраля 1885 г.
– Снег такой красивый. Мне хочется погулять в парке.
Прислонившись плечом к оконному стеклу, Луиза меланхолично водит мыском ботинка по плитке пола; полные руки скрещены на груди, рот кривится в гримаске. За окном идеально ровный снежный ковер поблескивает на парковых лужайках. В снегопады умалишенным запрещены прогулки. Одежда, которую им выдают, недостаточно теплая для зимы, а хрупкие тела уязвимы – подхватить воспаление легких проще простого. К тому же, резвясь в снегу, они могут перевозбудиться. Так что всякий раз, когда вокруг становится белым-бело, пациенткам Сальпетриер дозволяется гулять только по дортуару. Женщины бродят из угла в угол, разговаривают с теми, кто не отказывается их слушать, двигаются безжизненно, играют в карты без особой охоты, разглядывают собственное отражение в оконных стеклах, заплетают косы соседкам – и все это в атмосфере смертельной тоски. Утром они открывают глаза, и сама мысль о том, что нужно как-то пережить долгий день, наполняет усталостью тела и мысли. Здесь нет часов, поэтому время кажется застывшим, а дни – нескончаемыми. В этих стенах, где единственное событие, вносящее разнообразие, – осмотр у врача, время – заклятый враг. Оно выдергивает на поверхность глубоко запрятанные мысли, будит воспоминания, распаляет тревоги, возвращает сожаления. От времени, которое неизвестно когда закончится и закончится ли вообще, здесь страдают отчаяннее, чем от самих недугов.
– Хватит ныть, Луиза, иди посиди с нами.
Тереза – толстуха с морщинистым лицом, – расположившись на своей койке, вяжет шаль под любопытными взглядами поклонниц. Руки с искривленными пальцами неутомимо вытягивают петельку за петелькой. В ее подарки наряжаются с удовольствием и гордостью, носят их как драгоценный знак внимания и заботы, которыми тут никто не избалован.
Луиза пожимает плечами:
– Лучше побуду у окна.
– Если долго пялиться на волю, станет только хуже.
– Нет, наоборот, сейчас как будто весь парк принадлежит мне одной.
В дверном проеме возникает мужской силуэт – молодой интерн обводит взором дортуар и замечает Луизу. Девушка тоже его видит – и сразу расплетает руки, распрямляется, пытается сдержать улыбку. Он кивает ей многозначительно и исчезает в коридоре. Луиза, украдкой осмотревшись, ловит неодобрительный взгляд Терезы, тотчас отводит глаза и торопливо выходит из дортуара.
В пустой палате распахнута дверь, но ставни опущены. Луиза, войдя туда, осторожно прикрывает за собой створку. Молодой человек ждет ее в полутьме.
– Жюль…
Девушка бросается в его объятия, сердце у нее колотится так, что вот-вот выпрыгнет. Жюль гладит ее по волосам на затылке, и все тело Луизы охватывает дрожь.
– Где ты пропадал эти несколько дней? Я тебя ждала.
– Навалилось много работы. Я и сейчас ненадолго, меня ждут на лекции.
– О нет!
– Луиза, потерпи. Совсем скоро мы будем вместе.
Интерн берет ее лицо в ладони, гладит по щекам большими пальцами.
– Позволь тебя поцеловать, Луиза.
– Нет, Жюль…
– Сделай одолжение. Я весь день буду чувствовать вкус твоего поцелуя.
Она не успевает еще раз возразить – Жюль склоняется к ней и нежно целует. Он чувствует сопротивление, но все равно продолжает, ибо лишь настойчивостью можно добиться своего. Его усы щекочут полные губы девушки. Украденного поцелуя Жюлю мало – он принимается мять ее грудь, тогда Луиза его резко отталкивает и пятится. Ее руки и ноги дрожат, колени подгибаются, и она, сделав два шага, опускается на край кровати. Жюль, как ни в чем не бывало, подходит и встает перед ней на колени:
– Ну зачем ты так, крошка? Я же тебя люблю, ты ведь знаешь.
Луиза его не слышит, ее взгляд неподвижен и устремлен в пространство. Сейчас она снова ощущает на своем теле руки тетиного мужа.
* * *
Все началось с пожара на улице Бельвиль. Луизе едва исполнилось четырнадцать. Она спала в дворницкой, в одной каморке с родителями, когда на первом этаже разбушевалось пламя. Проснулась от жара и, еще полусонная, почувствовала, как руки отца подхватывают ее и выталкивают в окно. С другой стороны Луизу приняли соседи, стоявшие на тротуаре. У нее кружилась голова, и было трудно дышать. Она потеряла сознание, а в себя пришла в доме у тетушки. «Теперь мы твои родители», – сказали ей. Девочка не плакала. Смерть представлялась ей временным явлением – настоящие родители обязательно оправятся от ожогов и скоро придут за ней. Так что, решила она, нет смысла впадать в уныние, нужно просто ждать.
Теперь она жила у родной тети и ее мужа в квартирке с мезонином за парком Бютт-Шомон. Вскоре после той трагедии тело Луизы стало наливаться соками, грудь и бедра быстро обретали форму. Не прошло и месяца, а девочка, которой она быть перестала, уже не могла натянуть на себя ни одно старое платье. Тетушке пришлось перешить для нее одно из своих: «Походишь в нем летом, а к зиме что-нибудь придумаем». Тетушка была прачкой, ее муж – разнорабочим. Этот человек никогда не заговаривал с Луизой, но едва она созрела, начал странно на нее посматривать – девушка часто ловила на себе пристальный взгляд темных глаз. В его взгляде было что-то, чего Луиза не понимала, но догадывалась, что просто еще не доросла до этого, и непрошеное взрослое внимание вгоняло ее в глубокое смущение, заставляя чувствовать себя неуютно. В собственном теле Луизе теперь тоже было неуютно, оно словно перестало ей подчиняться, и она ничего не могла с этим поделать, как и с повышенным интересом к своей персоне, сопровождавшим ее теперь не только дома, но и на улицах. Дядя ничего не говорил и не прикасался к ней, но Луиза стала плохо спать по ночам, как будто женский инстинкт подсказывал ей, что нужно бояться с его стороны каких-то действий. Лежа на матрасе в мезонине, она просыпалась от малейшего шороха и скрипа на деревянной лестнице, которая вела к ее распростертому телу.
* * *
Настало лето. Луиза с другими подростками бродила по кварталу. Каждое утро дворовая банда убивала время как могла – ребята носились наперегонки по крутым косогорам Бельвиля, таскали сладости в бакалейных лавках, швыряли щебнем в голубей и крыс, а вторую половину дня обычно проводили в тенечке, под деревьями среди холмов парка Бютт-Шомон. Однажды в августе, когда солнце жарило так, что, казалось, плавились мостовые, друзья решили освежиться в озере. Прочим парижанам тоже пришла в голову эта мысль, так что в парке ступить было некуда среди обитателей квартала, сбежавшихся сюда в поисках тени и прохлады. Подростки нашли на берегу укромный уголок, разделись и в нижнем белье полезли в воду. Купанье перешло в безудержное веселье – вся компания быстро позабыла о пекле, о летней скуке и превратностях взросления.
В озере они резвились, пока не стало смеркаться, а когда вернулись на берег, увидели дядю Луизы, притаившегося за деревьями. Сколько времени он там простоял, никто не заметил. Схватив Луизу за плечи жирными потными лапами, этот человек принялся ее трясти и орать, что она потеряла всякий стыд, после чего на глазах у перепуганной компании потащил за собой к дому. Она не успела застегнуть платье, и черные мокрые волосы падали на грудь, проступавшую под полупрозрачной нижней рубашкой.
В квартире дядя толкнул ее на супружескую постель.
– Я тебе покажу, как позориться на людях, бесстыдница! Уж ты этот урок запомнишь!
Упав на кровать, Луиза смотрела, как дядя расстегивает ремень, и думала, что он собирается ее выпороть, – будет больно, конечно, но быстро заживет. Однако он бросил ремень на пол, и тогда Луиза закричала:
– Нет! Дядя, нет!
Она вскочила, и он ударил ее наотмашь так, что девушка рухнула обратно на кровать, навалился сверху всем телом, не давая пошевелиться, разорвал платье, раздвинул ее голые ляжки и расстегнул панталоны.
Он еще двигался в ней, а Луиза еще кричала, когда вернулась тетя и застала эту сцену. Луиза протянула к ней руки:
– Тетя! Тетушка, помогите!
Ее муж сразу вскочил, и жена набросилась на него:
– Ах ты сволочь! Чудовище! Пошел вон, видеть тебя не хочу!
Мужчина в спешке натянул штаны, накинул рубашку и кинулся за дверь. Спасенная Луиза, испытав огромное облегчение, даже не заметила кровь у себя между ног и на простыне. А тетушка вдруг подскочила к ней и влепила пощечину:
– Потаскушка! Строила ему глазки – гляди теперь, что стряслось! Да ты мне еще и постель испачкала, дрянь! А ну живо одевайся и все выстирай!
Луиза смотрела на нее, ничего не понимая. Понадобилась вторая пощечина, чтобы привести ее в себя и заставить выполнить указание.
* * *
Дядя вернулся на следующий день, и супружеская жизнь продолжилась своим чередом, как будто ничего не случилось. Тем временем Луиза лежала в своей каморке, содрогаясь в конвульсиях, и не могла с этим справиться. Теперь каждый раз, когда тетя кричала, чтобы она спустилась и помыла посуду или подмела пол, девушка, согнувшись в три погибели, сползала по лестнице, а на кухне падала на пол, и ее рвало. Тетка принималась кричать на нее еще пуще, и Луиза теряла сознание. Так прошло дней пять. В конце концов сосед снизу, которому надоело слушать вопли, сотрясавшие небольшой дом, однажды вечером постучал к ним в дверь. Разбушевавшаяся тетка открыла, и он увидел у нее за спиной Луизу на полу, в луже рвоты, бившуюся в судорожном припадке, от которого голова у нее запрокидывалась назад, а ноги дергались вперед. Сосед взял девушку на руки и вместе с женой отвез ее в Сальпетриер. Оттуда Луизу так и не выпустили – она провела в больнице уже три года.
О том событии девушка вспоминала вслух редко, но если уж ей случалось о нем заговаривать, рассказ сводился к следующему: «От того, что тетушка меня наругала, было еще хуже, чем от того, что дядя меня изнасиловал».
В отделении истеричек она оказалась пациенткой, у которой припадки случались чаще и были тяжелее, чем у других. У Луизы обнаружились такие же симптомы, как у Августины – бывшей пациентки доктора Шарко, которая прославилась в Париже на его публичных лекциях. Почти каждую неделю у Луизы случались конвульсии и судороги, она падала, тряслась, выгибалась, теряла сознание. А иногда вдруг замирала, сидя на кровати, воздевала руки в исступленном восторге к небесам и взывала к Господу или к воображаемому любовнику. Интерес со стороны Шарко и успех на показательных сеансах гипноза, где она каждую неделю становилась звездой, привели Луизу к мысли, что она – новая Августина, и от этого ей сделалось легче, пребывание в больнице и воспоминания стали не такими тягостными. Кроме того, теперь у нее был Жюль. Уже три месяца Луиза твердо верила, что этот молодой интерн ее любит, что она его тоже любит, они скоро поженятся и уедут отсюда. Теперь ей нечего было бояться: она выздоровеет и наконец-то станет счастливой.
* * *
В дортуаре Женевьева идет вдоль рядов аккуратно застеленных коек, проверяя, все ли спокойно, чинно и гладко. От ее взора не укрылось, что Луиза только что вошла из коридора, и если бы сестра-распорядительница позволила себе повнимательнее относиться к пациенткам, она непременно заметила бы потерянный взгляд девушки и кулаки, прижатые к бедрам.
– Луиза, где ты была?
– Забыла брошку в столовой, сходила за ней.
– Кто дал тебе разрешение покидать дортуар без сопровождения?
– Это я. Женевьева, не сердитесь.
Женевьева оборачивается к Терезе – та отложила вязание и спокойно встретила взгляд сестры-распорядительницы. Женевьева строит недовольную мину:
– Сколько раз вам повторять, Тереза? Вы пациентка, а не санитарка.
– Я знаю здешние правила лучше, чем все эти ваши зеленые медсестрички. Луизы не было всего три минуты. Да, Луиза?
– Да.
Тереза здесь единственная, с кем Старожилка не вступает в споры. Они обе провели в этих стенах два десятка лет, и хотя годы не сблизили их по-настоящему – Женевьева строго придерживается правила ни к кому не привязываться, – все же вынужденное сосуществование и нравственные испытания, вместе пережитые здесь, породили в обеих взаимное уважение и душевное согласие. Они обе это чувствуют, пусть и не обсуждают. Каждая из них заняла свое место и с достоинством исполняла принятую роль: Тереза – приемной матери для пациенток, Женевьева – матери-наставницы для юных медсестричек. Они часто обменивались полезными сведениями – Вязунья могла рассказать о какой-нибудь умалишенной, чтобы успокоить или, наоборот, предупредить Женевьеву, а Старожилка держала Терезу в курсе достижений Шарко и событий в Париже. Однажды Женевьева с удивлением осознала, что Тереза – единственная, с кем она говорит не только о том, что касается Сальпетриер, но и на отвлеченные темы. Летним днем в тени дерева в парке или в уголке дортуара во время осеннего ливня сестра-распорядительница и пациентка отделения истеричек годами чинно беседуют о мужчинах, с которыми они не общаются, о детях, которых у них нет, о Боге, в Которого обе не верят, и о смерти, которой не боятся.
Луиза садится рядом с Терезой, с деланым интересом разглядывая собственные ботинки.
– Спасибо, Тереза.
– Мне не нравится, что ты якшаешься с тем интерном. Глаза у него недобрые.
– Он на мне женится.
– Неужто сделал тебе предложение?
– Сделает на средопостном балу в следующем месяце.
– Ну жди, жди.
– Вот возьмет и сделает, на глазах у всех наших девчонок и у гостей! Так и сказал!
– Он сказал, а ты и поверила? Бедняжечка Луиза… Мужчины наболтают что угодно, лишь бы добиться своего.
– Он меня любит, Тереза.
– Никто не любит сумасшедших, Луиза.
– Ты просто завидуешь, потому что я стану женой врача! – Девушка вскакивает с койки, ее сердце гулко колотится, щеки раскраснелись. – Я вырвусь отсюда и стану жить в Париже. Нарожаю детей! А у тебя ничего этого не будет!
– Мечты – опасная штука, Луиза. Особенно, если их исполнение зависит от кого-то другого.
Луиза, тряхнув головой, словно для того, чтобы выкинуть из нее эти слова, поворачивается к Терезе спиной, идет к своей койке и, свернувшись калачиком, натягивает одеяло до самой макушки.
Глава 4
ЭЖЕНИ
25 февраля 1885 г.
В дверь спальни постучали – Эжени тотчас захлопнула двумя руками книгу, которую читала, и спрятала ее под подушку. Она сидит в кровати; распущенные волосы, перекинутые через одно плечо, рассыпались по груди.
– Войдите.
В спальню заглядывает слуга:
– Ваш кофе, мадемуазель Эжени.
– Спасибо, Луи. Поставьте вон там.
Слуга неслышно ступает по ковру и ставит маленький серебряный поднос на тумбочку рядом с масляной лампой. Из кофейника струится парок; нежный, бархатистый аромат горячего кофе заполняет девичью спальню.
– Что-нибудь еще?
– Нет, идите спать, Луи.
– Вы тоже постарайтесь заснуть, мадемуазель.
Слуга исчезает за дверью, бесшумно прикрыв ее за собой. В апартаментах все уже спят. Эжени наливает кофе в чашку и достает книгу из-под подушки. Уже четыре дня подряд она с самого утра ждет не дождется, когда наконец ее семья и весь город заснут, чтобы в одиночестве продолжить чтение книги, взволновавшей ее до глубины души. О том, чтобы спокойно устроиться с этим трактатом в гостиной после обеда или в какой-нибудь кофейне на публике, не может быть и речи – одного лишь названия на переплете будет достаточно, чтобы повергнуть в панику матушку и вызвать осуждение со стороны чужих людей.
* * *
На следующий день после визита в унылый дискуссионный салон – об этом ее демарше отец, по счастью, так и не узнал – Эжени отправилась на поиски трактата, чей автор занимал ее мысли с тех пор, как она услышала его имя из уст Фошона-сына. Посещение нескольких книжных лавок в квартале окончилось безуспешно, а потом один букинист подсказал ей, что означенный трактат можно найти в Париже только в одном месте – у Лемари, в доме 42 по улице Святого Иакова.
Брать с собой Луи, чтобы подвез ее на фиакре, Эжени не хотелось – она решила, невзирая на капризы погоды, отправиться туда пешком и в одиночестве.
Черные сапожки бодро загребали снег на тротуарах; мало-помалу от мороза и торопливой походки у нее раскраснелись щеки, а кожу неприятно покалывало. Ледяной ветер носился по бульварам, заставляя прохожих пригибать голову. Эжени следовала указаниям букиниста: прошла мимо церкви Святой Марии Магдалины, пересекла площадь Согласия и зашагала по бульвару Святого Жермена в сторону Сорбонны. Город был белым, Сена – серой. Впереди кареты буксовали в снежных заносах, кучеры прятали носы в воротники плащей. На набережной букинисты сражались с холодом, то и дело бегая греться в бистро на другой стороне дороги. Эжени все старалась поплотнее запахнуть полы накидки с капюшоном, придерживая их руками, затянутыми в перчатки. Корсет ужасно стеснял движения. Если б она знала, что идти надо будет так долго, оставила бы его в платяном шкафу. У этого аксессуара определенно имелось лишь одно назначение – намертво зажать женщину в позе, каковая считалась привлекательной, то есть, помимо прочего, лишить ее еще и свободы движений! Как будто интеллектуальных запретов было недостаточно – понадобилось ограничить женщин еще и физически. Это наводило на мысль, что мужчины расставляют для противоположного пола барьеры не столько из презрения, сколько из страха перед ним.
* * *
Эжени вошла в скромную книжную лавку и сразу попала в тепло; онемевшие от холода руки и ноги начали потихоньку оживать, щеки запылали. В глубине помещения двое мужчин склонились над кипой бумаг. Одному – наверное, книготорговцу – было лет сорок; второй, элегантно одетый, с высоким лысеющим лбом и густой белой бородой, выглядел гораздо старше. Оба одновременно поприветствовали гостью.
На первый взгляд, эта книжная лавка ничем не отличалась от всех остальных – на этажерках редкие старинные тома соседствовали с современными изданиями, в воздухе мешались запахи древней пожелтевшей бумаги и выдубленной временем древесины книжных полок, сплетаясь в единый аромат, который Эжени любила больше всего на свете. Осмотревшись повнимательнее и прочитав названия на корешках, она поняла, что эта книжная лавка все же не похожа на другие: вместо привычных романов, сборников поэзии и эссе, здесь преобладали труды по оккультным наукам и спиритизму, по астрологии и тайным учениям, по мистике и духовным практикам. Их авторы искали ответы в нездешнем, там, куда мало кто осмеливался заглядывать. Немного боязно было ступать в этот мир – как будто предстояло свернуть со знакомой дороги и углубиться в неведомый универсум, благодатный и пленительный, покрытый тайной и молчанием, тем не менее совершенно реальный. В этой книжной лавке царила атмосфера запретного, но манящего царства, о котором не дозволено говорить вслух.
– Вам чем-нибудь помочь, мадемуазель?
Двое мужчин смотрели на нее из глубины книжной лавки.
– Я ищу «Трактат о ду́хах».
– У нас есть несколько экземпляров.
Эжени подошла ближе. Стариковские глаза в сеточке морщин смотрели на нее из-под густых белых бровей с приязнью и любопытством.
– Вы впервые знакомитесь с этим автором?
– Да.
– Вам его порекомендовали?
– Честно признаться, нет. Я слышала, как некие молодые господа, весьма благонамеренные, хулили его суждения, поэтому мне захотелось почитать.
– Как забавно! Это наверняка понравится моему другу.
Эжени непонимающе взглянула на старика, и тот приложил ладонь к груди:
– Я Пьер-Гаэтан Лемари. Аллан Кардек – мой друг. – Говоря это, издатель заметил темное пятнышко на радужке глаза Эжени. На его лице отразилось удивление, затем он улыбнулся: – Думаю, эта книга многое вам объяснит, мадемуазель.
Из книжной лавки Эжени вышла в превеликом смятении. Это было странное место, там казалось, будто содержание расставленных на полках книг источает необычную энергию, которая накапливается в четырех стенах. И оба господина разительно отличались от тех, кого она встречала в Париже. В их взглядах не было ни враждебности, ни одержимости – оба смотрели на нее внимательно и дружелюбно. Еще казалось, будто они владеют знанием о том, что другим неведомо. При этом издатель разглядывал ее так пристально, словно распознал в ней нечто особенное, но Эжени не понимала, что именно. Она и без того разволновалась, так что решила пока об этом не думать.
Спрятав трактат под накидку, девушка пустилась в обратный путь.
* * *
Часы с маятником в спальне прозвонили три раза. Кофейник уже опустел, на дне чашки осталось немного остывшего кофе. Эжени закрывает книгу, которую только что дочитала до конца, и замирает с ней в руках. В тишине комнаты она не слышит тиканья часов, не чувствует, что голые руки покрылись мурашками от холода. Бывают странные моменты, когда мир вдруг перестает быть таким, каким он раньше казался, и самые незыблемые представления о действительности рушатся под влиянием новых идей, ведущих к осмыслению совсем другой реальности. Эжени думает, что до сих пор она смотрела в неверном направлении, а теперь ее заставили повернуть голову и увидеть именно то, что она должна была видеть всегда. Ей вспоминаются слова издателя, услышанные несколько дней назад: «Эта книга многое вам объяснит, мадемуазель», – и слова дедушки, призывавшего ее не бояться. Но как можно не бояться того, что в твоих глазах столь абсурдно, дико и невообразимо? Раньше она была уверена, что есть лишь одно объяснение: ее видения вызваны психическим расстройством. Видеть покойников – признак умопомешательства. Рассказать об этом кому-то – значит обеспечить себе немедленную изоляцию от общества. И ее не поведут к врачу, а прямиком отправят в Сальпетриер. Эжени смотрит на книгу, которую не выпускает из рук. Ей пришлось ждать целых семь лет, чтобы наконец узнать правду о себе на этих страницах. Семь лет, чтобы перестать чувствовать себя ненормальной. Для нее тут каждое слово исполнено смысла: душа продолжает жить после смерти тела; не существует ни рая, ни полного небытия; бестелесные сущности присматривают за людьми, указывают им путь и всячески опекают, как дедушка опекает ее; некоторые индивиды наделены способностью видеть и слышать духов – в том числе она. Разумеется, ни одна книга, ни одна философская доктрина не может претендовать на абсолютную истину – это лишь попытки найти объяснения, и личное дело каждого, какое из объяснений принять, ибо любому человеку, вполне естественно, нужны конкретные доказательства.
Христианские идеи никогда не казались ей убедительными – Эжени не отрицала возможность существования Бога, но предпочитала думать о Нем как о неком абстрактном понятии. Поверить в рай и ад было еще труднее – жизнь и так преисполнена страданий, поэтому мысль о том, что наказание будет длиться и после смерти, выглядит абсурдной и несправедливой. Следовательно – да, предположение, что призраки существуют и что они тесно связаны с людьми, можно допустить; утверждение, что цель жизни на земле состоит в постоянном нравственном самосовершенствовании, она готова принять, а знание о том, что с физической кончиной ничего не заканчивается, придает ей уверенности и освобождает от страха перед жизнью и смертью. Ее мировоззрение никогда еще не подвергалось такой встряске, и никогда она не испытывала такого облегчения.
Теперь Эжени наконец знает, кто она такая.
* * *
Следующие несколько дней Эжени наслаждалась душевным покоем. Семейство, наблюдая за ней во время совместных трапез, удивлялось – за столом царила безмятежность, отцовские замечания принимались с улыбкой. Так скромно и благонравно она себя еще никогда не вела, и все пришли к наивному заключению, что девица наконец-то образумилась и возмечтала о замужестве. Но тайна, которую она теперь безмолвно хранила, еще не подсказала ей, как быть дальше. Эжени твердо знала лишь одно: ей больше нечего делать в отчем доме. Необходимо сблизиться с людьми, разделяющими ее убеждения. Ее место там, подле них. Свой дальнейший путь предстоит согласовать с новой философией. Перемены, произошедшие в ней, требуют тщательно продумать будущее и действия на ближайшее время.
Весной она покинет этот дом.
* * *
– Ты такая умница в последние дни, Эжени.
Бабушка лежит в постели, умостив голову на подушке. Внучка поправляет одеяла, укрывшие хрупкое старческое тело.
– Надеюсь, вам это по нраву, ведь папенька теперь не сердится из-за меня.
– Ты все время в задумчивости. Неужто встретила молодого человека?
– К счастью, на размышления меня наводят вовсе не молодые люди. Выпьете отвар перед сном?
– Нет, милая. Присядь-ка сюда.
Эжени опускается на краешек кровати. Бабушка берет ее руку в свои. Свет масляной лампы играет с тенями, вырисовывая их силуэты и выхватывая из темноты предметы мебели в спальне.
– Я же вижу – тебя что-то беспокоит. Можешь мне довериться.
– Ничто меня не беспокоит. Наоборот, все хорошо.
Эжени улыбается бабушке. Она уже несколько дней раздумывает о том, не открыть ли ей свой секрет. Бабушка уж точно выслушает до конца и не назовет сумасшедшей. Искушение слишком сильно – Эжени отчаянно хочется излить душу, рассказать кому-нибудь о том, что она видела и чувствовала до сих пор, поделиться своим смятением и радостью. Тогда бремя тайны будет не таким тяжелым. Но она не может решиться. Риск слишком велик – вдруг мать случайно пройдет по коридору в момент ее признаний и что-то услышит, или бабушка попросит почитать «Трактат о духах» и по рассеянности забудет его в гостиной у всех на виду. Эжени не доверяет этим стенам. Она непременно расскажет обо всем бабушке, но потом, когда переедет из отцовской квартиры в другое место.
В спальне распространяется запах парфюмерной воды. Эжени, сидящая рядом с пожилой женщиной, узнаёт этот древесный аромат с нотками смоковницы, тот самый, что помнит с детства. Смоковницей пахла дедушкина рубашка, когда он подхватывал маленькую Эжени на руки. Дыхание девушки замедляется. Знакомая усталость мало-помалу сковывает члены. С каждом выдохом из нее испаряется энергия. Эжени опускает веки, слабея под навалившейся тяжестью, затем открывает глаза – он здесь, стоит напротив, спиной к закрытой двери. Она видит его так же отчетливо, как бабушку, которая в это время с удивлением смотрит на внучку. Эжени узнаёт светлые волосы, зачесанные назад, глубокие морщины на щеках и на лбу, белоснежные усы – он имел привычку подкручивать их кончики двумя пальцами, большим и указательным, – щегольский шейный платок, серо-голубой кашемировый жилет, идеально подобранный к узорчатым панталонам, облегающим длинные худые ноги, неизменный бордовый редингот… Дедушка неподвижен.
– Эжени!
Она не слышит бабушкин оклик – в голове звучит голос деда:
«Медальон не украден. Он в комоде, под самым нижним ящиком, справа. Скажи ей».
Эжени, встрепенувшись, обращает лицо к бабушке – та приподнялась на подушках и протягивает к ней хрупкие руки:
– Деточка, да что же с тобой такое? Ты так замерла, будто с тобой говорит Господь.
– Ваш медальон…
– Что?
– Медальон, бабушка.
Эжени встает, берет масляную лампу и, подойдя к массивному комоду из палисандра, опускается рядом с ним на колени. Она принимается доставать один за другим тяжелые ящики, аккуратно ставит их на пол. Бабушка тоже встала, накинула на плечи шаль. Не решаясь пошевелиться, она некоторое время наблюдает за внучкой.
– Эжени, объясни мне наконец, что происходит. Почему ты вспомнила о моем медальоне?
Все шесть ящиков уже на полу. Эжени шарит рукой в глубине комода, ощупывает доски в дальнем правом углу и поначалу не чувствует ничего особенного, потом вдруг палец попадает в дыру. Дыра не настолько большая, чтобы в нее можно было просунуть кисть, но туда вполне могло бы провалиться небольшое украшение. Эжени несколько раз ударяет кулаком по старой рассохшейся деревянной планке – та с треском поддается.
– Медальон в самом низу. Попросите Луи принести проволоку.
– Эжени, право слово…
– Прошу вас, бабушка, доверьтесь мне.
Встревоженный взгляд пожилой женщины на секунду застывает на ее лице, затем бабушка выходит в коридор. Деда Эжени сейчас не видит, но знает, что он еще здесь, – у комода сильнее пахнет парфюмерной водой. Он совсем рядом.
«Ты можешь ей рассказать, Эжени».
Девушка закрывает глаза. Тело налилось свинцом. Она слышит шаги бабушки и Луи, молча вошедших в комнату. Дверь бесшумно закрывается за ними. Луи без лишних вопросов протягивает Эжени моток металлической проволоки. Она отламывает кусок, сгибает прутик на конце так, что получается нечто вроде крючка, и опускает его в дыру. Под этой планкой есть еще одна, потолще – днище комода, а между ними пустое пространство. Эжени осторожно исследует крючком каждый сантиметр деревянной поверхности.
В конце концов крючок на что-то натыкается. Девушка осторожно сгибает проволоку еще в одном месте, чтобы другой конец мог двигаться точно по горизонтали. Слышно, как крючок чиркает по металлу. Эжени с бьющимся сердцем поворачивает проволоку, пытаясь зацепить то, что может оказаться цепочкой от медальона. Несколько замысловатых маневров – и из дыры показывается серая цепочка, она тянет за собой какой-то предмет. При свете лампы цепочка оказывается запыленной позолоченной, она висит на крючке из проволоки, а на другом ее конце качается вермелевый[2]2
Вермель – позолоченное серебро.
[Закрыть] медальон. Эжени протягивает его бабушке, и пожилая женщина, охваченная чувством, которого ни разу не испытывала после смерти супруга, подносит обе ладони ко рту, чтобы сдержать рыдания.
* * *
В тот самый день, когда бабушка с дедушкой познакомились, он, восемнадцатилетний, поклялся взять ее в жены. Бабушке тогда было шестнадцать. И еще до помолвки в знак подтверждения своей клятвы он преподнес ей подарок – фамильную драгоценность, передававшуюся из поколения в поколение много веков. Это был овальный вермелевый медальон, украшенный по контуру жемчугом в темно-синей оправе. В середине была миниатюра – женщина, наполняющая амфору водой из реки, – а с обратной стороны украшения будущий дед Эжени положил под стеклянную крышку прядь своих белокурых волос.
Бабушка надевала медальон каждое утро, без исключений, с того самого дня, когда получила его в дар, и потом, в ту пору, когда уже вышла замуж, когда родился их единственный сын, когда увидели свет внуки. В младенческом возрасте Эжени очень нравилось это украшение – девочка хваталась за него ручонками, едва увидев, дергала и теребила; тогда бабушка, из страха, что ребенок сломает драгоценную вещицу, спрятала медальон в нижний ящик комода, решив, что будет снова его носить, как только внучка немного подрастет. В то время семейство Клери занимало те же апартаменты на бульваре Османа; ее супруг и сын вели дела в нотариальной конторе, а она вместе с невесткой занималась детьми. Однажды после полудня, когда обе женщины гуляли в парке Монсо с маленьким Теофилем и кормилицей, слуга, которого Клери наняли совсем недавно, воспользовался отсутствием хозяев, чтобы обчистить богатые апартаменты. Он украл сколько смог унести – столовое серебро, часы, драгоценности, все, что мало-мальски блестело. Вернувшись к вечеру домой, женщины с ужасом обнаружили картину ограбления. Медальон, лежавший в нижнем ящике комода, тоже исчез. Решив, что слуга забрал его вместе с остальными вещами, бабушка проплакала целую неделю.