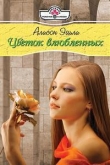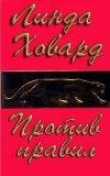Текст книги "Кёрклендские забавы"
Автор книги: Виктория Холт
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Виктория Холт
Керклендские Забавы
© Victoria Holt, 1962
© DepositРhotos.com / byallasaa, avgustin, irinabort, обложка, 2021
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2022
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2022
Глава 1
С Гэбриелом и Пятницей я познакомилась в один день, и случилось так, что потеряла я их тоже одновременно, поэтому с тех пор я не могла думать о ком-то одном из них, не вспомнив о другом. То, что моя жизнь стала частью их жизни, в некотором смысле говорит о том, какой у меня характер, потому что они оба начали постепенно пробуждать во мне желание защитить их, оградить от любых невзгод. Ведь до тех пор всю свою жизнь я заботилась лишь об одной себе и, наверное, была благодарна судьбе за то, что рядом появился кто-то еще, нуждающийся в защите. У меня никогда не было ни любимого человека, ни собаки, и когда появилась эта парочка, мое сердце, конечно же, открылось ей навстречу.
Помню тот день до мельчайших подробностей. Была весна, и над поросшими вереском пустошами уже веял свежий ветер. Из Глен-хауса я выехала после завтрака, а в те дни, покидая дом, я всякий раз преисполнялась ощущением свободы. Это чувство не покидало меня с тех пор, как я вернулась из школы в Дижоне. Быть может, оно жило во мне и прежде, но молодые женщины испытывают его куда острее, чем дети.
Дом мой можно описать как довольно мрачное место. Да и могло ли быть иначе, если все в нем напоминало о человеке, уже покинувшем этот мир? В первые дни по возвращении я приняла решение никогда не жить прошлым. Что бы со мной ни случилось, когда это закончится, я не стану оглядываться назад. В юном возрасте – а мне тогда было девятнадцать – я усвоила важный урок.
Я преисполнилась решимости жить исключительно настоящим: минувшие дни забыты, а грядущее пусть наступит как-нибудь само.
Сегодня, вспоминая те события, я понимаю, что стала легкой добычей судьбы, которая меня поджидала.
За шесть недель до того, как это случилось, я вернулась из школы, в которой провела четыре года. За все это время я ни разу не приезжала домой, потому что была родом из Йоркшира, и чтобы добраться туда, мне бы пришлось совершить долгое и недешевое путешествие через половину Франции и Англии, а обучение мое и так стоило дорого.
За годы, проведенные в школе, мое воображение до определенной степени наделило отчий дом особенностями, ему не присущими, и моя прежняя жизнь в нем стала казаться мне наполненной куда более яркими впечатлениями, чем было на самом деле, потому картинка у меня в голове отличалась от действительности. Это и стало причиной потрясения, которое я испытала по возвращении.
В дороге из Дижона меня сопровождала подруга, Дилис Хестон-Брауни, и ее мать – так пожелал мой отец, ведь в те дни не могло быть и речи о том, чтобы юная леди совершала столь долгую поездку в одиночестве. Миссис Хестон-Брауни доставила меня до вокзала Сент-Панкрас, посадила в вагон первого класса, и из Лондона до Харрогейта, где меня должны были встретить, я ехала уже одна.
Я надеялась, что встречать меня будет отец. А хорошо бы еще и дядя. Впрочем, с моей стороны рассчитывать на это было, конечно, глупо, ведь будь дядюшка Дик в Англии, он сам бы приехал за мной в Дижон.
Как оказалось, за мной прислали двуколку, которой правил Джемми Белл, отцовский конюх. Он изменился и был не похож на того человека, которого я знала четыре года назад; Джемми словно высох и от этого стал выглядеть моложе. Конюх, которого я, как мне думалось, знала очень хорошо, оказался не совсем таким, каким я его представляла! Это открытие стало для меня первым маленьким потрясением.
Джемми оценил взглядом размер моего багажа и присвистнул. Потом улыбнулся.
– Ба, мисс Кэти, вы выросли. Теперь вы настоящая важная леди.
Еще одно напоминание о былой жизни. В Дижоне меня звали «Кэтрин» или «мадемуазель Кордер». «Мисс Кэти» прозвучало как обращение к кому-то другому.
Конюх недоверчиво посмотрел на мой зеленый бархатный дорожный плащ с рукавами, отделанными овчиной, и съехавшую мне на глаза соломенную шляпку, украшенную венком из маргариток. Мой вид озадачил Джемми: в нашей деревне такой модный наряд можно было увидеть нечасто.
– Как отец? – поинтересовалась я. – Я думала, меня встретит он.
Джемми выпятил нижнюю губу и покачал головой.
– Подагра совсем его одолела. Ему не выдержать тряски. К тому же…
– К тому же что? – быстро спросила я.
– Как вам сказать… – заколебался Джемми. – Он сейчас как раз выходит из своего очередного приступа…
Мне стало немного не по себе, когда я вспомнила ужасные отцовские приступы, омрачавшие те далекие дни.
«Не шумите, мисс Кэти. У вашего батюшки приступ…»
Эти страшные приступы приходили в наш дом регулярно, и, когда это случалось, мы ходили на цыпочках и разговаривали шепотом; отец же пропадал на какое-то время и появлялся снова бледнее обычного, с темными кругами под глазами. Казалось, он не слышал, когда к нему обращались; при виде него мне становилось страшно. Прожив долгое время вне дома, я позволила себе забыть об этих жутких приступах.
– А что, дядя не вернулся? – быстро спросила я.
Джереми покачал головой:
– Мы не видели его уже полгода, даже больше. Думаю, нам придется ждать его еще года полтора.
Я кивнула. Дядя Дик был капитаном морского судна; он писал мне, что отправился на другой конец мира, где собирался несколько месяцев заниматься какими-то своими делами.
Мне стало грустно. Если бы дядя был дома, мое возвращение прошло бы для меня куда радостнее.
Мы довольно скоро катили по дороге, и мои воспоминания оживали все сильнее. Я думала о доме, в котором жила до тех пор, пока дядя Дик не решил, что мне пришло время отправиться в школу. Рассказывая об отце, я наделяла его чертами дяди Дика. Я смела старую паутину времени и впустила яркий солнечный свет. Место, которое я описывала своим подругам, было домом, где я хотела бы жить, а не домом, который я знала.
Но теперь время мечтаний прошло. Меня ждала встреча с реальностью.
– Вы замолчали, мисс Кэти, – заметил Джемми.
И это была правда. Разговаривать мне не хотелось. Вопросы вертелись у меня на языке, но я не задавала их, потому что знала: ответы Джемми будут не такими, какие мне хотелось бы получить. Мне предстояло все узнать самой.
Мы продолжали ехать по дорогам, порой настолько узким, что ветки росших по обочинам кустов норовили сорвать с меня шляпку. Но вскоре пейзаж должен был измениться: вместо аккуратных полей и узких дорог нашим взглядам предстанут места более суровые; лошадка будет неторопливо подниматься на холм, а я – вдыхать ароматы бескрайних, поросших вереском пустошей.
В ту минуту при мысли об этом на меня нахлынула неожиданная волна счастья и я поняла, как сильно скучала по этим краям с тех пор, как их покинула.
Джемми, должно быть, заметил, как изменилось выражение моего лица, потому что обронил:
– Уже недолго, мисс Кэти.
И вот наконец наша деревня. Гленгрин. Несколько домиков, жмущихся к церкви, постоялый двор, огороды и коттеджи. Мы проехали мимо церкви, через белые ворота, по подъездной дорожке, и перед нами предстал Глен-хаус. Он показался мне меньше, чем я себе представляла, за опущенными жалюзи виднелись кружевные занавески, но я знала, что внутри на окнах висят тяжелые драповые шторы, которыми можно наглухо задернуть окна.
Будь дядя Дик дома, он бы отдернул шторы, поднял жалюзи, и Фанни стала бы причитать, что от солнца выгорает мебель, а отец… отец даже не услышал бы ее.
Когда я выбиралась из двуколки, из дома вышла Фанни, услышавшая, как мы подъехали.
Можно было подумать, что эта типичная с виду йоркширка, невысокая и полная, как бочонок, обладает веселым нравом, но она не была хохотушкой. Наверное, это годы, проведенные в нашем доме, сделали ее строгой.
Критически осмотрев меня, Фанни произнесла своим обычным твердым голосом, слегка растягивая гласные:
– За это время вы совсем истощали.
Я улыбнулась. Необычное приветствие для женщины, не видевшей меня четыре года, единственной, кого я могла бы назвать матерью. Впрочем, я и ожидала чего-то подобного, ведь Фанни никогда не была нежна со мной. Ей казалось, как она выражалась, «глупым» выставлять напоказ свою привязанность к кому-либо, и чувствам своим она позволяла проявляться только в те минуты, когда она бранила меня за что-то. И все же эта женщина прекрасно изучила мои наклонности и природные потребности. Она строго следила за тем, чтобы я всегда была накормлена и должным образом одета. Никаких излишеств и, как она это называла, «всякой мишуры» мне носить не разрешалось. Фанни весьма гордилась своей прямотой, нежеланием вуалировать правду и привычкой откровенно высказывать собственное мнение, зачастую довольно нелицеприятное. Я прекрасно видела ее положительные качества, но прежде редко заслуживала проявления ее любви, пусть даже неискренней. Сейчас все эти воспоминания нахлынули на меня. Фанни осматривала мою одежду, и ее уста кривились; как же хорошо я помнила это движение ее губ!
Почти не умевшая улыбаться от удовольствия, Фанни всегда была готова презрительно ухмыльнуться.
– Вот, значит, как вы там одеваетесь? – Ее губы снова дрогнули.
Я спокойно кивнула.
– Отец дома?
– Кэти…
Это был его голос. Он спускался по лестнице в холл. Отец был бледен, под глазами залегли тени, и я, впервые взглянув на него глазами взрослого человека, подумала: он выглядит каким-то растерянным, как будто чувствует себя чужим в этом доме… или в этом времени.
– Отец!
Мы обнялись, но, хоть он и попытался изобразить нежность, я почувствовала, что это неискренне. У меня появилось странное ощущение, словно отец не рад моему возвращению, как будто ему хотелось от меня избавиться и он предпочел бы, чтобы я оставалась во Франции.
И там, в нашем сумрачном холле, не пробыв в доме и пяти минут, я почувствовала, как гнетет меня это здание, и во мне пробудилось желание его покинуть.
Как жаль, что меня встречал не дядя. Тогда мое возвращение было бы совсем другим!
Дом сомкнулся вокруг меня. Я направилась в свою комнату, где солнце пробивалось сквозь жалюзи. Я подняла их, впустив в помещение свет, потом открыла окно. Моя комната находилась на верхнем этаже, поэтому окрестности из нее были видны как на ладони, и при взгляде на них у меня по телу от удовольствия побежали мурашки. Эти места совсем не изменились и все так же меня радовали. Мне вспомнилось, какой восторг доставляло мне катание на собственном пони, хоть меня всегда сопровождал кто-то из работников конюшни. Когда дядя Дик бывал дома, мы катались вместе, ехали то рысью, то галопом, и ветер бил нам в лицо. Помню, мы часто останавливались у кузнеца, и пока какой-нибудь из лошадей меняли подкову, запах прижигаемых копыт щекотал мне ноздри; я сидела на высоком табурете и попивала из стакана домашнее вино Тома Энуисла. От вина я немного пьянела, и это чрезвычайно забавляло дядю Дика.
– Ох и веселый вы человек, капитан Кордер, ох и веселый! – не раз говорил Том Энуисл моему дяде.
Однажды я вдруг поняла, что дядя Дик хотел, чтобы я выросла такой же, как он, и поскольку мне самой хотелось этого больше всего на свете, между нами воцарилось согласие.
Мои мысли устремились в прошлое. Завтра, решила я, поеду кататься верхом… На этот раз одна.
Каким же долгим показался мне первый день дома! Я обошла здание, заглянула во все комнаты… темные комнаты, куда не было доступа солнцу. У нас были две служанки, Джанет и Мэри, обе уже немолодые. Они походили на бледные тени Фанни, что, впрочем, было естественно, ведь Фанни сама их выбрала и обучала.
Джемми Беллу помогали на конюшне два парня, они же ухаживали за садом. У отца никакой определенной профессии не было. Он был из тех, кого называют джентльменами. Окончив с отличием Оксфорд, он какое-то время преподавал и увлекся археологией, которая привела его в Грецию и Египет. Когда он женился, моя мать стала путешествовать с ним, но перед самым моим рождением они осели в Йоркшире, где отец собирался писать книги по археологии и философии. Кроме того, он пробовал себя в живописи. Дядя Дик как-то сказал, что беда моего отца в том, что он слишком талантлив, тогда как сам дядя, не имея вовсе никаких талантов, стал простым моряком.
Как же часто я мечтала о том, чтобы моим отцом был дядя Дик!
В промежутках между плаваниями дядя жил с нами. Это он навещал меня в школе. Таким я и рисовала его в своем воображении: вот он стоит посреди зала с белыми стенами, куда провела его Madame la Directrice[1]1
Госпожа директриса (фр.). (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)
[Закрыть], ноги широко расставлены, руки в карманах, вид такой, будто все это место принадлежит ему. Мы были очень похожи, и я никогда не сомневалась, что под его пышной бородой скрывается такой же острый подбородок, как у меня.
Дядя подхватил меня на руки, оторвал от пола, как когда-то в детстве. Думаю, будь я старухой, он сделал бы то же самое. Это был способ показать мне, насколько я дорога ему… А он мне. «С тобой здесь хорошо обращаются?» – спросил дядя, и его глаза вдруг воинственно сверкнули, словно он готов был ринуться в бой с моими обидчиками.
Он ненадолго забрал меня из школы. Мы ехали по городу в тарахтевшей коляске, которую он нанял, заходили в магазины, покупали для меня одежду, потому что дядя увидел нескольких девочек из моей школы и решил, что они выглядят элегантнее, чем я. Ах, милый дядя Дик! После той встречи он добился, чтобы мне выплачивали хорошее пособие, и именно по этой причине я вернулась домой с целым сундуком нарядов самых разнообразных фасонов и видов, которые, как меня убеждали дижонские модельеры, привозили прямиком из Парижа.
Но сейчас, стоя у окна и глядя на пустошь, я понимала, что одежда никак не влияет на характер человека. Я оставалась собой даже в роскошных парижских платьях и была совсем не похожа на девочек, с которыми провела несколько лет в Дижоне. Дилис Хестон-Брауни предстояло блистать на лондонских сезонах, а Мари де Фрис собирались представить в парижском свете. Это были мои ближайшие подруги, и перед расставанием мы поклялись, что наша дружба будет продолжаться, пока мы живы. Я уже начинала сомневаться, что когда-либо увижу их снова.
Таково было влияние Глен-хауса и окрестных пустошей. Здесь перед тобой открывалась истина, какой бы неромантичной, какой бы неприятной она ни была.
Мне казалось, что этот день никогда не закончится. Поездка была такой интересной, наполненной событиями, но тут, в задумчивом покое дома, казалось, будто за все это время ничего не изменилось. Если и были какие-то перемены, то лишь потому, что теперь я смотрела на жизнь глазами взрослой женщины, а не ребенка.
В ту ночь мне не спалось. Я лежала в кровати, думая о дяде Дике, об отце, о Фанни, обо всех обитателях этого дома. Я думала о том, как странно, что мой отец женился и обзавелся дочерью, а дядя остался холостяком. А потом вспомнила, как кривились губы Фанни, когда она упоминала дядю Дика, и я знала почему: она не одобряла его образ жизни и втайне надеялась, что когда-нибудь он плохо кончит. Теперь мне все стало ясно. Дядюшка Дик не был женат, но это не означало, что у него не было любовниц. Я вспомнила лукавый блеск, который замечала в его глазах, когда он смотрел на дочь Тома Энуисла, про которую говорили «слишком уж ветреная». Я вспомнила, как часто перехватывала многочисленные взгляды, которые дядя Дик бросал на женщин.
Однако детей у него не было, и для него, человека столь жадного до жизни, было привычным делом хищно поглядывать на дочь своего брата и относиться к ней как к своей собственности.
Тем вечером, прежде чем лечь в постель, я долго рассматривала свое отражение в зеркале туалетного столика. Свет свечей смягчил черты моего лица, и оно стало казаться – нет, не красивым и даже не симпатичным, скорее интересным. Зеленые глаза, черные прямые волосы, тяжело падавшие на плечи, когда я их распускала. Если бы их можно было всегда носить так, а не в виде двух кос, уложенных вокруг головы, я бы выглядела куда привлекательнее. Бледное, с выпирающими скулами и воинственно заостренным подбородком (я тогда подумала: то, что происходит с нами, неизменно оставляет следы на нашем облике), – у меня было лицо человека, которому приходится сражаться. Я сражалась всю свою жизнь. Мой внутренний взор обратился в детство, в те дни, когда дяди Дика не было дома, я вспомнила время, когда его не было рядом, и увидела здорового, крепкого ребенка с двумя черными косами и дерзким взглядом. Теперь я понимала, что в том погруженном в покой здании я держалась враждебно; подсознательно я чувствовала, что мне чего-то не хватало, и оттого, что я провела долгое время в школе и не раз слышала от других рассказы об их домашней жизни, мне со временем открылось, чего хотел тот ребенок: я поняла, что та девочка злилась и вела себя вызывающе, потому что не могла обрести этого. Я жаждала любви.
Я ощущала некое ее подобие, только когда домой возвращался дядя Дик. В такие дни меня одаривали неудержимой, собственнической страстью, но нежной родительской любви я не знала.
Быть может, я поняла это не в ту первую ночь, быть может, осознание этого пришло позже, а может быть, это стало для меня объяснением, почему я без оглядки отдалась отношениям с Гэбриелом.
И все же в ту ночь мне открылось нечто новое. Уснуть по-настоящему я смогла только под утро, но, задремав среди ночи, очнулась от крика. Поначалу я не поняла, действительно ли я его услышала или он мне приснился.
– Кэти! – произнес полный мольбы и муки голос. – Кэти, вернись!
Я вздрогнула, но не оттого, что услышала свое имя, а от беспредельной тоски и призыва, с которыми оно было произнесено.
Сердце заколотилось у меня в груди; то был единственный звук в безмолвном доме.
Я села на кровати и прислушалась. Потом вспомнила такой же случай, произошедший со мной еще до отъезда во Францию. Тогда я точно так же внезапно проснулась среди ночи оттого, что услышала, как кто-то зовет меня по имени!
Почему-то меня бросило в дрожь. Я не верила, что этот голос мне приснился. Кто-то в самом деле произнес мое имя.
Я встала с кровати и зажгла одну из свечей. Подошла к окну, которое открыла на ночь. У нас считалось, что ночной воздух опасен и ночью окно нужно плотно закрывать, но мне до того хотелось насладиться свежим ароматом вереска, что я пренебрегла старинными правилами. Я перегнулась через подоконник и посмотрела на окно этажом ниже. В этой комнате, как и раньше, жил мой отец. У меня отлегло от сердца: я поняла, что этой ночью, как и тогда в детстве, слышала голос отца, говорившего во сне. Он звал Кэти.
Мою мать тоже звали Кэтрин. Ее я помнила лишь смутно… не как человека, а как некое присутствие. Или этот образ был лишь плодом моего воображения?
Мне казалось, что я помню, как она держала меня на руках, причем сжимала так сильно, что я вскрикнула, оттого что не могла дышать. Потом это кончилось и у меня появилось странное ощущение, что я больше никогда ее не видела, что потом никто никогда не обнимал меня, потому что, когда меня обняла мать, я недовольно вскрикнула.
Не это ли причина отцовской грусти? Быть может, спустя столько лет он все еще видел во сне покойную жену? Наверное, что-то во мне напоминало ему о ней. Это было вполне естественно и могло бы все объяснить. Возможно, мое возвращение оживило старые воспоминания, прежние печали, о которых лучше навсегда забыть.
Как долго тянулись дни, какая тишина царила в доме! Это был дом стариков, людей, чья жизнь принадлежала прошлому. Я чувствовала, как во мне снова просыпается дух непокорства. Я не принадлежала этому дому.
С отцом мы виделись за обеденным столом. После этого он удалялся в свой кабинет писать книгу, которая никогда не будет закончена. Фанни ходила по дому, раздавая указания с помощью жестов и взглядов. Она была женщиной немногословной, но ее цоканье и надутые губы бывали весьма красноречивыми. Прислуга боялась Фанни: та могла уволить любого. Я знала, что она нарочно запугивала служанок, постоянно напоминая им о возрасте, дескать, если я вас выгоню, кто вас, старух, захочет нанять?
На мебели не было ни пылинки; кухня дважды в неделю наполнялась ароматом пекущегося хлеба; хозяйство велось идеально. Настолько, что мне даже захотелось хаоса.
Я скучала по жизни в школе, которая в сравнении с обитанием в отцовском доме казалась полной захватывающих приключений. Я вспоминала комнату, которую делила с Дилис Хестон-Брауни; двор под окном, с которого постоянно доносились голоса девочек; периодический звон колоколов, заставлявший чувствовать себя частью большой оживленной общины; секреты; хохот; драмы и комедии, сопровождавшие нашу жизнь, казавшуюся теперь, по прошествии времени, завидно беззаботной.
В течение тех четырех лет я несколько раз ездила отдыхать с людьми, тронутыми моим одиночеством. Однажды я отправилась в Женеву с Дилис и ее семьей, а в другой раз съездила в Канны. Но мне запомнились не красоты Женевского озера и не лазурное море в обрамлении Приморских Альп, а ощущение близости между Дилис и ее родителями, которое ей казалось чем-то само собой разумеющимся, а у меня вызывало жгучую зависть.
Однако, оглядываясь назад, я понимала, что ощущение одиночества настигало меня лишь изредка, ибо бóльшую часть времени я гуляла, ездила верхом, купалась и играла с Дилис и ее сестрой, словно была членом их семьи.
Однажды во время каникул, когда остальные ученицы разъехались по домам, меня на неделю отвезла в Париж одна из наших учительниц. Эта поездка была совсем не похожа на отдых с беззаботной Дилис и ее добрейшими родственниками, поскольку мадемуазель Дюпон больше всего заботило мое культурное образование. Теперь я улыбаюсь, думая о тех беспокойных днях, о часах, проведенных в Лувре среди полотен старинных мастеров, о поездке в Версаль на урок истории. Мадемуазель Дюпон решила, что ни одну секунду нельзя потратить впустую. Но больше всего мне запомнилось, как она говорила обо мне со своей матерью. Я была «бедняжкой, которую оставили в школе на каникулы, потому что ей некуда податься».
Я расстроилась, когда услышала это, и необычайно остро почувствовала отчаянное одиночество. Никому не нужная! Матери нет, а отец не хочет, чтобы дочь приезжала домой на каникулы. И все же я, как любой ребенок, быстро позабыла об этом и вскоре полностью отдалась очарованию Латинского квартала, магии Елисейских полей и блеску витрин на Рю-де-ля-Пе.
Письмо от Дилис заставило меня вспомнить те дни с тоской по прошлому. У моей подруги, готовившейся к лондонскому сезону, жизнь складывалась прекрасно.
Милая Кэтрин, я едва нашла минутку, чтобы написать тебе. Мне очень давно хотелось это сделать, но постоянно что-то мешало. Я буквально живу у портних, они мне все время что-то подправляют, перешивают. О, ты бы видела эти платья! Если бы их показали мадам, она, наверное, завопила бы от ужаса. Но мама твердо решила, что мне нельзя остаться незамеченной. Она составляет список приглашенных на мой первый бал. Представляешь? Уже! Ах, как бы мне хотелось, чтобы и ты была здесь! Прошу, напиши, какие у тебя новости…
Я представляла Дилис и ее семью в их доме с конюшнями в Найтсбридже, рядом с парком. Как же ее жизнь отличалась от моей!
Я хотела ответить ей, но, что бы я ни написала, получалось мрачно и тоскливо. Могла ли Дилис понять, каково это – не иметь матери, которая строит вместо тебя планы на твое будущее, и страдать от холодности отца, который настолько занят своими делами, что не замечает возвращения дочери?
Поэтому на письмо Дилис я так и не ответила.
С каждым днем дом казался мне все невыносимее, я все больше времени проводила на свежем воздухе, катаясь верхом. Фанни криво усмехалась, глядя на мою амазонку, самую модную в Париже, купленную благодаря щедротам дядюшки Дика, но мне было все равно.
Однажды Фанни сказала мне:
– Ваш отец сегодня уезжает.
Лицо ее при этом было непроницаемым, будто закрытая дверь, и я понимала, что Фанни нарочно сделала его таким. Невозможно было сказать, одобряет она отъезд моего отца или нет. Мне было понятно лишь то, что она хочет что-то скрыть и мне не позволено узнать эту тайну.
Потом я вспомнила, что отец и раньше, бывало, уезжал куда-то на целый день, а когда возвращался, мы все равно его не видели, потому что он запирался в своей комнате и подносы с едой ему относили туда. Появившись наконец, он выглядел опустошенным и еще более молчаливым, чем обычно.
– Я помню, – сказала я. – Так он по-прежнему… уезжает?
– Регулярно, – ответила Фанни. – Раз в месяц.
– Фанни, куда он ездит? – прямо спросила я.
Фанни пожала плечами, мол, это не касается ни ее, ни меня, но я была уверена, что она знает.
Весь день я думала об отце, пытаясь найти ответ на этот вопрос, и наконец меня осенило. Он был не так уж стар. Сколько ему было лет, я не знаю, думаю, около сорока. Наверняка он еще не утратил интереса к женщинам, хоть и не женился снова. Я казалась себе искушенным человеком. Я множество раз обсуждала разные житейские вопросы со своими школьными подругами, многие из которых были француженками. А французы всегда куда более сведущи в подобных делах, чем мы, англичане, хоть и считаем себя людьми весьма передовых взглядов. Я решила, что у моего отца была любовница, к которой он регулярно наведывался, но на которой никогда не женится, потому что никто не мог заменить мою мать. После этих встреч, считала я, он возвращался домой, терзаемый угрызениями совести, потому что, хоть мамы давно не было на свете, он продолжал любить ее и считал, что этим оскверняет память о ней.
Вернулся отец следующим вечером, и все было примерно так, как мне помнилось. Я не видела, как он приехал, знала лишь, что теперь он снова сидит взаперти у себя в комнате, что он не выходит к столу и что еду носят ему наверх.
Когда же отец появился, вид у него был до того несчастный, что мне захотелось его утешить.
Вечером за ужином я обратилась к нему:
– Отец, вы не заболели?
– Заболел? – Его брови тревожно сдвинулись. – С чего ты взяла?
– Вы так бледны, и у вас усталый вид. По-моему, вас что-то беспокоит. Я подумала, может, я могу чем-то помочь… Я ведь уже не ребенок.
– Я не болен, – отрезал он, не глядя на меня.
– Тогда…
Заметив нетерпеливое выражение на его лице, я заколебалась. Но решила, что не позволю так просто от меня отделаться. Он нуждался в добром слове, и мой дочерний долг велел прийти ему на помощь.
– Отец, послушайте, – смело сказала я. – Что-то не так, и я это чувствую. Возможно, я смогу вам помочь.
Тут он взглянул на меня, и нетерпеливое выражение сменилось холодным спокойствием. Я понимала, что отец намеренно выстроил стену между нами, что ему неприятна моя настойчивость и он воспринимает ее как проявление любопытства.
– Мое дорогое дитя, – тихо промолвил он, – у тебя слишком развитое воображение.
Он взял нож и вилку и принялся за еду с куда бóльшим интересом, чем до того, как я заговорила. Я поняла. Это было вежливое указание оставить его в покое.
Редко когда я чувствовала себя так одиноко, как в тот миг.
После этого наше общение утратило последние остатки непринужденности и часто, когда я обращалась к отцу, он даже не отвечал мне. В доме говорили, что у него был очередной «приступ».
Дилис написала снова; она сетовала, что я так и не рассказала ей, как у меня дела. Читать ее письма было все равно что слушать ее: короткие предложения, подчеркивания, восклицательные знаки – все это производило впечатление возбужденного, сбивчивого рассказа. Она училась делать реверанс, брала уроки танцев: великий день приближался. Было чудесно оказаться вдали от властной мадам и чувствовать себя не школьницей, а модной леди.
Я снова попыталась написать ответ, но что я могла ей рассказать? Только одно: мне отчаянно одиноко. Я живу в доме, полном уныния. О Дилли, ты радуешься тому, что учеба в школе закончилась, а я здесь, в этом тоскливом месте, мечтаю о том, чтобы вернуться в школу…
Разорвав письмо, я отправилась в конюшню седлать Ванду, кобылу, которую выбрала после возвращения. Я чувствовала себя так, будто угодила в паутину своего детства, и мне казалось, что в жизни моей уже никогда не будет места радости и веселью.
Но настал день, когда в ней появились Гэбриел Рокуэлл и Пятница.
В тот день я, как всегда, отправилась кататься по пустоши и, несясь галопом по торфянику к твердой дороге, вдруг заметила женщину с собакой. Остановить лошадь меня заставил плачевный вид пса. Он был тощий, жалкий, с веревкой на шее, заменяющей поводок. Животные всегда были близки моему сердцу, и я никогда не могла равнодушно пройти мимо страдающего существа. Женщина, как я поняла, была цыганкой, что меня нисколько не удивило, потому что на пустоши находилось несколько таборов и бродяги нередко подходили к нашему дому, предлагая купить крючки для одежды, корзины или вереск, который мы и сами могли нарвать. Фанни их терпеть не могла. «От меня они ни гроша не дождутся! – бывало, кипятилась она. – Цыгане – сборище отпетых лентяев, все до единого».
Остановившись рядом с женщиной, я сказала:
– Может, вы понесете его? Он же совсем обессилел.
– А вам какое дело? – грозно ответила она, и из-под спутанных, некогда черных, но уже начинающих седеть волос на меня сверкнули острые маленькие, как бусинки, глаза.
Затем выражение ее лица изменилось. Она заметила мою модную амазонку, ухоженную лошадь, и ее взгляд мгновенно стал алчным. Я была джентри[2]2
Джентри – нетитулованное среднее и мелкое дворянство в Англии.
[Закрыть], а джентри для того и нужны, чтобы их надувать.
– У меня во рту уже два дня даже маковой росинки не было. Я не лгу, леди, это святая правда.
Однако она ничуть не походила на голодающую, чего нельзя было сказать о животном. Глазки пса, несмотря на его печальное состояние, смотрели живо и внимательно; это была небольшая дворняжка, немного похожая на терьера. Ее взгляд тронул меня: мне вдруг подумалось, что она умоляет ее спасти. В эти первые секунды меня потянуло к собаке, и я поняла, что не смогу ее бросить.
– Если кто-то и голоден, так это ваш пес, – заметила я.
– Храни вас Господь, леди, эти два дня мне нечем было с ним поделиться.
– Веревка причиняет ему боль, разве вы не видите? – добавила я.
– Иначе я не могу его вести. Будь у меня самой хоть немного сил, я бы понесла бедняжку на руках. Да откуда ж им взяться, силам? Вот подкрепиться бы хоть чуток…
Не сдержавшись, я выпалила:
– Я покупаю этого пса! Даю за него шиллинг.
– Шиллинг! Бог с вами, леди, да разве я смогу с ним разлучиться? Это же мой маленький дружочек.
Цыганка наклонилась к собаке, и по тому, как испугано сжалось животное, легко можно было догадаться об истинном положении дел. Мое желание заполучить его удвоилось.