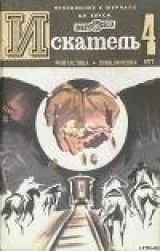
Текст книги "Долгий путь на Баргузин"
Автор книги: Виктор Вучетич
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Виктор Вучетич
ДОЛГИЙ ПУТЬ НА БАРГУЗИН
1
Верхнеудинск – маленький городок. Со всех сторон его окружают сопки, одетые хвойным лесом. Нынче, накануне рождества, трескучие морозы сковали своенравную Селенгу, намели метели высокие снега, утопили в сугробах одноэтажные дома, дворы, обнесенные двухметровыми оградами из лиственничных плах, амбары, сараи, пристанционные постройки и железнодорожные пути.
Темнело быстро. Солнце, уходя за сопки, в последний раз облило стылым огнем сизые шапки изб, бревенчатые стены цвета запекшейся крови, коротко сверкнуло в маленьких оконцах и угасло. Серая мгла окутала городок.
В эту пору по накатанной ленте Селенги, вдоль Баргузинского тракта, мелко трусила запряженная в сани низкорослая бурятская лошадка. Груз казался, велик для нее: двое широкоплечих, кряжистых ездоков, горбящихся под заиндевелой медвежьей полостью, и обложенный сеном узкий длинный ящик, конец которого высовывался из саней. Но лошадка привычно тянула свою поклажу. В виду городка она прибавила рыси. В морозном тумане, спустившемся в долину реки, глуше стали равномерный перестук копыт и скрип полозьев; заворочались, покряхтывая от долгого сидения, ездоки, выбрались из саней и торопливо зашагали рядом, шумно вдыхая сладковатый печной дым, подталкивая сани и помогая лошади подняться по береговому откосу в узкую улицу.
Сбивая сугробы, тесно обступившие проезжую часть, путники выбрались к железнодорожной станции и въехали в товарный двор, исполосованный санными колеями, притрушенный сеном и покрытый черными пятнами мазута. Остановились под навесом пакгауза, огляделись. Двор был пустынным. Неподалеку пыхтел и подавал короткие гудки маневровый паровоз, лязгали буфера сцепляемых вагонов, волнами накатывала паровозная гарь.
– Никого вроде… – сипло сказал один из путников. – Я пойду, дед. – Он помолчал, вздохнул. – Может, у нас заночуешь? Лошадь укроем…
– Нет, Олеха, – медленно заговорил второй. – Ни к чему это. Есть у меня тут знакомый… Полукровка он, но обычаи нашей веры соблюдает, да. У него остановлюсь. Рождество Христово встречу, к заутрене схожу. А там и обратно. Ступай, Олеха, лошадь застынет.
Алексей Сотников, или Олеха, как звал его старик Лешаков, постоял еще чуть, покивал утвердительно и пошел в глубь двора. Он отсутствовал долго. За это время Лешаков на ощупь проверил упряжь, стряхнул игольчатый иней с мохнатой спины лошади и, ласково потрепав ее по холке, скормил малую горбушку хлеба.
Наконец невдалеке показались силуэты четверых мужчин. Лешаков поспешно отступил во тьму навеса, соображая, что, хотя Олеха привел своих людей, все же лучше, чтобы было меньше лишних глаз да языков. Береженого и бог бережет, особенно в наше смутное время.
– Мы это, – услышал он голос Олехи и легонько кашлянул в рукавицу.
Похрустывая валенками, четверо подошли к саням, разгребли сено, приподняли ящик и поставили его поперек саней. Алексей разглядел старика, шагнул к нему, сказал вполголоса:
– Спасибо тебе, дед…
– Дак пошто благодаришь-то? Все мы православные, все под ним ходим. Прощай покуда, Олеха. В случае чего помни разговор. Поеду, мне не след задерживаться.
Алексей вынул ладонь из рукавицы, сжал дедово плечо и, повернувшись к своим, негромко сказал:
– Поднимай.
И подставил свое плечо под узкий и длинный ящик.
Лешаков посмотрел вслед уходящим, не снимая рукавицы, перекрестил их и подхватил вожжи. Лошадь дернула сани…
Они медленно несли ящик мимо сараев и пакгаузов, вышли па железнодорожные пути и, перешагивая через заметенные снегом рельсы и стрелки, направились туда, где гукал и посапывал маневровый. Возле одного из товарных вагонов их встретил хрипло и натужно кашлявший мужик в длинной, до пят, дохе. Ни слова не говоря, он откатил в сторону дверь вагона и, когда ящик опустили па пол и придвинули к стенке, закрыл дверь и опломбировал ее.
2
Сибирцев проснулся сразу, будто его кто толкнул. Откинул жаркий овчинный полушубок, вытер ладонью испарину на лбу и висках. В закутке, за печкой, где стоял его топчан, было темно и душно.
Он потянулся к столу, нашаривая спички, наткнулся на твердую кобуру маузера, опрокинул ненароком консервную жестянку, служившую ему пепельницей, и, наконец, нащупал жирный бок керосиновой лампы. Свет зажженной спички резанул по глазам. Сощурившись, Сибирцев подкрутил коптящий фитилек лампы и щелкнул крышкой «Павла Бурэ». Четверть пятого. Это значит он вовсе не спал. Короткое пятиминутное забытье.
Спустив ноги с топчана и ощущая голыми ступнями, тонкие струйки холода, сочившиеся по-над полом, он достал из кармана кожаной тужурки кисет, оторвал от газеты узкую полоску и стал неуверенными пальцами сворачивать самокрутку, размышляя при этом, какая причина вышибла из сна его, не спавшего толком уже несколько ночей подряд. Причины вроде бы не было. Но она была, не могла не быть.
Пристально разглядывая подрагивающий огонь лампы, Сибирцев послюнивал самокрутку, набитую крепчайшим хозяйским самосадом, и машинально оттягивал первую затяжку, словно бы не готов был еще закурить… А мысли текли. О чем? О службе? Пожалуй, нет. Она была привычной. Другой Сибирцев, по сути, и не знал.

Как началась в восемнадцатом, так и по сей день. Вот уж два года, считай… Последние месяцы, по возвращении в Иркутск, стало вроде бы поспокойней. Вроде бы. Потому что среди своих.
Сибирцев приподнялся, потянулся самокруткой к надколотому стеклу лампы и, втянув щеки, прикурил. Тронул ладонью подбородок и подумал, что надо бы побриться, но подумал вяло, как о постороннем. Он задохнулся и со всхлипом закашлялся. И тут же услышал, как на печи закряхтел, заворочался под жестким тулупом хозяин дома Семен Каллистратович.
– А? Чего?… – забормотал он сонно. – Слышь, Лександрыч, случилось чего? А?
Сибирцев усмехнулся: случилось… Ни днем ни ночью нет старику покоя. Нашел постояльца на свою голову.
– Спи, дядя Семен. Рано еще. Пяти нет. Просто покурить захотелось. Спи.
– А-а, – глухо вздохнул хозяин, – а я уж подумал чего…
И в этот миг сквозь толстые стены и наглухо запертые ставни донесся до Сибирцева визг кольца по тугой проволоке, протянутой наискось через двор, а следом свирепый рык и басистый гулкий лай старого кобеля Бурана. Совсем уже старого. Так, видимость одна, что сторожит.
«Вот и случилось, – мельком подумал Сибирцев, вслушиваясь в наружные звуки. – Крепко, видно, прихватил мороз».
В ворота громко застучали чем-то железным, вероятно, рукояткой нагана. Звук был отрывистым и нервным. Спокойно, будто давно ждал этого стука, Сибирцев размышлял, кто бы это мог быть. Мизинцем стряхнул пепел в банку, еще разок затянулся и пригасил окурок.
«Небось, Шумков, – решил он. – Все-то он нервничает, спешит, словно оправдывает свою фамилию. Трудно ему в милиции. Тут нервозность – гроб с крышкой».
Сибирцев понимал, конечно, что все это у Шумкова от возраста, от молодости. Себя он молодым не считал, хотя и был всего на пять лет старше. Но в эти его пять лет вошла война, революция и снова война.
Однако что-то действительно случилось. Не стал бы его Евстигнеев будить. Пожалел бы.
Заскрипела, застонала лесенка, приставленная к печи. Простуженно кашляя и неразборчиво матерясь, с печи спускался хозяин.
– Погоди, дядя Семен, – позвал Сибирцев, – я сам встречу.
– Сам, сам, – бормотал хозяин. Он шлепал босыми ногами по полу, шумно отыскивал в темноте катанки, сердито сморкался. – И чего им, к черту, не спится?… Ты вот собирайся давай. Портки-то надень, не за мной, поди, пришли…
Хлопнула дверь, и Сибирцев вздрогнул, почуяв морозную струю воздуха, хлестнувшую по пяткам. Быстро одеваясь, он услышал сердитый окрик хозяина, и Буран вмиг смолк, полагая, что честно отработал свою кормежку. Потом загремели засовы, пронзительно завизжали петли отворяемой калитки, и раздались быстрые хрупающие шаги. Забухали сапоги в холодных сенях – это пришедший сбивал снег, много его нынче в Иркутске. Снова хлопнула дверь, впустив клубы ледяного пара, и вошли хозяин с Шумновым, закутанным до глаз в желтый башлык»
– Ждраштвуйте, Михаил Алекшандрович, – с трудом проговорил Шумков, обеими руками оттягивая край башлыка, застекленевшего на морозе, – шичаш… – С трудом развязал узел, откинул концы башлыка за спину и тяжело сел на лавку.
– Здоров, – с леткой иронией отозвался Сибирцев. – Чего это ты, брат, расшумелся, а? Всю, понимаешь, улицу согнал с печи, всех соседей переполошил. Опять, небось, говорят, в милиции чепе, коли среди ночи своих собирают.
– Виноват, Михаил Александрович, бежал, – с готовностью подтвердил Шумков, но видно было, что нисколько он себя виноватым не считает, хотя бежал – это точно. – Товарищ Евстигнеев велел передать – срочно явиться. Серьезная – беда, Михаил Александрович.
– Что за беда? – отрывисто бросил Сибирцев и поднес лампу к самому лицу Шумкова. – Говори, можно, – он кивнул в сторону хозяина.
Шумков поморгал ресницами и шмыгнул носом.
– Творогова привезли, – сказал он, наконец.
– Как привезли? В каком смысле привезли? – Сибирцев вонзил взгляд в Шумкова, и тот отвел глаза.
– В гробу привезли… Сотников…
– И Сотников? – вскинулся Сибирцев.
– Нет, Сотников привез, – поправился Шумков, снова шмыгнул носом и утерся рукавом худой своей шубейки.
«Совсем мальчишка, – глядя на него, тоскливо подумал Сибирцев и тяжело опустился на лавку. – Как же так? Что ж это ты, Творогов?…»
Замерла огромная, во всю стену, тень хозяина. Сибирцев смотрел на нее и тщетно старался поймать какой-то ускользающий вопрос, какую-то важную мысль.
– Нынче привезли, – снова заговорил Шумков. – Вот как вы ушли… Товарищ Евстигнеев велел дать вам маленько поспать, а теперь вот, значит, послал.
Сибирцев нагнулся, стал шарить под лавкой. Шевельнулся хозяин, достал из припечка сапоги с обернутыми вокруг голенищ портянками, подал Сибирцеву.
– На-ка, Лександрыч. Я их тут поставил. Теплые.
Сибирцев кивнул благодаря, начал закручивать портянки, натянул сапоги. Медленно прошел в свой закуток, надел куртку, сунул в карман кисет и спички, перекинул через плечо ремень маузера. Вернувшись, увидел запавшие, скорбные глаза хозяина.
– Вишь, какая беда, дядя Семен…
Хозяин участливо покивал, спросил:
– Может, хоть пожуете чего? Надолго, поди?
– Да ведь кто знает…
– Тады погодь малость, – заторопился он и загремел печной заслонкой. – Эх ты, горе, щи-то мы с тобой, почитай, выхлебали. Картохи вот есть. Теплые. Сальца сейчас отрублю… – Он зашлепал к двери.
– Голодный, небось, – не столько спросил, сколько подтвердил Сибирцев, услышав, как сглотнул слюну Шумков. – Давай-ка, брат, подкрепись. Знатное у деда сало… Что случилось, того не воротишь. А чтоб голова варила, ее кормить нужно. Садись к столу. Шубу-то сбрось.
Сибирцев подвинул Шумкову пяток картофелин, сваренных в мундире, деревянную солонку, а сам, достав кисет, начал сворачивать новую цигарку, прикурил от лампы. Возвратился хозяин с куском замерзшего сала в сверкающих крупицах темной соли. Хорошее сало, с прожилками мяса. Хозяин нарезал его толстыми ломтями, посунул на середину стола.
– Поел бы, Лександрыч.
– Спасибо, дядя Семен. Я уж сбил аппетит. Давай, Шумков, нажимай, брат.
Шумков деликатно очищал кожуру, двумя пальцами присыпал картофелину солью и тут же запихивал ее в рот целиком. Голод брал свое, какая уж тут интеллигентность. Он жевал, откусывал сало, жирным пальцем утирал хлюпающий нос, и глаза его, видел Сибирцев, так и норовили закрыться в истоме.
«Их-то за что? – возник, наконец, все тот же немой вопрос. – Павел ведь ровесник этому губошлепу. Тоже мальчишка был. Уже был…»
Многое видел Сибирцев. Сердце, бывало, рвалось на части от жалости, а то от ненависти. Но больше всего боялся он увидеть трупы расстрелянных, замученных мальчишек. Срыва боялся. А сорваться никак было нельзя. Работа была такая. Да, многое он видел, в конце концов, понимал, что всегда присутствовала в его профессии некая необходимость, фатальность, что ли. Но ведь это для него. Для него! А они-то мальчишки. Их-то за что?…
Самосад показался горьким, от него першило в горле, стоял жесткий и острый ком, и никак его невозможно было проглотить.
Хозяин неслышно двигался по избе, шебаршил чем-то, бормотал под нос.
Сибирцев встал. Немедленно поднялся и Шумков, взглянул виновато.
– Дядя Семен, дай ему клок газеты… Заверни остатки да возьми с собой, – сказал Сибирцев Шумкову. – Там доешь… Идти надо, дядя Семен, ты уж прости, служба такая.
– Да что служба, – бормотал хозяин. – Я ить службу понимаю. Идите, сынки, с богом. Берегите себя. Ты, Лександрыч, того… особо не того… Не подставляйся. Пуля она не понимает. Я-то знаю. Ну, Христос с вами…
3
Кабинет начальника губернской милиции Евстигнеева был тесным и низким. Собственно, это был временный кабинет. Постоянным помещением милиция еще не разжилась. Здание старое и сырое, бывшая контора складских помещений, и эта комнатка с единственным забранным решеткой окном была, по сути, тоже единственным местом, где усталые милиционеры могли отогреться. Половину кабинета занимал диковинный, под зеленым сукном стол, черт те как попавший в это строгое учреждение. Сбитые его края, мощные формы и витые фигуристые ноги определенно указывали на бильярдное происхождение. На этом столе по очереди спали дежурные. Помимо него, в кабинете находилась гордость всей милиции – настоящая чугунная с литыми узорными дверцами «буржуйка». Она стояла у окна на железном листе, и на ее раскаленных докрасна конфорках постоянно шумел чайник. Тускло светила под потолком электрическая лампочка.
Евстигнеев, худой, болезненный мужчина в застиранном старом френче, поверх которого он постоянно носил меховую душегрейку, шаркал подшитыми валенками, маяча от стола к окну. Увидев вошедшего Сибирцева, он молча кивнул и жестом пригласил садиться. Сибирцев сбросил на стул полушубок и шапку, сел на соседний. Сунув руки в карманы широких бриджей и зябко подергивая плечами, Евстигнеев продолжал толочься в узком пространстве, поглядывая то на телефонный аппарат на дальнем конце стола, то на закипающий чайник.
Среди бумаг на столе, до которых Евстигнеев был небольшой охотник, стояла загодя приготовленная кружка со щепотью сушеного брусничного листа. Когда чайник, наконец, закипел, Евстигнеев ловко подхватил его и быстро залил кружку кипятком, помешал черенком столовой ложки и прикрыл надколотым блюдцем, чтоб настоялось. Взглянул вопросительно на Сибирцева; тот, отказываясь, качнул головой и потянулся за кисетом. Тогда Евстигнеев наклонил, как бык, свою лобастую лысеющую голову, подошел в упор к Сибирцеву и скрипучим голосом произнес:
– Его сейчас Шильдер осматривает. Составляет протокол. – Он вздохнул, отошел к столу. – Взглянешь сам потом?
Сибирцев кивнул.
– Всё бумаги, – снова проскрипел Евстигнеев и приподнял блюдечко – Человек погиб, а им бумаги…
– Кому им? – Сибирцев поднял голову.
– Нам, – вяло отмахнулся Евстигнеев. – Видел я его… Страшной смертью погиб Павел. На-ка вот. – Он протянул Сибирцеву несколько листов, плотно исписанных расплывчатыми чернилами. – Сотников это. Я велел, чтоб самым подробным образом. Все факты и никаких фантазий. А дальше мои соображения.
Сибирцев прошел за стол Евстигнеева, потеснив его к окну, раздвинул бумаги и положил перед собой листки. Сел, сжав ладонями виски, начал читать. А потом вдруг задумался, пристально глядя куда-то поверх бумаг. За сухими, грамотными фразами показаний Сотникова он снова увидел многомесячную мрачную и кровавую историю колчаковского исхода в Сибири…
Последний акт этой драмы разыгрался в снежных полях между Красноярском и Иркутском ровно год назад, в январе двадцатого. Взятие красными частями Красноярска явилось, по существу, тем курком, который спустил пружину всеобщего бегства из России. В направлении к Владивостоку мчались эшелоны с награбленным добром, войсками, дипломатами и «высокими комиссарами» с их многочисленной штабной прислугой, личными секретаршами и автомобилями.
События же, о которых невольно вспомнилось сейчас, разворачивались еще в апреле восемнадцатого, когда во Владивостоке высадились десанты японцев, а позже – американцев и англичан. Тогда же в Харбине, при. штабе главноначальствующего в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги Дмитрия Леонидовича Хорвата – «длиннобородого харбинского Улисса», как. тайком звали его подчиненные, – появился недавно вернувшийся с германского фронта бывший прапорщик Михаил Сибирцев. Хоть в чинах он был невысоких, зато фронтовая закалка: такие скоро становились штабс-капитанами, а то и полковниками. Именно здесь, под негласным покровительством и на денежные субсидии Хорвата и, кстати, с помощью оружия, которое от имени главы японской миссии в Харбине генерала Нака-шиыы доставлял полковник Куроки, формировались отряды спасителей родины под фирмами Семенова, Орлова и других. Для этих вольных атаманов не существовало никаких законов, и слушались они лишь тех, кто давал деньги. А контр-адмирал Колчак, только что приплывший из Сингапура, был назначен для начала членом правления КВЖД и, видимо, еще не совсем четко представлял себе судьбу, уготованную ему английскими союзниками. В общем, то были дни всеобщего помешательства на идее реванша скорого и жестокого, отождествляемого со спасением России. Сибирцев запомнил эти слова, сказанные знакомым штабным офицером из окружения Хорвата; они потом сошлись накоротке, и странным показался Сибирцеву этот поручик, польский князь, невесть за какие грехи заброшенный сюда от далекой своей ясновельможной. Но в какой связи вспомнился этот офицер? Ах да, это он прислал Сибирцеву письмо, передал с оказией, – очень неосторожное письмо, хорошо, что в эту пору был еще Сибирцев вне зоркого ока семеновской контрразведки. Дорого могло бы оно обойтись. Так вот, писал он Сибирцеву на станцию Гродеково: «…а штабные должности у нас, дорогой Мишель, нынче переполнены, и всюду еще толпы прикомандированных. Я спросил давеча опору нашего всероссийского правительства полковника Маковкина, – вы должны помнить его, Мишель: смутьян и бабник, – зачем же так-то раздуваются штаты? Знаете, что он ответил? «Сие нужно для флага и для получения содержания: надо же как-нибудь кормиться». Нагл, да хоть откровенен… Все харбинское начальство обзавелось стадами личных адъютантов, по городу носятся автомобили с супругами, содержанками и ординарцами высшего начальства и всяческих кандидатов в атаманы. Семенов завел себе атаманшу из харбинских шансонеток и на днях преподнес ей колье в 40 тысяч рублей. И уж вовсе новость: появились «кузины» милосердия. В штабах теперь порхают для красочности, поднятия фантазии и настроения многочисленные машинистки с голенькими ручками. Мы же помним, что Наполеон проиграл Бородино оттого, что отяжелел, и потому заранее обеспечиваем себе легкость мыслей… Ах, милый друг, ей-богу, настроение такое, что, будь деньги, попробовал бы пробраться на Дон…».
Вот как начинали. А через два года они мчались назад, из России, крали все, что могли украсть, что можно было поднять и погрузить в вагоны. Союзники спешно покидали Колчака, окончательно убедившись, что его карта бита. И среди этого поистине вавилонского столпотворения удиравших завоевателей, теснимые и отгоняемые на запасные пути, медленно двигались из Омска к Иркутску два поезда «верховного правителя России», теперь уже «полного адмирала» Колчака. Сам «верховный», накинув на плечи серую солдатскую шинель, стоял у окна своего салона и смотрел, как мимо на большой скорости проскакивали составы, битком набитые российским добром. Плыли печальные аккорды старого романса: «Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда…», мелькали в памяти пятнадцать месяцев упоения
властью и славой под бело-зеленым знаменем, символизирующим снега и леса Сибири. Пятнадцать месяцев… Много это или мало?… Нет, он еще не верил в свое поражение, он на что-то рассчитывал. Может быть, на верность союзников своему слову.
«Про нашего адмирала говорят, – писал Сибирцеву в том письме поручик, – что он вспыльчив, груб в выражениях н как будто предан алкоголю. Человек с норовом до полной неуравновешенности и взбалмошности. Но расклад таков, милый Мишель, что на эту серую лошадку наши партнеры, кажется, делают ставку. А великолепный Улисс все танцует какой-то чрезвычайно пестрый танец и, судя по всему, уже уходит в тень. Что-то будет?…»
А случилось то, что и должно было быть. Точку поставили рабочий класс и партизаны Сибири. Союзным миссиям был предъявлен ультиматум: либо выдача Колчака и золотого запаса России, который увозил с собой «верховный» под усиленной охраной, либо взрыв туннелей Круго-Байкальской железной дороги. И уж тогда ни один эшелон не покинет Иркутска. Решение союзников было единогласным и абсолютно логичным.
Ввиду бесперспективности дальнейшего продолжения совместной борьбы передать представителям Советской власти Иркутска адмирала Колчака и вместе с ним председателя совета министров Пепеляева, нет, не Анатолия Пепеляева, лихого генерала, дошедшего в восемнадцатом от Сибири до Волги, а его старшего брата, апоплексического обжору Владимира Пепеляева. Черт с ним, с Колчаком, в конце концов, черт с ним, с золотым запасом. Свое награбленное дороже. Логично. Чисто по-европейски.
Последними под непрерывными ударами 30-й дивизии 5-й Красной Армии отходили наиболее крепкие, отборные колчаковские части – 15-тысячная армия генерала Каппеля. Двадцатисемилетний генерал, гордость белого движения – его Колчак прочил в свои преемники, – отступая вместе с армией, обморозил ноги и умер от гангрены. И теперь его везли в гробу, чтобы пышно похоронить в Иркутске. Командование армией принял генерал Вой-цеховский. Озлобленная, сжигающая все на своем пути белая орда сбивала заслоны и рвалась к Иркутску, где в тюрьме изнывал Колчак и нынешний председатель Иркутской губчека Самуил Чудновский уже вел протокол допроса «верховного правителя». Навстречу белым к станции Зима были спешно выдвинуты рабочие и партизанские соединения Иркутска. Здесь они стали насмерть. И тогда каппелевцы разделились. Отдельные отряды, увозя часть награбленного, повернули в тайгу, к Верхоленску, имея намерения перейти Байкал у Баргузина и оттуда спускаться к югу, на Читу. Основные же части, во главе с Войцеховским, использовав предательство чехословацких гусар, нарушивших нейтралитет и арестовавших руководителей рабочих отрядов, прорвали оборону красных и устремились к Иркутску на соединение с казаками атамана Семенова, требуя немедленного освобождения Колчака и выдачи золотого запаса.
Иркутский ревком связался с Реввоенсоветом 5-й армии и получил указание Совета Народных Комиссаров: сохранить жизнь Колчаку, но при особо тяжелых обстоятельствах поступить так, как потребует обстановка. На подступах к Иркутску разгорелись тяжелые бои. Дальше медлить было нельзя. И ревком вынес постановление: «Лучше казнь двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв».
Колчак и Пепеляев были расстреляны на льду Ангары, и тела их спущены под лед. Войцеховский же и Семенов вынуждены были во избежание встречи „с регулярными частями Красной Армии снять осаду Иркутска и уйти в Забайкалье. Оттуда их уже окончательно выбили в конце октября двадцатого года, когда была освобождена Чита и образована Дальневосточная Республика – ДВР – временное буферное государство. Но ни о каком спокойствии, конечно, говорить сейчас не приходится. Это Сибирцев хорошо понимал. Интервенция затаилась на станции Маньчжурия, подобрала когти, словно подлая рысь, выжидая только удобного случая, чтобы всадить их в спину революции. Убить-то теперь уже не убьет, силенок недостанет, но поранить может крепко.
Да… Ну а те, что пошли через тайгу и северный Байкал, те, крепко потрепанные партизанами, вышли-таки к Чите. Выйти вышли, но, судя по разным слухам, пришлось им большую часть награбленного оставить в тайге. Что просто бросить, а что и припрятать до лучших времен. В том, что придут лучшие времена, никто из них не сомневался. Более того, кое-кто уже и теперь пробует вернуться к спрятанным своим богатствам. И это не слухи – в сводках сообщают из уездов: там и сям появляются разной численности вооруженные группы и отряды. Грабят население, шарят по тайге, совершают налеты на прииски, убивают старателей, забирают золото и тут же исчезают. Скорее всего многие бандиты родом из этих мест, знают потайные ходы и тропки, сторожки и заимки, имеют многочисленную родню, а следовательно, и хорошо разветвленную агентуру. Если добавить к этому, что богатый сибирский мужик крепок и никогда, по сути, не знал крепостного рабства, а те, в глубинке, кто лично не пострадал от Колчака, к Советской власти относятся весьма прохладно, то возвратившиеся вчерашние колчаковцы в такой ситуации свободно могут раствориться в своей среде, жить, не вызывая подозрений, и в нужный момент с оружием в руках – благо его по всей России-матушке бери не хочу – занять место в банде.
На такую примерно банду, действующую в Баргузинском уезде, как следовало из показаний Сотникова, они с Павлом Твороговым и нарвались. Но что их занесло в Баргузин, когда они должны были заниматься делом на западном побережье Байкала, в Большой Тарели, Качуге? Сибирцев еще раз внимательно просмотрел показания Сотникова, но объяснения так и не нашел. Видно, тут и крылось самое главное.
– Ну? – Евстигнеев присел и в упор взглянул в глаза Сибирцеву, заметив, что он прочитал все и теперь, сложив листки в стопку, словно бы машинально подравнивал края. – Понял, в чем беда?
Сибирцев неопределенно пожал плечами, однако Евстигнеев принял этот ответ как согласие и продолжал своей скрипучей скороговоркой:
– Вот и я полагаю, что нечего нам в это дело соваться.
Но, увидев недоуменный взгляд Сибирцеаа, удивился и сам:
– Непонятно? Чудак человек, Баргузинский-то уезд территориально никаким боком нам не подчиняется. Больше того, он в другом государстве. В сопредельном государстве. Он не только Иркутску, но и Москве не подчиняется. Нет, я просто уверен, надо передать это дело читинским товарищам, так сказать, по дружбе, и на том поставить точку. Нам и своих забот по горло. Да и народу где взять? Нет у меня лишних людей. И сил таких нет, чтоб соседских бандитов гонять.
– Да ведь это как смотреть: сегодня у соседей они, как ты говоришь, а завтра перешли границу – и у нас. Им ведь наша граница – плюнуть и растереть.
– Ну вот, перейдут границу, и будем ломать себе головы… Нет, я тебя понимаю, мне, может, тоже Павла жалко. То есть, что я говорю, конечно, жалко. Но я смотрю реально: не сложилась у нас сейчас такая ситуация, чтобы бросить силы на это дело.
– Ох и умный ты, Евстигнеев, ох и голова! – с нескрываемым сарказмом заметил Сибирцев. – Куда как тонко чувствуешь ситуацию. По всему ты, выходит, прав. И государство за Байкалом другое, и в задачи наши не входит… Все у тебя верно. Слишком верно. Одного ты понять не хочешь: ДВР – явление временное. А Советская власть у нас одна. Права ты свои четко усвоил, а вот обязанности… Не могу тебя понять. Вроде из рабочих ты, а рассуждаешь как самый завзятый бюрократ. Не видишь ты сути момента, это в тебе меньшевик сидит, и ничем его, понимаешь, не вытравить.
– Кто бы говорил… – обиделся Евстигнеев.
– А я вот и говорю. Имею, значит, право, потому что сам был эсером. Был, да сплыл. А ты, я вижу, не собираешься расставаться со своим прошлым. И ежели не хочешь понимать, будем мы тебя, Евстигнеев, гнать из милиции в три шеи.
– Так уж и гнать, так сразу и гнать, – примирительно заговорил Евстигнеев. – Ну что ты мне душу мотаешь? Приставили комиссара на мою голову! Ведь я ж всей душой, да факты против нас. А то – гнать… Доразгоняетесь.
– Нет таких фактов, чтоб мешали Советской. власти разделаться с мерзавцами. Бандитами и убийцами. Нет, понимаешь? И самое вредное – это быть в милиции бюрократом. Усвой.
– Ну, предположим. Выходит, я не прав. Хорошо. А сам что предлагаешь? Снимать всех наличных людей и бросать их в тайгу? Нарушать хоть и временные, но все же государственные границы? Да и где они, эти твои бандиты?…
– Пока не предлагаю. Речь идет о твоем отношении к делу. О твоей, извини, брат, незаинтересованности. Вот о чем. А одним нам, конечно, не справиться.
– И я о том толкую, – облегченно вздохнул Евстигнеев. – Не ссориться бы нам с тобой надо, а думать.
– Ну, Евстигнеев, ну, артист! – усмехнулся Сибирцев. – Что ж, давай думать… Скажи-ка, брат, ты внимательно читал показания Сотникова?
– А как же! – удивился Евстигнеев.
– Внимательно. Так… А не можешь ты мне объяснить, за каким чертом они потащились на Баргузин? Ты им давал такое задание?
– Ие-ет… – Евстигнеев морщил лоб и мучительно соображал, наконец, его что-то осенило. – Так ведь следы бандитов вели туда. – Он внимательно посмотрел на Сибирцева. – Не то? А ты думаешь иначе?
– Это все на поверхности. Да и выглядит примитивно: вдвоем против банды. С Сотниковым говорил?
– В общих чертах. Велел написать все. Вот он и…
– Не написал, – закончил Сибирцев. – Давай-ка, брат, поступим так. Ты пока человек действительно новый, а тут, видимо, все непросто. Этим делом займусь я. Может быть, даже на Чека придется выйти, посмотрим. Распорядись, пожалуйста, чтоб Шильдер прислал мне сюда протокол осмотра тела, вызови Сотникова и оставь нас одних… Да, и еще одна вещь, на всякий случай. Очень советую не устраивать Павлу пышных похорон. Родственников у него в Иркутске, насколько мне известно, нет, так что в обиде никто не останется. А нам сейчас надо поменьше шума.
Евстигнеев заметно обрадовался. Дело-то, как оказалось, не такое простое, а Сибирцев человек опытный, опять же свои люди в Чека, тоже немаловажно. Вот только с похоронами зря он так. С оркестром надо. Чтоб внимание привлечь к героической деятельности милиции, народ привлечь. Нет, решил Евстигнеев, тут Сибирцев не прав, тут он перебирает. Да и кого здесь, в Иркутске, бояться? Свои же кругом. Не прав Сибирцев.








