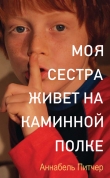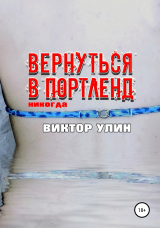
Текст книги "Вернуться в Портленд"
Автор книги: Виктор Улин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Виктор Улин
Вернуться в Портленд
Ирине С., мелькнувшей однажды
«И придет на тебя бедствие; ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь.»
(Ис. 47:11)
«Земную жизнь пройдя до половины,
Я оказался в сумрачном лесу…»
Первые строки Дантова «Ада» приходят сразу, стоит вспомнить давние события.
Кому-то слова могут казаться надуманными.
Тем более, что жизнь давно перевалила за половину, а сумрачный лес окружил гораздо раньше.
Но такова моя деформация: любое явление я ассоциирую с чем-то литературным.
Правда, причину тому раскрою лишь в финале.
Вероятно, у каждого человека есть свой собственный ад, в который он когда-то окунулся, а потом не смог вырваться.
Во всяком случае, так ощущаю я.
Ведь даже лес лесу рознь.
Одно дело сосняк – просторный и прозрачный, в котором запах хвои наполнен предощущением счастья.
А совсем другое – ельник.
Он мрачен, как преддверие ада.
Там пахнет плесенью, нижние ветви срослись с землей, покрылись мхом и никто не знает, какие ужасы таятся под их недоброй сенью.
Тайны елового леса сходны с тайнами жизни, из которых многие не стоит открывать.
Чем дольше живу, тем сильнее чувствую подобное.
Так постельное белье, когда-то выстиранное и сложенное на дно шкафа, с годами все сильнее источает застарелый запах.
Сравнение из уст мужчины звучит странно.
Но мне пятьдесят три года, я одинок и в хозяйстве понимаю лучше иной женщины.
От воспоминаний меня до сих пор пробирает дрожь.
Но имеется и некая двойственность восприятия.
С одной стороны, все было со мной.
С другой, не верится, что то был я.
На моем месте мог оказаться любой другой мальчишка.
Только большинство вычеркивают подобное из жизни.
У меня же с годами не проходит острота.
В определенный момент я почувствовал неодолимое желание зафиксировать случившееся.
Я и сам не знаю, для чего это делаю.
Возможно, литературная форма освободит от ненужных мыслей.
А, возможно, я просто мучаю себя, наслаждаюсь давней болью, которая таковой не казалась.
В общем, так или иначе, я решил рассказать про один вечер моей жизни, неповторимый и необратимый.
Но чтобы понять, каким образом я к нему подошел, нужно чуть-чуть поведать о себе.
Я живу на шестнадцатом, последнем этаже огромного дома.
С моей лоджии открывается вид на доисторическое болото и массу тополей, сгрудившихся около него.
Когда всерьез разгорается весна, концы ветвей набухают почками и птицам кажется, что на посадку кинули полупрозрачное темно-бордовое покрывало.
Ко мне часто приходят мысли, не имеющие ни к чему отношения.
Верующие крестятся перед раскрашенными дощечками и кланяются небу, полагая, что там обитает бог.
Однако небо безжизненно.
На высотах метров до семидесяти там мелькают птицы, до двухсот заносит насекомых.
Еще выше изредка ревут самолеты, ракеты рвутся уничтожить остатки озонового слоя.
За стратосферой воздух постепенно истончается, дальше простирается черная пустота.
Мерцают звезды, вертятся планеты, летят метеоры – беззвучно, потому что даже свистеть там нечему.
И уж точно, там нечего делать богу.
Я не верю ни во что; мой технический склад ума не позволяет допускать существование чего-то студнеобразного, не поддающегося анализу.
Но если уж разделять категории неприемлемого, мне гораздо ближе жизнелюбивая египетская Астарта, нежели худосочный Иисус в окружении ангелов, лишенных вторичных половых признаков.
Если бог есть, то он – в земле.
Недра ее неисчерпаемы, а плодородный слой питает все живое.
То, что еще глубже находится ад, ничего не значит: крайности смыкаются.
Я думаю об этом, когда смотрю на пробуждающиеся тополя.
Тускло-красные кисточки через день сменятся мелкими листочками, покрывало сделается зеленым.
Каждый год деревья по-новому готовятся к очередному витку жизни, хотя не знают, что их ждет.
В их незнании – сила.
I
1
Шла вторая половина семидесятых, приближалась полночь застойной эпохи.
Впрочем, аттестацию дали запоздало; тогда казалось, что жизнь течет в правильном направлении, поскольку иной не представляли.
Выудив из памяти основные опорные точки – типа последней пройденной темы по физике – я мог бы восстановить год событий и точно указать свой возраст.
Но мне не хочется этим заниматься. Пусть что-то останется неидентифицированным.
Ведь какая разница, сколько мне было лет, какой класс я закончил и в какой перешел.
Важным является само событие, причем в контексте ситуации.
А оно перевернуло бы кого угодно хоть в четырнадцать лет, хоть в сорок четыре.
Скажу лишь, что я был школьником, еще не вступающим во взрослую жизнь.
Я родился в крупном поволжском городе.
Наша семья относилась, как выразились бы сейчас, к середине среднего класса, то есть не могла назваться ни бедной, ни богатой.
Ни машины, ни дачи у нас не имелось, но мы жили в отдельной двухкомнатной квартире.
Район неофициально именовался «Телецентром», поскольку тут на высокой точке располагался комплекс областного телевидения, торчала в небо ажурная башня.
Ее когда-то проектировал мой дед по папе, военный инженер.
Улица, на которой располагалась наша панельная девятиэтажка, имела лишь одну застроенную сторону, поскольку проходила по краю оврага, обрамляющего пойму реки Черной – прежней границы города.
Балкон моей маленькой комнаты выходил во двор, а большая родительская смотрела на заречные дали.
Правда, в описываемые годы вид был слегка подпорчен циклопическим памятником местного пошиба.
Но и на него смотреть было приятнее, чем в окна соседних домов.
У мамы имелась шуба – хоть и не помню, из чьего меха.
А папа каждый год покупал льготные путевки через профком.
Сейчас о жизни СССР пишут в разном ключе.
Статейки принадлежат перу авторов, которые не застали закатно-советского периода и понятия не имеют о предмете разговора.
А я в ту пор жил и рос, помню все.
На самом деле то время не подлежит однозначной оценке.
Прежде всего, мы жили под бременем идеологических химер.
Хрестоматийной была фотография Ленина, несущего бревно на субботнике.
Между тем хороший правитель – это не тот, кто сам ворочает хлам, а при котором ничего не валяется где ни попадя.
Быт советских людей был поистине адским.
За тысячу километров от Москвы невозможно было купить ни мяса, ни колбасы, ни бюстгальтеров, ни даже туалетной бумаги.
Последний факт – при обилии нынешнего предложения – может вызвать недоверие.
Но я читал стихотворение современного поэта, моего ровесника, где есть такие слова:
«Русь бродила по космосам, правда.
И с Венеры кричала: «Даешь!»
А впотьмах лоскутками из «Правды»
Мы втирали свинцовую ложь».
Так оно и было.
Но тем не менее, не высовываясь слишком сильно и не имея сверхпотребностей вроде машины для каждого члена семьи, можно было жить почти припеваючи.
Главной казалась стабильность ситуации.
Все понимали, что хорошего в жизни мало, однако сегодня не хуже, чем вчера, а завтра и даже послезавтра не будет хуже, чем сегодня.
Конечно, это осознание пришло в постсоветскую эпоху, но мальчишкой я видел, как живут родители.
Папа с мамой учились на одном курсе в Авиационном институте, поженились еще студентами, работали тоже вместе – в НИИ метрологии, хоть и в разных отделах.
Их зарплаты не выходили из разряда средних, однако работа была чистейшей воды синекурой.
Единственное, что требовалось – не опаздывать утром к проходной.
Как все советские люди, родители привыкли вставать рано, соблюдать режим не составляло труда.
Отметившись, на рабочем месте каждый занимался, чем хотел.
В мамином отделе женщины делились рецептами и выкройками, некоторые даже вязали. Унылые комнаты казались зимним садом от изобилия всевозможных растений.
В папином был клуб рыболовов, проводились местные шахматные чемпионаты.
Раз в квартал в благостном «научно-исследовательском» болоте наступал аврал, когда приходилось сдавать отчеты.
Но несколько напряженных дней ничего не меняли в общем образе жизни.
Распечатки, чертежи и «синьки» занимали свое место в архивах.
И снова наступали месяцы сонного существования – цветущих кактусов, журналов «Ригас модес» и рейтингов, соперничающих с ФИДЕ.
Читатель может посетовать, что вместо обещанного ада я живописую родительский рай.
Это приходится делать по необходимости.
Без экскурса в общую историю не будет понятным все дальнейшее.
Я хочу подчеркнуть, что рос в очень приличной семье.
Выше я отметил, что мы не владели дачей.
Сказанное требует уточнения.
Понятие «дачи» применимо лишь к центральной России – особенно к Москве и Ленинграду.
Поволжье заселено народами, которые еще в прошлом веке оставались полудикарями: испражняться бегали за кусты, а мылись не каждый месяц.
Они до сих пор не заняты ничем конструктивным, только пишут стишки на своих тарабарских языках да пляшут в национальных костюмах.
Впрочем, эти нетолерантные мысли не относятся к теме. Я просто пытаюсь нарисовать среду своего обитания.
Сейчас наш город перевалил за миллион, тогда имел шестьсот тысяч и считался одним из крупных в СССР.
Однако истинных горожан тут набирался мизерный процент.
Аристократы и интеллигенция сгинули во время катаклизмов, основную массу составляли пролетарии, плодящиеся с интенсивностью сурикатов.
В наши дни стало еще хуже.
Ни зимой, ни летом по улицам не пройти от собачьих экскрементов.
Полагаю, что в скором времени тут, как в Китае, начнут прилюдно гадить младенцы.
Люди, которые копошатся вокруг и называют себя «русскими», представляют социум урожденных помоечников.
Крестьянин может научиться есть вилкой, но менталитет никуда не девается, передается по наследству.
Когда я, возвращаясь с работы, иду мимо дворовой парковки, констатирую факт с новой силой.
Машины соседей – это мусорные баки на колесах.
На сиденья и на пол там свалено все: от детских игрушек до пустых бутылок – не говоря о разнообразных предметах одежды, газетах и какой-то дряни, не имеющей названия.
У меня самого машины нет.
Российская дрянь мне даром не нужна, а купить что-то приличное – немецкое или хотя бы японистое – нет возможности.
В одном из своих романов Ремарк едко замечал, что истинному немецкому патриоту чужда гигиена.
Россияне превзошли жителей гитлеровской Германии.
Мой спальный микрорайон – помойка, украшенная клумбами из старых покрышек и из них же вырезанными лебедями.
Да и вся нынешняя Россия представляет собой сплошную мусорную свалку площадью семнадцать миллионов квадратных километров.
Но я отвлекся в излишних подробностях, пора возвращаться к теме.
Дач в регионе никогда не существовало; повсеместны лишь сады, то есть огороды с грядками, предназначенные не для отдыха, а для каторжного труда.
Мои родители участка не заводили; приоритеты садово-огородной рвани были им чужды.
Слово «рвань» применительно к согражданам я даже мысленно использую с наслаждением.
Я потомственный горожанин, современный аристократ.
У меня вызывают презрение люди, которые салату с креветками и каперсами предпочитают тазик пельменей или ведро мантов.
В России подобных абсолютное большинство.
Жить с таким мировоззрением чем дальше, тем труднее.
Но жить вообще нелегко.
2
Я с детства ощущал себя отстраненным от общей массы сверстников.
Друзей в общепринятом понимании я не имел.
Я не пробовал курить или выпивать, не интересовался «пластами» – как именовали тогда заграничные грампластинки.
Я был чужд тупых занятий вроде рыбалки или спорта, а увлекался техникой.
Мне выписывали журнал «Юный техник» с приложением «Для умелых рук» – огромным, аккуратно сложенным листом в простой обложке.
Вообще Советский Союз был империей Самоделкиных.
В огромной стране не существовало промышленности, специализированной на потребительских интересах.
Радиодетали для гражданских изделий брали из партий, отклоненных военной госприемкой.
У советских людей не имелось вдосталь стиральных машин, пылесосов, миксеров.
Даже черно-белые телевизоры, собранные на бракованных микросхемах, были в дефиците.
Луну закидывали луноходами с колесами из чистой платины, но лишь у одной семьи из десяти – если не из ста! – имелся хромированный сервировочный столик на резиновом ходу.
В то время, как мир двигался по ступенькам прогресса, СССР копошился в пещере натурального хозяйства.
Здесь царила идеология «Сделай сам».
Ее насаждали средства массовой информации, включая журнал «Наука и жизнь», где самодельничество имело разброс по категориям.
На отдельной странице предлагались минипатенты типа рыбочистки из крышки от лимонада или вешалки из пустых бутылок.
По пол-номера отводилось мертворожденным проектам вроде озвучивания восьмимиллиметровых любительских фильмов при помощи магнитофона и «синхронизатора», напоминающего корабельную мину.
При том тогда подобное казалось нормальным.
Я тоже занимался самодельничеством, однажды даже собрал примитивный детекторный приемник на одном диоде.
Позже к чисто пионерскому «ЮТ» добавился серьезный «Моделист-конструктор».
Правда, настоящим моделистом я не стал.
В нашем городе было невозможно купить бальсового дерева или лакировочных смесей; даже двухкомпонентные клеи находились не всегда.
Нужные материалы имелись только в официальных кружках при городском дворце и районных домах пионеров.
Но мама в кружки не пускала, утверждая, что там неподходящий контингент, а руководители – пьяницы.
Я нашел упрощенный выход: клеил сборные модели самолетов и кораблей.
Последних имелось всего два: броненосец «Потемкин» и крейсер «Аврора» – оба из серого полистирола, напоминающего сталь.
Намерений сделаться моряком не возникало, но детализация вводила в мечтательное состояние.
Воздушная техника стала моей страстью; я собирался идти по стопам родителей, нацеливался на Авиационный институт, причем мечтал стать не кем-нибудь, а сразу авиаконструктором.
В нашей квартире крыши всех шкафов занимали мои самолеты и вертолеты.
Не доверяя маме хрупкие изделия, я даже сам регулярно вытирал с них пыль.
Отечественные модели представляли собой упрощенные одноцветные болванки, их я собирал для общего впечатления.
Иным делом были самолеты производства ГДР.
Там фюзеляж и плоскости оставались белыми, детали шасси – серебристыми.
Везде вклеивались прозрачные иллюминаторы, остекление кабин и блистеры, вращались и колеса и винты.
Огромный «Ту-114» имел даже действующие рули и элероны.
У нас немецкие модели никогда не появлялись, продавались только в Москве.
Папа, деловой человек, постоянно организовывал себе командировки, всякий раз привозил мне что-то новое.
До сих пор самым светлым воспоминанием той стороны детства, которую стоит считать счастливой, остались плоские длинные коробки с косым синим углом – символом неба.
Позже дизайн упаковок сменился: угол убрали, на крышке осталось лишь подробное изображение самолета.
Да и вообще, к концу эпохи немцы стали халтурить.
Первый из моих культовых экземпляров – двухмоторный поршневой «Ил-14» – имел заранее окрашенный фюзеляж и ряды отдельно выдавленных заклепок.
Появившийся ближе к восьмидесятым «Ту-154» был размечен сплошными линиями швов, каких никогда не бывает на настоящих самолетах.
Но все равно за каждую из таких моделей я отдал бы любую половину жизни.
Книжек я не читал.
Телевизором тоже не увлекался, поскольку смотреть было нечего.
Имелось всего два канала, хорошие фильмы шли редко и очень поздно – по московскому времени, отстающему от нашего.
Как и все, я слушал песни по радио.
Их тематика исчерпывалась двумя пунктами: про войну и про любовь.
Война была государственной религией.
Возвращаясь из командировки с самолетами для меня, обувью для мамы и колбасой для всех троих, папа сокрушался, что «ядерно-космическая» держава не в состоянии обеспечить граждан благами, равными при любой удаленности от столицы.
Мама – осторожная, слово «КГБ» произносившая шепотом – откликалась уклончиво.
Однако стоило включить телевизор в мало-мальски праздничный день, как слышалась привычная фраза, произносимая бровастым лидером:
– Вот уже столько-то лет наш народ живет без войны!
Мантра была метрологически стандартизована, количество лет регулярно увеличивалось.
Столь же регулярно росло количество Брежневских наград, им не заслуженных.
Колбаса в магазинах не появлялась.
Зато возникали все новые песни про эхо прошедшей войны, которые исполнял придворный Кобзон.
Мальчишкой – как и полагалось октябрято-пионеро-комсомольцу с зашлифованными мозгами – я их любил.
Сейчас все связанное с войной вызывает у меня рвотный рефлекс.
3
Я развивался нормально, в определенный момент подростковой жизни перешагнул порог.
У меня начались непристойные сны, оканчивающиеся испачканным бельем.
Но я ничего не понимал относительно сути происходящего.
Ничего не поясняли и родители, выросшие в аскетическом СССР.
Папа не занимался моим чувственным воспитанием; он только оплачивал мне подписки журналов да привозил модели из Москвы.
Мама – как положено женщине – была чуть тоньше.
Но и лишь туманно говорила, что «я взрослею».
В более позднем возрасте я понял, что мое психосексуальное развитие существенно отставало от сверстников, живущих в пролетарских семьях.
Я не интересовался девчонками как сущностью, считал их никчемными в совокупности.
Я не имел старшей сестры, за которой можно было подглядывать в период, когда мой мочеиспускательный орган начал ни с того, ни с сего твердеть.
Я не подглядывал даже за мамой.
Причем это диктовалось не тем, что наша ванная комната не имела окон. Я просто не ощущал потребности.
Помаявшись во снах, я научился работать над своим телом в единственно пригодном смысле.
Дальше пояснять не буду; знающий поймет.
Примерно так развивались многие советские мальчишки.
Но по естественным законам природы имманентная сексуальность не зависит от среды обитания.
В этом смысле я представлял бомбу с неисправным взрывателем.
С течением времени она не становилась менее опасной, рано или поздно должна была взорваться.
Так и произошло.
Теперь наконец перехожу к описанию вхождения в ад.
Но прежде добавлю последний штрих в картину своего детства.
Летом утро выходного дня начиналось с божественного аромата картошки, которую мама, встав раньше всех, варила на кухне.
Нынешняя картошка пахнет старыми половыми тряпками.
4
Отпуска у родителей были согласованными, всегда приходились на вторую половину июля.
Средств на полноценное времяпровождение где-нибудь у моря не хватало, мы втроем ездили в местные дома отдыха, иногда на турбазы.
Время выбиралось самое жаркое: иначе в условиях здешнего климата приходилось страдать от холодной сырости.
В лето описываемых событий папа с мамой сделали мне подарок.
Не дожидаясь семейного отдыха, они отправили меня в Москву.
Мамина старшая сестра когда-то училась в столице, удачно вышла замуж и осела там.
Дядя-москвич, врач по специальности, давно умер.
Тетя жила в двухкомнатной квартире с дочерью.
Двоюродная сестра носила несовременное имя «Зинаида» и училась в медицинском институте.
Ее фотографий я никогда не видел.
Кем и где работала тетя, уже не помню.
В те времена меня не волновали мелочи, я интересовался только самолетами.
Но я радовался любым новым впечатлениям.
Поэтому наполнился энтузиазмом.
5
Июнь был теплым по всему Союзу.
В Москву я перелетел без проблем, поскольку уже имел паспорт, а девушкам из отдела перевозок меня сдал папа.
Из аэропорта «Домодедово» забрала сестра, которой это поручили.
С первого взгляда она не показалась мне интересной – как, впрочем, и я ей.
Разница возрастов между школьником и студенткой означала различие статусов, не допускающих точек соприкосновения.
Зина встретила безразлично, но особого недовольства моим появлением не выказала.
Их старая квартира на третьем этаже не отличалась размерами, однако тетя летом жила на даче, оттуда ездила на работу, домой возвращалась лишь изредка.
Меня разместили в тетиной комнате, ближней к входу, сестре я не мешал.
Маленькая спальня дышала покоем, около кровати на полу лежала чья-то толстая шкура – кажется, кабанья – на которой мне понравилось стоять босиком.
Сестра дома почти не жила: уезжала утром, возвращалась вечером.
Ее студенческая жизнь полнилась заботами, занимавшими все время.
Я был предоставлен самому себе, чем нимало не тяготился.
Папа с мамой отсутствовали в своем НИИ целыми днями, я с детства привык к самостоятельному времяпровождению.
Точно так же я жил и здесь.
Иногда уезжал куда-нибудь с утра, иногда оставался в квартире на полдня.
Мне нравилась ее прохладная тишина, периодически нарушаемая лифтом.
В нашем доме на Телецентре тоже имелся лифт, но он был модернизирован, оборудован автоматикой, курсировал почти неслышно.
Здесь допотопная кабина ездила вверх и вниз в шахте, затянутой сеткой.
Открываясь, дверь протяжно скрипела, потом захлопывалась с железнодорожным лязгом.
Эти звуки отдавались и многократно усиливались кафельным полом площадки; проникая внутрь, они создавали какое-то особое настроение.
Сама квартира была полна уюта, который рождали и неяркие обои и старомодные окна с узкими форточками.
В пристенных «зализах» нереально высоких потолков даже солнечным днем таился тихий сумрак.
Запах старого паркета навевал странные для моего возраста мысли о вечном.
Признаюсь, до сих пор во снах приходит этот восьмиэтажный желто-кирпичный дом на углу Тимирязевской улицы.
Я вижу гулкий угловой подъезд и пологую лестницу, по которой обычно взбегал вперед лифта – и потемневшую латунную табличку на двери, старомодно оповещающую, что тут живет доктор…
О покойном докторе напоминала и огромная библиотека, заполняющая от пола до потолка темные стеллажи в прихожей.
Книг я не трогал, лишь рассматривал корешки, не решаясь нарушить чужой порядок.
Я понимал, что меня тут лишь терпят, поэтому старался существовать невидимо, не оставлять следов пребывания.
Но еще больше, чем тихая квартира, мне понравилась сама Москва.
Столица конца семидесятых разительно отличалась от нынешней клоаки, кишащей армянскими рестораторами и украинскими проститутками.
Это был дружественный город, располагающий каждым проулком.
Даже Арбат еще не превратился в полуторакилометровый публичный дом; он оставался обычной улицей – с тротуарами и мостовой, с грохотом проезжающих грузовиков.
Все то было очень, очень давно – не просто в минувшем веке, а в прошлом тысячелетии.
Мало кто помнит прежние черты.
Сейчас я не знаю, каким образом оплачивается проезд в метро.
Тогда поездка стоила пять копеек; монеты разменивали автоматы, грохочущие в наземных вестибюлях.
Несколько дней назад какая-то бабка, стоящая передо мной в кассе «Пятерочки», выронила из кармана пригоршню монет.
Они рассыпались с глухим стуком, словно высохшие черепашьи какашки.
Впрочем, все российское ассоциируется у меня с какашками, но сейчас не о том речь.
Эпизод всколыхнул давнюю память.
За две недели, проведенные в Москве, я свыкся с городом, узнал столичные привычки.
Спускающиеся на эскалаторе любили похулиганить: запускали пятак по направляющей поручня таким образом, чтобы он докатился до низа и упал на мраморный пол.
Тот медный звон был приятнее, чем колокола нынешних новодельных церквей.