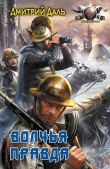Текст книги "Вина"
Автор книги: Виктор Улин
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
По штату разведроте пулеметчик не полагался, но не всегда можно было решить задачу одними ножами и автоматами. Поэтому фактический этот боец, здоровенный рыжий детина, бывший одесский амбал, был ротным пулеметчиком. Причем пользовался не советским пулеметом Дегтярева – неудобным в использовании и перезаряжании и неэффективным вообще – а таскал с собой везде трофейный немецкий пулемет “MG”. Огромную железную жердь с конусовидным барабаном, куда укладывалась патрона лента. Как, кстати, многие бойцы, оставляя штатные «ППШ» в расположении части, на дело шли с немецким оружием. Это, мягко говоря не поощрялось, но разведчикам позволялось все; тем более, что немецкие пистолет-пулеметы «МР40» были опять-таки гораздо лучше и удобнее, чем наши.
И сейчас Холодивкер, привычно опираясь на пулемет, как на посох, вышел из строя:
– Мне по причине моей еврейской национальности никакой СМЕРШ не страшен.
Одинцов отметил, что о советской контрразведке СМЕРШ бойцы все чаще говорят с таким же презрительным страхом, как о каком-нибудь СД.
– Нет, Семен, – отстранил его командир.
– Но мне же можно! Шо я, не знаю… Мне ж за ето ничего не будет!!!
Страстным, почти умоляющим жестом он схватил Неустроева за рукав. Одинцов почувствовал, как его опять пробивает нервная дрожь.
– Не разрешаю! Н-не р-разрешаю!! Сержант Холодивкер – встать в строй! – рявкнул Неустроев, отбрасывая Семину руку, кипя страшной, черно-красной яростью. – Кому приказано – аат-ставить! Р-рота, р-разойдись, н-ну!!
Бойцы отступили, непонимающе переглядываясь, но зная крутой нрав своего командира. Одинцов стоял на месте, опять чувствуя проклятое головокружение.
Неустроев выпрямился. Медленно, точно все еще на что-то решаясь, взвел затвор своего «ППШ». Бросил злобный взгляд на Одинцова. Потом – на немцев. И опустил оружие.
– Холодивкер! Пулемет мне! – вдруг страшно закричал он, покраснев и напрягшись так, что по сторонам лба жутко вспухли веревочные жилы. – Пулеме-оот!!!
Сема легко, как камышинку, протянул ручной пулемет Дегтярева.
Неустроев судорожно выхватил его из могучей ручищи амбала, бросив за спину свой автомат и не удержался, покачнулся от тяжести, припал на колено. Потом выпрямился:
– Лента полная?!
– Так точно полный, товарищ гвардии старший лейтенант!
– Так ты что – не стрелял в бою!
– Никак нет, товарищ гвардии старший лейтенант. Просто у Семы правило ленту сразу на полную менять.
Неустроев лихорадочно раздвинул сошки, установил оружие на землю, хотел опуститься на локти, пробуя прицел. Потом вдруг передумал, рывком вскочил и отбежал к избе, плотно прижался спиной к бревенчатой стене. И вскинул тяжелый пулемет, держа его перед собой двумя руками, как таран.
– Хайль Гитлер! – донесся, как сквозь вату, чей-то сдавленный вопль.
В ушах Одинцова вспух горячий, пульсирующий шум. Он не услышал очереди – догадался о ней лишь по огню, косо и длинно рванувшемуся из короткого, как воронка, черного надульника. И еще по тому, как заметались, валясь друг на друга черные эсэсовские мундиры.
Что-то неестественное произошло у него со слухом – он не слышал выстрелов, но совершенно отчетливо различал страшный треск тяжелых пуль, бьющих почти в упор, выдирающих кровавые мясные клочья их падающих тел. И еще – звон разлетающихся гильз и яростный лязг пулемета “MG”, который, как живое существо, бушевал в руках старшего лейтенанта Неустроева.
3
Центральная улица встретила шумом и суетой. Никодим Илларионович медленно шагал по краю тротуара, в стороне от толпы пешеходов, под самыми стенами домов – за которые в случае необходимости всегда можно ухватиться.
Навстречу и обгоняя его спешили озабоченные люди. Каждый куда-то торопился, боясь не успеть, точно от этого зависела его жизнь. Город подернулся пузырьками и шумел, медленно закипая огромным утренним котлом.
Никодим Илларионович зачем-то попытался представить, что именно видят сейчас ласточки, чьи крики вились над высокими крышами. С бреющего полета город, наверное, казался нагромождением мрачных домов с частоколом телеантенн. А внизу, на самом дне улицы, пестро шуршала толпа, равнодушно обтекая прихрамывающего старика в сером милицейском мундире.
И сверху, конечно, чудилось, что жалкий старик этот, вырядившийся с утра в тесный и давно уже не имеющий к нему отношения мундир, есть совершенно чужеродное тело в общем потоке. Он, очевидно, выжил из ума и ковыляет не торопясь, сам не зная куда. И вообще ему следовало бы сидеть дома, чтоб нелепой фигурой своей не мешать движению молодого, озабоченного города.
Наверное, так думали и встречные, раздраженно обходя и толкая его локтями. Но если б знали они – все, бегущие к своим конторам, все, кому кажется, что их дело самое важное, а их спешка самая спешная…
Стоило лишь подумать о своих планах, как сердце снова облилось страхом: что случилось бы, если кто-нибудь из окружающих вдруг на секунду проникся телепатией?!
Опасение было по-мальчишески глупым, Никодим Илларионович это понимал. Он знал практическим умом, что ничего подобного в природе не существует, что телепатия и прочая чепуха – лишь выдумка досужих идиотов. И никто посторонний, сколь бы ни пытался, никогда не сможет приникнуть мыслью в тайники его собственного сознания. Все задуманное в голове, о нем никто не знает и не может знать. Все спрятано глубоко и пока не вышло на поверхность – и он в безопасности; он еще может остановиться, подумать, и… и даже вернуться назад.
И все-таки ему сделалось страшно. И сердце, не желающее подчиняться спокойным доводам ума, опять зашлось перебоями. Никодим Илларионович не решился останавливаться, опасаясь привлечь внимание прохожих. Прошагал еще метров двадцать до торчащего у автобусной остановки киоска «Роспечати» и привалился боком к стенке.
Взгляд его непроизвольно упал на висящие за стеклом журналы. И он вздрогнул, едва не вскрикнул: с одной из обложек на него смотрела Лидочка… Да, именно она, только почему-то перекрашенная в белый цвет.
Нет, конечно… Никодим Илларионович задержал дыхание, пытаясь поскорее прийти в себя. Не Лидочка. Какая-то незнакомая девушка. Просто чем-то на нее похожая. И только.
Но внутри уже все тряслось – то ли от этой нечаянной встречи, то ли сердце опять отказывалось работать. Сунув руку под китель, он стал массировать грудь.
– …Вам плохо, товарищ подполковник?
Он вздрогнул – незнакомый парень лет двадцати в пятнистой зеленой куртке осторожно держал его под локоть.
– Нет-нет, – пробормотал Никодим Илларионович, заставляя себя больше не глядеть на журнал. – Нет. Спасибо, молодой человек… Все в порядке.
Он тяжело оттолкнулся от киоска и зашагал дальше, стараясь ступать прямо и твердо.
* * *
Жизнь текла, как широкая, полноводная река: тихо и вроде незаметно, но все-таки – без остановок и только в одну сторону.
Война, которой вроде бы не виделось конца, все-таки кончилась. И как-то незаметно потускнело, вытеснилось заботами мирной жизни и отошло в туман его военное прошлое. Потеряло свою обжигающую остроту и стало похожим на глубокую рану, которая прошла все ступени развития: кровоточила, гноилась, болела, – и наконец, успокоилась и зарубцевалась. Рубец, медленно но верно заглаживаемый годами, сходил на нет, но все-таки совсем не сошел, и напоминал о себе всякий раз, предчувствуя непогоду; и было бы противоестественным, когда б все действительно рассосалось без следа. Так и душа, разваленная надвое войной, заросла понемногу новой плотью, укрепилась новыми заботами, сохранив лишь где-то в глубине саднящий от времени до времени шрам.
Послевоенное время налетело на Одинцова лавиной, закружило и завертело в своем щедром на жизнь водовороте.
Дойдя с разведротой до Эльбы и некоторое время прослужив уже в разгромленной, оккупированной Германии, он демобилизовался из армии и вернулся в университет, на свой прежний юридический факультет. Так, словно ничего и не менялось, словно двумя взмахами ножниц можно было выстричь из жизни убитые на войну годы, а потом ровно и аккуратно склеить ее края. Окончив университет, сразу женился и без всяких слов уехал по распределению – туда, куда послали. И пошла совершенно новая, чрезвычайно интересная жизнь. Служба в милиции, следственный отдел, постоянное напряжение ума в схватке с изворотливым злом. Работа нравилась Одинцову, это чем-то напоминало войну – но не передовую, а именно разведку, когда хитростью, а когда и боем, – и он быстро шел в гору.
Он не интересовался политикой и не занимался ею; его интересовала исключительно настоящая уголовщина, которую нужно выжигать каленым железом при любом режиме и под любым правителем. Поэтому совершенно спокойно – не заметив для себя ничего особенного! – пережил и пятьдесят третий, и пятьдесят шестой и даже шестьдесят четвертый годы. Политики разыгрывали партию за партией, метали крапленые карты и выхватывали в нужный момент пятых тузов из рукава, сменялись властелины, развенчивая одних и вознося других, потом делали то же самое теми же методами, но в обратном порядке – Одинцова это не касалось. Он был на своем истинном месте, работа требовала много сил и всегда свежей головы, и он не разменивался на мелочи, имея привычку активно участвовать лишь в том деле, которое ему посильно. И его тоже не трогали, несмотря на постоянные перетряски органов: он действительно был классным профессионалом – а профессионалы, в отличие от прихлебателей, одинаково нужны любой власти.
Его, правда, не раз, предлагая все более высокие должности, пытались сманить к себе соседи из КГБ. Чувствовали, видно, в нем настоящую фронтовую хватку. Но Одинцов твердо отказывался, не имея уважения к этой могущественной организации, состоявшей, на его взгляд, из негодяев, дилетантов и карьеристов. Милицию же он любил; несмотря на все ее чудовищные недостатки, он видел рядом с собой надежных товарищей и подлинных мастеров следственного дела.
И так прошли годы; много, много лет. Одинцов как-то незаметно сделался начальником отдела. Незаметно вырос и возмужал сын; уехал учиться в Москву, потом женился да так и остался там, не горя желанием возвращаться на родину – в их хоть и большой, но все-таки до глубины провинциальный город.
Впрочем, Одинцов предугадывал это заранее и, по правде говоря, фактическая потеря сына не оказалась для него неожиданным ударом. Теперь уже трудно сказать, почему, но настоящей душевной близости между ними не возникало никогда. Наверное, виной прежде всего была напряженная Одинцовская работа, не знавшая выходных и отпусков. А сына не влекла к себе юриспруденция, он не любил насилия, оружия, в детстве не увлекался чтением детективов и даже фильмы про войну никогда не смотрел. Вырос он каким-то не то чтобы женственным, но все-таки настоящего, мужского – по мнению Одинцова – стержня в нем не было. Сын нашел себя в электронике, но для занятий ею в городе не имелось условий – в отличие от профессии Одинцова, основанной на преступном мире, который всегда возникает там, где собралось больше одного человека… И правильно сделал сын, уехав в Москву и построив жизнь по своему разумению.
Ударом была смерть жены. Она умерла молниеносно, за две недели, по не вполне ясным причинам. Потом почти сразу у Одинцова случился инфаркт, и ему пришлось целый год оставаться оторванным от дел. А вернувшись к работе, он обнаружил, что жизнь неузнаваемо поблекла, лишилась всего, что еще недавно заключало ее смысл и дарило чувство удовлетворенности. Неизвестно почему, но теперь все стало пусто и бессмысленно. Ему сделалось безразличным даже собственное продвижение по служебной лестнице. К изумлению товарищей, он отказался от третьей, полковничьей звезды вместе с должностью зам. начальника управления, поскольку она принесла бы необходимость продолжать службу еще несколько лет – и, потребовав отставки, ушел на пенсию.
Что случилось с ним, всегда таким уверенным в жизни и работе? Наверное, просто инфаркт, подготовленный долгими годами напряжения, и лишь спровоцированный смертью близкого человека, подломил нечто внутри, и обрушилась на Одинцова многолетняя, многотонная усталость. С которой не нашлось сил бороться.
Пенсионерская жизнь в пустой, омертвевшей без жены двухкомнатной квартире быстро оказалась невыносимой. Но возвращаться на службу Одинцов не стал – хотя, наверное, его с радостью приняли бы назад, поскольку профессионалы стали уходить, а новых почему-то не находилось. Еще тогда, до второго инфаркта, он чувствовал в себе необратимую перемену и знал, что уже не в состоянии делать прежнее дело с прежней отдачей. А служить кое-как он не умел и не считал для себя возможным.
Он нашел выход – устроился юрисконсультом в большой строительный трест. И работал там еще несколько лет, до следующего инфаркта.
А потом новой работы уже не искал. Даже самая легкая лямка стала для него тяжела. И смирившись с судьбой, сделался полным пенсионером.
Вот так и прошла жизнь…
Справедливости ради стоит отметить, что сразу после смерти матери сын настойчиво звал его в Москву, понимая невеселую участь одинокого старика. Одинцов отказался наотрез: здесь он жил, по камешку строил себя, здесь был счастлив и рос по службе, здесь остались товарищи и здесь похоронил жену – а кому он будет нужен там, в огромной и чужой столице? Он понимал, конечно, что жить одному будет чем дальше, тем тяжелее, но уехать не решился. Звать сына к себе тоже не стал: понимал, что это под корень срубило бы тому карьеру; сын уже заведовал отделом в каком-то крупном московском НИИ, специализирующемся на электронике, однажды его даже показали мельком в программе «Время». Впрочем, было и так ясно, что сын уезжал не затем, чтобы когда-нибудь вернуться обратно.
И Одинцов стал приспосабливаться. Приготовился доживать свой срок. Неважно, сколько: год, два, три, десять, двадцать – все равно доживать. Ведь все главное в его жизни уже прошло и умерло безвозвратно. Так, во всяком случае, казалось.
Но судьба, словно сжалясь, подарила ему… даже трудно сказать точно, кого именно. Легче всего было сказать «соседей», но это слово звучало слишком просто и невыразительно, чтоб обозначить то чудо, которое вдруг возникло в его жизни, наполнив ее внезапным новым содержанием.
Соседей по лестнице Одинцов никогда не знал и нимало ими не интересовался – отчасти из-за вечной нехватки времени, которое было жаль тратить на болтовню, отчасти из чисто профессионального опасения лишних связей. Из боязни, как бы люди, сблизившись с ним, не стали потом домогаться от него какой-нибудь служебной, не вполне законной помощи.
И поэтому, когда незадолго до смерти жены в соседнюю однокомнатную квартиру въехала молодая женщина без мужа, но с детской коляской, он не обратил на нее внимания. И даже пронзительный детский плач, пробивавшийся время от времени сквозь тонкую хрущевскую стену, не мешал ему жить: днем Одинцов был на службе, а ночью мертво спал, умея полностью отключать измученный работой мозг.
Наверное, он никогда не проявил бы человеческого интереса к этой маленькой семье, если бы не случай, едва не стоивший ему жизни.
Первый инфаркт поразил его на работе: бригада увезла его прямо из кабинета, и врачи тратили время на выписывание пропусков, без которых даже их не пускали в управление. Второй случился дома; уже имея опыт и точно угадав стремительное приближение катастрофы, Одинцов сам себе вызвал «скорую» и даже четко объяснил диспетчеру, что у него инфаркт и требуется не студент-недоучка, а кардиологическая спецбригада. Но помощи не дождался – потерял сознание и упал прямо в коридоре под телефоном, не успев загодя отпереть дверь квартиры.
И когда бригада приехала, Одинцов уже не слышал ни звонков, ни стука, ни громких голосов на площадке. Лежал горячим мешком, бесчувственно и беззвучно.
Только после выздоровления он узнал, что в самый последний момент, когда врачи, чертыхаясь, уже собрались уезжать, из соседней квартиры вышла хрупкая женщина. Узнав, в чем дело, она без лишних слов перелезла через загородку, разделявшую их балконы – благо стояло лето и он забыл открытой дверь! – пробралась к нему и отперла изнутри. И тем, вне всяких сомнений, его спасла.
Вернувшись из больницы, он из чувства благодарности заглянул к соседке, познакомился с ней и ее пятилетней дочерью. И – совершенно неожиданно! – понял, что так нужно было сделать давно.
Наверное, эта одинокая Надя, проявившая внезапную доброту и истинное, неподдельное мужество в критической ситуации, просто открыла ему глаза на людей, которые прежде делились на обвиняемых, пострадавших и свидетелей. Общаясь с нею, он впервые обнаружил новый и глубокий, обычный человеческий мир, до сих пор скользивший мимо него как бы в параллельном пространстве. И со всем жаром своей в общем-то незлой души, много лет целенаправленно обделявшейся естественным благом общения, он отдался им двум, матери и дочери, без оглядки, не боясь уже ничего.
Быстро и незаметно он привык к своей спасительнице настолько, что она стала казаться ему нежданно обретенной дочерью; он ведь была всего несколькими годами старше его собственного, отрезанного сына. А маленькая Лидочка сделалась для него внучкой – каких он, вообще-то, имел, но никогда в жизни не видел: так уж сложились их с сыном противоестественные отношения.
Впрочем, он скоро понял, что Надя для него гораздо роднее, чем родной сын.
Оставшись без жены, Одинцов совсем не пропал. Родное министерство не подвело: провожая на пенсию, оставило ему пропуск, и он каждый день мог обедать в хорошей закрытой столовой. Пришивать пуговицы он научился сам, и благодаря прачечным и химчисткам вкупе с природной его аккуратностью мог кое-как существовать. Но все равно, конечно, то была не нормальная жизнь привыкшего к семье человека.
Теперь же Надя стала регулярно звать его пообедать или наоборот – сама приносила ему то котлеты, то пирог. Одинцов всячески отнекивался; ему было неловко принимать что-то от Нади, чья инженерская зарплата была раза в три меньше его пенсии, он пытался отдавать деньги, но она никогда ничего не брала и оставалась непреклонной. Наверное, делала все просто от души, побуждаемая глубокой, генетической, истинно русской жалостью женщины ко всякому одинокому человеку. Тогда Одинцов нашел иное решение и стал покупать всякую всячину для Лидочки. Этому Надя не противилась: дочь была для нее смыслом жизни и единственной памятью о муже, военном летчике, погибшем в год ее рождения.
Лидочка росла на радость. Милая, светлая и тоненькая, как садовая лилия, она, казалось, распространяла вокруг себя свет – и Одинцов мечтал об одном: чтоб судьба, жестоко обошедшаяся с матерью, помиловала ее.
Так совершенно неожиданно он обрел новую семью.
Жизнь вроде бы снова наладилась, вошла в прочное русло. И временами Одинцову казалось, что так может продолжаться очень и очень долго.
Однако здравый смысл подсказывал, что ничто не вечно: тем более не вечен четырежды раненный, перенесший два инфаркта старик на пороге восьмого десятка. Человек, чувствующий приближение смерти, обязан подумать о близких. А кто был близок для него? Сын? Нет, сын не был близким никогда, тем более не стал таковым сейчас; их родственное общение уже много лет ограничивалось открытками к праздникам да несколькими телефонными звонками в год. Истинно близкими оказались Надя и Лида.
И Одинцов стал заранее готовиться к возможному уходу. Тайком от Нади завещал ей свою сберкнижку, несколько десятков тысяч рублей, которые могли пригодиться ей при устройстве Лидочкиной взрослой жизни. Подумывал, что стоило бы оставить завещание и на остальное имущество, но все никак не мог собраться.
И был еще один вопрос, который волновал Одинцова, но пока оставался нерешенным. Ему хотелось обеспечить свою вновь обретенную родню еще и приличным жильем. Простейшим путем был бы, конечно, формальный обмен, чтобы потом Надя с Лидой законно переехали в две его комнаты. Но мысль Одинцова, направленная очень глубоко, этим не довольствовалась. Он думал о будущем и видел Лиду уже женщиной, а рядом с нею молодого мужчину – ей самой еще и не снившегося! – и веселых малышей. И хотелось во что бы то ни стало устроить так, чтобы у Нади к прежней однокомнатной квартире прибавилась его двухкомнатная. Ведь, на его взгляд, в награду за все лишения, она имела право ни отдельное гнездышко рядом с семейной дочерью.
Одинцов тщательно обдумывал варианты. Лет двадцать назад он запросто оформил бы опекунство над собой. Но он знал, что по нынешним законам опекун не получает прав на площадь. Удочерить Лиду он тоже но мог: ведь та не была полной сиротой. Может, удочерению подлежала Надя, но это казалось уж вовсе неестественным.
И в конце концов он вышел на единственный вариант: оформить с Надей фиктивный брак. Это никого не удивит, а если он сумеет дожить до Лидочкиного совершеннолетия, то Надя сможет прописаться к нему, оставив прежнюю квартиру дочери, и после его смерти останется полноправной хозяйкой. А потом уж пусть меняется, как захочет.
Это был действительно выход. Оставалась мелочь: уговорить Надю. Разработав детальный план, Одинцов решил начать претворение его грядущим летом, когда Лида закончит школу и перед маленькой семьей все равно станет проблема смены жизненного уклада. Он знал, что Лила собиралась работать, и твердо решил настоять на том, чтобы ему позволили оказать материальную помощь и выучить ее в институте. Он знал, что уладить этот вопрос будет сложно, и наметил тогда же, под горячую руку, определиться и с квартирой.
Вот так и жил Одинцов. Спокойно и по-своему просто. И чиста и спокойна была его совесть. Была – или он сам убеждал себя в этом?
Нет, конечно – он заботился о Наде с Лидой просто так, без всякой мысли о замаливании грехов. Он вообще был настолько безгрешен и справедлив, что много раз даже лично им посаженные преступники из тюрьмы первым делом шли к нему. Пожать руку или даже выпить водки за освобождение. Но все-таки иногда накатывало на него ощущение давней, подспудной вины, которое ничем не удавалось заглушить.
Да; так оно и было. Ощущение черной вины угнездилось в нем давно, и было тем мучительнее, что вина эта, однажды добровольно принятая, осталась непроходящей и неискупимой. Одинцов пытался оправдаться перед собой, ведь вина была почти случайной, а он никогда не кривил душой, всегда поступал по велению долга, согласно чести и совести. И, наверное, вся последующая жизнь с массой полезных и нужных дел должна была перевесить давний грех – который и грехом-то, по сути, не был…
Он старался не впускать в себя эти невнятные мысли, чувствуя в них угрозу спокойной жизни, но они настигали его сами – нападали врасплох, жаля коротко и точно.
И самое главное – он конкретно знал, когда все это началось.
* * *
Спешка уличной толпы заразила Никодима Илларионовича. Стало казаться, что он тоже должен торопиться. Ведь время летело незаметно, но быстро, и он мог опоздать, сорвать своей медлительностью весь план. Он пошел быстрее. Даже оторвался от стен и влился в толпу посреди тротуара.
Ласточки уже больше не кричали над домами – наверное, их утренние мошки уже исчезли. Но, скорее всего, их распугал посторонний звук, родившийся в небе. Небо дрожало и гудело, точно по нему – над головой, и слева, и справа, уходя за горизонт, – медленно ползли эскадрильи тяжелых самолетов. Никодим Илларионович посмотрел наверх, рискуя потерять фуражку, но самолетов не увидел. Наверное, они шли очень низко, скрываясь за домами. Или он уже просто не мог собрать свои глаза на ходу? Он остановился, вгляделся пристальнее – гул, медленно опадая, растворился и исчез. Он пошел дальше, и самолеты заревели снова, обкладывая небо со всех сторон.
Это не самолеты, – с удивлением и страхом понял он. – Это гудит кровь в висках. Волнуется и кипит, как вода в перегревшемся моторе. Сердце перегрелось, у него больше нет сил.
Никодим Илларионович испугался. Если так, то он уже вышел на предел физических возможностей. А до цели еще далеко. Значит, надо было что-то делать, иначе все действительно могло сорваться.
Он сунул руку в карман, нащупал пластину нитроглицерина. Хотел было принять одну горошину, но сдержался, боясь, как бы не стало еще хуже. Он пересек тротуар и встал у поребрика в надежде остановить такси.
Но не успев еще поднять руку, сообразил, что ему не уехать: с собой не имелось ни копейки денег, он надел старый парадный мундир, давно вышедший из употребления, а кошелек остался в другом костюме. Ведь по дороге он уже не собирался ничего покупать.
Он вздохнул и медленно поплелся дальше. Но пройдя еще квартал, осознал, что рука судьбы только что отвела угрозу. Ведь в такси ему могло стать по-настоящему плохо с сердцем – и шофер вызвал бы «скорую» или – того хуже! – сам отвез бы его в больницу. Там врачи набросились бы жадно, стремясь во что бы то ни стало продлить уже не нужную ему самому жизнь. И он не дошел бы до конца.
Сердце по-прежнему билось неровными, горячими ударами, тело время от времени теряло вес, растворяясь в неприятной невесомости над асфальтом; и гул самолетов, ослабев, все-таки не исчезал совсем. Но, как ни странно, Никодим Илларионович успокоился. Если судьба спасла его от такси, значит, она позволит дойти до конца. И черная тень вины, заслонявшая все сделанное им добро, все-таки уйдет в небытие вместе с ним.