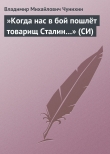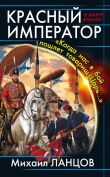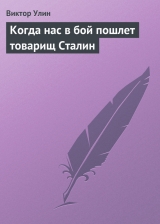
Текст книги "Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин"
Автор книги: Виктор Улин
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Виктор Улин
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
От автора в нынешнем времени
Этот очерк родился давно.
Как крик мятущейся и не находящей себе опоры души. Которая не видела света в конце тоннеля – точнее свет остался лишь в его начале.
В этом очерке я изложил лишь малую толику своих мыслей и привязанностей к памяти Иосифа Виссарионовича Сталина – точнее, ее эмоциональную часть.
Все рациональное же по-прежнему сидит во мне, находясь во взведенном состоянии, как УСМ пистолет-пулемета, стреляющего «с заднего шептала» и готового к выстрелу при первом нажатии спуска.
Сейчас, по прошествии многих лет с написания этого очерка, я уже не пользуюсь оговорками, а заявляю прямо: Да, я поклоняюсь Иосифу Сталину.
(Как поклоняюсь ряду титанов власти других стран и режимов).
Да, я презираю нынешнюю Российскую власть – эту мышиную возню дегенератов и гидроцефалов, отчаянно делающих вид самостоятельной занятости при том, что пляшут они исключительно на заграничные деньги. Не совсем заграничные – а так называемые «новорусские» – то есть украденные у нас с вами, дорогой читатель, а также у предшествующих поколений – которые строили все это – и у будущих – которые, низведенные до уровня имбецилов, будут совершать простейшие операции работников сырьевых отраслей.
Да, я ненавижу свою нынешнюю «родину», ибо моей Родиной был Союз Советских Социалистических Республик, который жил по совершенно иным законам.
При этом я не примыкаю ни к коммунистам, ни к русским фашистам, ни к прочим, финансируемым Кремлем, партиям игрушечной оппозиции. Ибо вижу их роль и знаю, что силу денег, переведенную в зарубежные авуары, невозможно переломить ничем.
Я не верю в благополучный исход нынешнего существования.
И меня это не волнует.
Ибо я свое уже практически отжил, полагавшихся женщин отымел (некоторых даже не по одному разу), полагавшиеся водку, коньяк, джин, виски и текилу выпил.
А на молодое поколение мне мягко говоря, наплевать: еще великий Бисмарк говаривал, что любой народ заслуживает того правительства, какое имеет – так пусть сами и разгребаются с ним.
Вообще гениальные немцы несколькими фразами предвосхитили все, чем будет определяться жизнь людей в XXI веке.
Адольф Гитлер отметил, что в сравнении с политиком любой сутенер покажется человеком чести.
А мой коллега, доктор философии Пауль-Йозеф Геббельс вообще дал установку всем грядущим политикам, особенно российским новейшего времени:
«Чем беспардоннее ложь, тем легче в нее верят люди».
Мне в общем нечего ждать и не во что верить.
НО.
Когда совершенно неожиданно я получил от ЦК КПРФ награду – памятную медаль, посвященную 130-летию со дня рождения Генералиссимуса, во мне что-то повернулось.
Кому-то я еще могу быть нужен.
И стержень, который еще не удалось во мне сломать, все-таки надежен.
Ну а теперь – читайте.
1
В последнее время я часто ощущаю странную и в общем беспричинную тоску.
То есть абсолютно беспричинной ее, конечно считать нельзя.
Мое нынешнее состояние достаточно типично и даже имеет соответствующую психологическую классификацию. Оно обычно называется кризисом среднего возраста, который в этой стране настигает практически каждого из нас.
Когда ты мужчина и тебе сорок пять лет, и при этом ты сохранил ясность рассудка, которая заставляет понимать, что ты ничего не достиг в этой жизни – и, скорее всего, уже не достигнешь, поскольку путь спустился с перевала… Чтобы понять все, нужно быть мужчиной сорока пяти лет и так далее… В общем, все это не прибавляет радости.
Все чаще, глядя на себя в зеркало – не будучи нарциссом, а из необходимости, когда бреюсь по утрам – я думаю, насколько прав был Соломон, говоря, что нет прока человеку в трудах его, ибо все есть лишь суета.
Суета сует, пустая мышиная возня. Которая изнуряет, высасывает силы и сокращает время жизни – не давая взамен ничего. Кроме возможности отложить смерть от голода с сегодняшнего дня на завтра.
Хотя с реальной точки зрения это тоже немало.
Зеркало равнодушно констатирует, что несмотря на возраст, я сохранился довольно хорошо. По инерции я держу себя в опрятности. К тому же не имею толстого живота, и не грызу ногти.
И жена всерьез утверждает, что я до сих пор нравлюсь женщинам.
Но сам я в это не верю.
Точнее, не так…
Мне это все равно.
* * *
Моя жизнь, текущая с виду ровно, представляет наслоение разорванных противоречивых периодов.
Впрочем, до написания истинных мемуаров я еще не дорос. Хотя уже сейчас мне есть что рассказать, а следы в памяти постепенно тают – теряют очертания, цвет, запахи и звуки…
Однако эту вещь я расцениваю не как попытку мемуаров.
Мне трудно сформулировать цель и смысл ее создания. Но она рвется из меня; и я не могу противостоять нарастающему внутреннему давлению.
Если отбросить стеснения и коснуться сути, то она проста: я ощущаю острейшую необходимость сказать несколько слов о себе.
Вернее, о странном ощущении сдвига места и времени, которое стало меня посещать.
Как говорил обожаемый мною антипод Лев Иваныч Гуров из романов Николая Леонова, первую половину жизни ты работаешь на свое имя, вторую твое имя работает на тебя.
Я не зря назвал любимого литературного героя своим антиподом: мы различны и во взглядах на жизнь, и в результатах самой жизни. Даже приведенное мною высказывание справедливо для счастливых людей, выбравших правильный путь и осуществивших полный подъем.
Увы, я не могу отнести себя к подобным.
Счастливая судьба у меня не сложилась по многим причинам.
Я должен был стать летчиком, но этого не позволило здоровье.
Я стал математиком, совершив главную ошибку всей жизни и убив попусту свои лучшие годы.
…Опять мысль рыскает по курсу, не держась прямо.
Несмотря ни на что, мне выпал период – около двух лет – когда я ощущал себя обеспеченным человеком, уверенным не только в завтрашнем, но и в послезавтрашнем днем. Потом…
Впрочем обо всем, что случилось потом, не хочется вспоминать.
Пережив годы полной безысходности, я вроде снова начал подниматься. Переменил несколько видов деятельности, из которых каждая последующая была еще более унылой и безрадостной, нежели предыдущая.
Однако все-таки вернулась минимальная, согласно моим понятиям, обеспеченность. А по меркам среднего российского гражданина наша семья живет очень хорошо, имея всю необходимую технику вплоть до посудомоечной машины, несколько автомобилей, отдыхая летом за границей – причем не по одному разу – и так далее…
С моей же точки зрения нынешняя жизнь подобна балансированию… нет, не на краю пропасти и даже не на перилах балкона.
Над ямой с жидким навозом.
В которой не утонешь до смерти, рано или поздно выберешься, только запах останется надолго.
Но проблема моя заключается не в безвозвратной потере прежнего спокойного благополучия.
Просто совершенно незаметно, шаг за шагом и ступенька за ступенькой, я опустился вниз и сделался другим человеком в отношении к жизни и самому себе.
* * *
Когда-то давно я прочитал фразу, которая меня потрясла и навсегда врезалась в память: «Потерпевшие кораблекрушение в океане умирают обычно не от жажды, голода или холода, а от СТРАХА перед неизвестностью».
Это выражение точно описывает мое внутреннее состояние – как, наверное, и большинства моих ровесников, не имеющих родственников среди высших госструктур и не пробившихся в нефтяные монополии.
Страх перед неизвестностью завтрашнего дня точит душу изнутри.
Неизвестность – в России и с некоторого возраста – по определению всегда означает неприятность.
Даже с том случае, если конкретно сейчас некоторая уверенность все-таки есть.
И дело, пожалуй, не в страхе как элементарной эмоции, испытываемой осознанно.
Этот страх неизбежного завтра обрушился внезапно и ударил, подобно разряду смертоносной молнии.
Он прошел сквозь меня, сжигая нервные клетки и опустошая самые отдаленные уголки сознания.
Убив не меня – а мой собственный интерес к жизни.
Да, именно так.
Оставаясь внешне привлекательным мужчиной и – жене стоит верить – имея некую абстрактную потребительскую ценность в сторонних глазах, я сделался абсолютно безразличным самому себе.
Потому что в жизни исчезла адекватность. Иными словами, я вдруг обнаружил, что не имею дела, без которого не может жить нормальный мужчина.
Я перестал испытывать положительные эмоции; меня уже ничто не радует в выморочном, вялотекущем существовании.
Кроме, пожалуй, двух последних вещей: выпивки и автомобиля.
Однако здоровье мое, отнюдь не улучшенное годами, лишенными радости бытия, не позволяет мне пить достаточно для поддержания минимального тонуса.
А автомобиль, на котором я сейчас езжу, приводит в ужас окружающих. У него хороший двигатель и со светофора я могу уйти метров на сто вперед всех. Но он непрестижен, стар и разбит, от подвески ничего не осталось, а покрашенный кисточкой кузов кажется расстрелянным из крупнокалиберного пулемета.
Сам я не замечаю этого; изнутри ничего не видно, а за рулем я оживаю, ненадолго делаясь иным человеком.
Но в самом деле, мало кто из моих ровесников не постыдился бы ездить на такой машине.
А я езжу и мне наплевать на мнение окружающих. Езжу на ней от отчаяния перед судьбой. И от переполняющей меня злобы к ненавидимому мною обществу. Я шокирую дороги своими маневрами на старой убитой машине и испытываю от этого эпатажа острейшее наслаждение, в сравнении с которым все прочие источники ощущений – не более чем соевая плитка перед настоящим черным шоколадом.
Впрочем, все это эмоции, которыми обманывает себя человек.
Истинная причина проще: я не имею возможности ее поменять. И в общем смирился с тем, что никогда не сумею заработать денег, достаточных, чтобы купить хорошую новую машину.
И даже не смогу найти себе такую работу, на которой нужную сумму можно было бы просто украсть.
(Сделаю не красящее меня признание: я не считаю подобное воровство преступлением. Правительство и государство украли у моего поколения жизнь, и восполнить это морально невозможно, даже если растащить по кирпичикам кремлевскую стену и продать ее на стройматериал для общественных туалетов где-нибудь в Южном Бруклине…)
Нехороший симптом, когда мужчине становится все равно, на какой машине ездить. Факт такого равнодушия еще более удручающ, нежели безразличие к своему отражению в женских глазах.
Но мне в самом деле безразлично. Причем и то и другое.
Я знаю, что это страшно, поскольку означает предел, за которым остается лишь смерть. Пусть ты еще ходишь и дышишь.
Меня не напрягает даже такая мысль.
Констатируя это, я осознаю окончательно: живой снаружи, я давно умер внутри.
Вера, позавчера… неважно. Но умер. И то, что видят знакомые мне люди – тающая тень прежнего меня.
2
Но все-таки я пытаюсь разобраться.
Почему так случилось, что интерес к жизни капля за каплей вытек из меня? Причем столь незаметно что сам я не ощутил своего медленного умирания.
Вроде бы недавно я любил ходить на вечеринки, в гости к друзьям, и принимать друзей у себя. Великолепный, в белоснежной рубашке и очень красивом галстуке с золотой заколкой, я говорил изящные тосты. Играл на гитаре и пел любимые романсы. Ощущая страсть к жизни от этого мимолетного самоосознания: вот, я хорошо выгляжу, и голос мой звучит мощно, и женщины слушают с горящими глазами. И я не просто существую – я живу.
И вдруг оказалось, что давно уже не живу.
Более того, я не помню, когда в последний раз по-настоящему: с друзьями и песнями – отмечал собственный день рождения.
И мне кажется, что дело не в личных неудачах. Что такое состояние симптоматично моим ровесникам вообще.
Конечно, за последние годы очень сильно переменилась сама жизнь. Но течение времени всегда непрерывно, и совсем не обязательно, чтобы медленные перемены резко крушили что-то внутри человека.
Но мне – точнее, нам – не повезло: перелом общества пришелся на лучшую пору жизни моего поколения. И действительно необратимо сломал многих из нас. Меня в том числе.
* * *
Любопытно и как-то странно представить себе масштаб прошедшего времени.
Я родился всего через шесть лет после смерти Сталина. Дыхание той великой и страшной эпохи, обезглавленной, но отнюдь не сразу прекратившей свои мощные конвульсии, ощущалось на протяжении некоторого периода моего детства.
Шесть лет… Для сравнения – ровно столько отделяет нас сегодняшних от кризиса 1998 года. Очень небольшой срок.
И это прошлое, черное и чужое по сути, преследует меня практически всю жизнь. Именно с раннего детства.
Правда, отпустило ненадолго, когда мое бытие приняло нормальные очертания. Но обрушилось вновь, едва все вернулось на свои убогие круги.
Впрочем, иного просто не могло быть.
Ведь я потерял интерес к настоящей жизни; тем более не вижу ничего в будущем.
Осталось лишь прошлое.
Которое, надо признать, в дни моей молодости было пронизано отголосками Сталинской эпохи.
Я восемь лет прожил в Ленинграде. Эти годы пришли на границу семидесятых и восьмидесятых – квинтэссенции застойного периода, когда в Советском союзе для человеческой жизни простого обывателя не существовало уже вовсе ничего. Начиная от телевизоров и кончая канцелярскими скрепками. И вся государственная пропаганда держалась лишь на памяти минувшей войны. Бесконечно перемалывалось наследие все той же единственной эпохи, как бы ни замалчивалось имя Сталина и ни переиначивались бы песни с его упоминанием.
Впрочем, об этих песнях я еще скажу…
* * *
Любопытно признать, глядя с высоты возраста уже как бы посторонним глазом, что я, родившийся хилым очкариком в глубоко интеллигентной семье, всегда ощущал себя человеком военным.
Вероятно, любой мужчина изначально рождается именно для службы; недаром в Древнем Риме у ложа роженицы дежурил воин с мечом. Чтобы в том случае, если появится мальчик, первым ощущением новорожденного стало прикосновение к холодной стали оружия.
Конечно, все это давно изжило себя. Человечество отвоевало положенную ему дозу, как перетерпело эпидемии проказы, чумы и прочих изведенных к нынешнему времени болезней.
Однако…
Я ничего не могу с собой сделать.
С редкими друзьями, которые способны меня понять, могу часами обсуждать, чем сложный телескопический затвор, применявшийся на немецком пистолет-пулемете «МР40», совершеннее стальной болванки нашего примитивного «ППШ».
Студентом я с парой таких же маньяков ездил на бывшую финско-советскую границу 1940 года, где практически целиком сохранилась легендарная линия Маннергейма. Вооружившись веревками и фонариками, мы лазали по старым, на три этажа ушедшим под землю финским дотам. В разросшихся перелесках угадывали оплывшие и почти неразличимые остатки наших окопов и тщательно перерывали песчаный грунт в поисках оружия. Правда, безрезультатно: попадались лишь патроны; в основном от мосинской трехлинейки, изредка от «ТТ» – да стабилизаторы разорвавшихся мин.
Зачем нам требовалось оружие – этого я не могу объяснить.
Мы не собирались грабить или даже просто хулиганить, мы жили в ладу с законом. Но каждому из нас хотелось найти что-нибудь, промыть керосином, отчистить детали затвора, взвести курок и на секунду почувствовать себя не ничтожным мальчишкой, студентом совершенно штатского математико-механического факультета Ленинградского государственного университета – а кем-то иным.
Потому что лишь с оружием в руках существо мужского пола становится мужчиной.
И признаться честно, оружие до сих пор играет исключительную роль в моей жизни. Оно интереснее женщин, хотя в моем возрасте еще должно быть наоборот.
Нет, конечно, мужское не умерло во мне без остатка. Случается иногда подсмотреть где-нибудь на рынке, в убогой суете возле овощных рядов нечто внезапное и женское, разящее сильнее подкалиберного снаряда: темный сосок, просвечивающий сквозь блузку из-за сползшего бюстгальтера… В такие секунды даже я чувствую мгновенный удар желания. Словно напоминающий о том, что я еще жив. Слишком долгий взгляд даже рождает ошеломительный порыв к какому-то действию.
Но – только порыв.
Что показывает степень моего внутреннего опустошения.
И дома я скорее сяду смотреть документальный фильм про развитие тяжелых бомбардировщиков, нежели ночной секс-канал или даже собственную порнографию…
В общем я понимаю, что по восприятию окружающего мира отличаюсь от усредненности. К примеру, не перевариваю эстрадного юмора и в целом не люблю комедий – мне не то чтобы не смешно, а просто как-то неинтересно их смотреть. Не переношу телешоу и сериалов – хотя не так давно сам продал права на создание телесериала по своему произведению. Я не знаю ни политических, ни светских новостей: кого куда назначили, кто с кем в какой позе переспал. И даже сколько и где украл денег.
И, что уж совершенно неприемлемо для «настоящего русского мужика», я абсолютно равнодушен к спорту.
Я понятия не имею, кто выигрывает футбол или хоккей, мне это безразлично. Даже с точки зрения элементарного болельщика: у меня уже давно нет никаких «наших», я сам себя чувствую чужим в этой стране.
Впрочем, я опять отклоняюсь.
Мне хочется наконец вывести вас к заглавию очерка.
* * *
Я всегда рос нервным и чувствительным: сначала ребенком, потом отроком, юношей, просто человеком… И ощущал все патетическое гораздо сильнее и глубже, нежели окружающие – не просто воспринимая, а пропуская сквозь себя самого. Приходится признаться, что даже в сорок пять лет я не могу сдержать слез при звуках яростного военного марша.
Почему именно военного?
Да потому, что лишь связанное с боем, опасностью, атакой всегда представляло для меня высший смысл жизни.
И я до сих пор люблю военные фильмы. Недавно, оставшись на долгое время в одиночестве опустевшей квартиры, я сделал себе подарок: накупил кучу кассет и ночами смотрел кино про войну, запивая водкой, и ощущая себя так, как будто что-то изменилось в этой жизни.
Разумеется, все это глупо и ненормально.
Последняя, вторая мировая война, была именно последней в смысле настоящих больших войн в истории человечества.
Все что случилось потом, оказывалось военными забавами или просто играми негодяев вроде бойни в Афганистане или Чечне.
Но фильмы про Великую Отечественную остались прежними. Они неизменно вызывают у меня катарсис – очищение души после пропущенного сквозь себя чужого страдания.
И вот тут, пожалуй, можно перейти к самой теме.
3
В детстве и даже юности, сколько себя помню, я боготворил Иосифа Виссарионовича Сталина.
Мне нравилось в нем абсолютно все: от простой внешности, до скупых и, как тогда казалось, гениальных формул типа «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».
Впрочем, я любил Сталина и из чувства бессмысленного противоречия всему, навязываемому сверху: ведь я рос в партийную брежневскую эпоху, когда роль Верховного Главнокомандующего, хоть и не зачеркнутая совсем, сильно принижалась.
Особенно остро я ощущал это в песнях. Впрочем, до песен, пока дело все еще не дошло.
Потом, когда мне было около тридцати лет, настали совершенно иные времена. Началась перестройка; под ударами демократических писателей и журналистов рухнула прежняя система, имевшая вид хоть не безупречной, но относительно разумной.
Сталин оказался кровавым тираном и убийцей и губителем душ; на него возложили вину в поражениях первого периода Великой Отечественной войны; он был объявлен организатором блокады Ленинграда, желавшим во что бы то ни стало заморить голодом ненавистный оппозиционный город… И так далее, и тому подобное.
Будучи разумным человеком, я не могу не признать правоты большинства этих обвинений.
Да, Сталин тиран и убийца и душитель свободы и еще какие там слова упреков придут на память – все они окажутся справедливыми.
С этим нельзя не согласиться.
* * *
Хотя, если отступить и заглянуть подальше в Российскую историю, то чем именно Сталин хуже всех иных правителей, жестокими усилиями пытавшихся вытащить ленивый и непритязательный народ из тысячелетнего болота к цивилизации?
Двухметровый самодур из Романовых с физиономией кастрированного за свое паскудство кота, построивший на костях соотечественников столицу империи в наихудшем месте всей Европы – среди гнилого болота, где не отваживались селиться даже глупые чухонцы – разве он меньше уничтожил сограждан? Думаю, что в процентном соотношении численности тогдашней и Сталинской России даже больше. Причем мало чем отличающимися методами: та же слежка, те же доносы на пустом месте, пыточные застенки, массовые казни инакомыслящих, и прочее.
Но он официально поименован великим, и множество памятников расставлено по всем углам России. За триста лет, прошедшие со времен его кровавого тиранства, все снивелировалось и цель негласно признана оправдавшей средства. Правда, первые памятники появились практически сразу после его смерти: в те времена человеческая жизнь не стоила вообще практически ничего, и он считался не душегубом, а нормальным императором. Очень прогрессивным деятелем, толкавшим Россию к свету.
Впрочем, по моему глубокому убеждению, Россию в самом деле невозможно толкать к свету иначе, как пинками кованого сапога под зад.
И единственной серьезной правительницей, которая делала это относительно бескровными методами, была страдавшая бешенством матки Великая императрица-немка: она полностью расходовала свою внутреннюю разрушительную энергию и могла обходиться без неоправданного насилия над подданными.
Косность, ограниченность и полная нетребовательность к условиям жизни, истинно рабский менталитет русской нации определил ее вековое прозябание. Недаром в отличие от других европейских стран, быстро переболевших детской болезнью большевизма, именно Россия терпела коммунистов почти три четверти века – лишив человеческой жизни два, а то и три поколения.
И не подумай, читатель, что я унижаю русских, глядя со стороны: увы, я и сам целиком принадлежу к этой великой и несчастной нации.
И рабский труд, с помощью которой Сталин Россию навозную превратил в Россию термоядерную есть всего лишь логическое продолжение главного русского столпа: общины. Уклада, при котором один труженик пашет, а десять бездельников кормятся за его счет.
В бесплодных попытках уничтожить этот вековой двигатель регресса сломали зубы многие. Среди них лучший и несомненно самый умный, Петр Аркадьевич Столыпин – яснее других видевший, что погрязшую в лени и пьянстве страну может спасти лишь фермерство. При котором вымрут патологические лентяи, а останутся лишь нормальные члены общества.
Паскудные большевики, не придумав ничего принципиально нового, весьма умело подыграли на главной русской струнке. Объявили работящих крестьян кулаками, а лодырей и пьянчуг – сельским пролетариатом. Физически уничтожив первых и их имуществом возвысив вторых.
Однако пьяница и бездельник останется пьяницей и бездельником, даже если поименовать его гегемоном государства. Поэтому, когда запас награбленного кончился – пьяниц и бездельников на Руси всегда было неизмеримо больше, нежели работящих людей, и хватить всем и надолго просто не могло – то паровозная топка остыла. И иллюзия развития сошла на нет. Вот тогда именно гениальный товарищ Сталин повернул штурвал на сто восемьдесят румбов.
Вы мечтали иметь государство беззаботных пропойц, но при этом жить лучше и веселее – так получайте армию рабов, которые будут вас содержать. Но помните: рабом может стать каждый из вас и в любой момент. На кого бог пошлет.
Само создание лагерной системы было продиктовано экономикой и лишь прикрыто политикой. Так неизбежно обуславливала схема российского «социализма». Государство, где вытравлен менталитет свободного труженика и нет материальных рычагов воздействия, в принципе не может развиваться на иной основе, нежели реставрация древнего рабовладельческого строя.
Слегка изменившего свой неприглядный лик: рабами стали граждане, а рабовладельцем государство.
* * *
Опять приходится делать оговорку.
Все написанное в предыдущем разделе ни в коей мере есть не попытка апологетики Иосифа Виссарионовича. И тем более всей Сталинской эпохи.
Во-первых, на мой взгляд, любая апологетика бессмысленна по своей сути: в истории все расставляет по местам лишь последующий ход событий.
Во-вторых, в самом оправдании истории нет ничего более глупого, чем потуги дилетанта. Все мои суждения о Сталине базируются лишь на обрывках собственный знаний, почерпнутых в случайном порядке.
Да, я не историк. Но я homo sapiens – то есть «человек думающий».
(Хотя когда я смотрю на современников, мне кажется, что латинскую классификацию нашего вида пора изменить. Жаль, я знаю язык римлян лишь на уровне пословиц, стихов и нескольких фраз из Цезаревских «Записок о галльской войне». И не могу сказать на латыни «человек без мозгов» или «человек пивной», и уж тем более – «человек с мозгами между ног и жвачкой в голове». Увы, моего почти классического образования для этого не хватает.)
Но я – думающий. И имеющий право на собственную мысль.
Тем более, мысли вижу путем образов, поскольку являюсь писателем.
Последним я горжусь, хотя творчество мое остается невостребованным.
Я не виню наше время, но не могу переделать себя.
Потому что пишу классическую прозу.
Которая остается классической, даже будучи облеченной в форму порнографического жанра, ибо описывает реальные отношения и реальные страдания простых реальных людей. В которой нет насилия, которое не служило бы ответом на априорное зло. Нет политики, а есть лишь ненависть к ее выразителям. Может ли такая проза быть востребована сегодня ?
Могу ли я конкурировать с авторами описывающими неземные страсти новых русских богачей – или с теми, кто методично загрязняет юношеские мозги наркоманским бредом под названием «фэнтэзи»?
Ясное дело, нет. Я здравомыслящий человек и отдаю себе отчет о своем положении.
Хотя и сейчас у меня есть десятки благодарных читателей, сама мысль о существовании которых вселяет в меня силы при работе над очередным никому не нужным произведением.
Кроме того, я верю в диалектику истории. Потому знаю: культурное развитие совершит очередной виток, все нынешнее отомрет, и вдруг станет востребованной именно моя проза.
«Жаль только, – как говорил, хоть и по другому поводу, великий русский картежник Николай Алексеевич Некрасов, – Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе…»
Но я опять отвлекся.
Теперь уже на свою собственную персону.
А мне следует возвратиться к Сталину.
* * *
Хочу вспомнить поучительный эпизод из моего недавнего прошлого.
Году примерно в девяносто девятом мне случилось оказаться на сабантуе – то есть, по-русски, празднике окончания весенних полевых работ – в одном из районов республики. Мы сидели за столом русского колхоза: точно помню, тогда там еще существовали именно колхозы, олицетворение истинного беспорточного коммунизма, рая для пьяниц, болтунов и лодырей. Не помню, как назывался тот колхоз. «Красный лапоть», или «Знамя портача», или «40 лет без урожая»… Впрочем, не это важно.
Мы сидели за щедро накрытым, манящим шашлыками и хрустальной водкой деревянным столом на лужке под безоблачным небом. Тамадой, разумеется, выступал хозяин – председатель колхоза. Прежде, чем говорить первый тост, он представился:
– Петр Лаврентьевич.
Мы с ним были примерно одного возраста, плюс-минус года три.
Для человека моего поколения имя «Лаврентий», как мне казалось, столь же значимо, как для нынешних отморозков слово «драйв» – или другая подобная лажа, вбиваемая с телеэкрана.
И напившись как следует, я не удержался от вопроса:
– Петр Лаврентьич, а батюшку вашего, часом, не Лаврентий Палычем звали?
Председатель колхоза – симпатичный, неглупый и в общем хороший, судя по всему, мужик – серьезно ответил, как звали его отца.
Я этого, разумеется, не запомнил, потому что в самом деле был довольно пьян, да это меня и не интересовало.
Важным, поразившим до глубины души, казался факт того, что он не понял моей шутки.
Я неожиданно остро осознал, что чужое прошлое – темное прошлое моей страны, тугим комком клубящееся в углах моего подсознания, никак не желающее слабеть и, видимое, обреченное умереть вместе со мной – уже забыто обычными людьми.
Нормальными, живущими простыми заботами и не обременяющими себя умствованием.
Но во мне это жило и живет так, будто является моим собственным.
* * *
Дело в том, что дед мой Василий Иванович Улин, одна тысяча девятьсот седьмого года рождения, был профессиональным партийным работником союзного масштаба. Поэтому имена вождей и прочих высоких лиц, известных по портретам, газетам и фильмам, для меня говорили больше, чем для моих сверстников. Пусть я не знал – или не запомнил – о них чего-то важного в значительном объеме, но они незримо присутствовали в нашей семье. Как герои детских сказок.
Знал я про такие мелочи быта ушедшей эпохи, как определенная неприкосновенная сумма денег, всегда носимая в дедовом кармане, когда еще до войны он работал на одном из Ленинградских заводов. Не пошлая заначка от жены, а вполне конкретные деньги для найма такси на случай форс-мажора в виде трамвайной пробки: за десятиминутное опоздание к началу смены в те годы давали десять лет тюрьмы.
Не ушли от меня и более поздние штрихи тогдашней жизни – военное время. Когда дед был вторым секретарем обкома ВКП(б) Башкирской АССР. И наломавшись за день (для тех, кто не знает, поясню: в Уфу был эвакуирован ряд оборонных заводов; в частности Рыбинский завод авиационных двигателей, который снабжал фонт моторами Климова для истребителей «Як»), он – как и весь обком – был вынужден, с поправкой на московское время, до утра дежурить на рабочем месте, ожидая ночного звонка. Ведь Сталин, как вампир, превращал день в ночь, а ночь в день и чрезвычайно любил совещания в самую глухую пору.
Я хорошо представляю себе партийных вождей.
Ленина я никогда – даже в годы своей самозабвенной комсомольской веры – не любил за его показную конфетность. Он казался приторным до тошноты, как бескалорийный заменитель сахара.
Про легендарного Мироныча – Сергея Мироновича Кирова – я знал конкретно от деда, что он, как любой здоровый русский мужик, имеющий органы и не отягощенный раздумьями, был пьяницей и бабником.
(Впрочем, моей легендарный дед Василий Иванович был пьяницей еще более крепким. Существовало семейное предание, что после праздничного парада на Дворцовой площади в Ленинграде 1 мая 1932 года Мироныч заглянул на танковый завод имени Ворошилова, чья продукция шла перед трибунами. И там праздник продолжился, и мой скромный дед перепил первого секретаря Ленинградского обкома: Киров лег, а Улин принял еще стакан водки и пошел плясать на голове, как умел только он. Правда, дед все-таки был гораздо моложе.)
Известно, что исключительно благодаря пристрастию народного любимца к ляжкам балерин Мариинский императорский театр оперы и балета в Ленинграде получил имя Кировского.