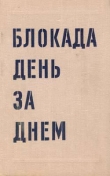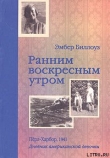Текст книги "Парашютисты"
Автор книги: Виктор Тельпугов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– Отставить! – на этот раз совсем решительно и властно рявкнул Кузя.
Впрочем, и без его команды так на так бы и получилось – проснулась Варшавка. Загудела, залязгала – сначала вдалеке, потом ближе, ближе и скоро вся налилась железным громом…
Опять потерян был счет часам и минутам. Скоро солнце со всех сторон начало обшаривать жидкие кустики, в которых спрятались четверо. Пекло нещадно, без перерыва, без жалости. А на кебе, как назло, ни единого облачка. Только комариная ряска между землей и солнцем. Все опухли опять до чертиков. Пожалели даже, что так близко к дороге легли, но в лесок перебраться уже не было никакой возможности, хоть и недалече он был и все время манил своей тенью.
– А какие у немцев обозы? – наклонившись над самым ухом Кузи, спросил вдруг Слободкин.
Кузя наморщил лоб. "В самом деле, какие? Конные? Вряд ли".
– На машинах, ясное дело, – видишь, танки как шпарят. На конях разве угонишься?
– Но разведчики у них ведь верхом, ты же знаешь.
– Да-а… Ну, не будем гадать, посмотрим.
Когда солнце было совсем высоко, на шоссе вдруг неожиданно стихло. Наверное, добрых полчаса стояла полнейшая тишина, даже комары куда-то исчезли.
– Может, зря стараемся? – неожиданно громко спросил Кузю Слободкин.
– Тише ты, чертушка! – цыкнул на него Кузя. – Молчи и слушай.
– Я молчу.
– И слушай, тебе говорят.
– Ну, слушаю.
– Я слышу уже, – встрепенулась Инна. Все насторожились. Кузя привстал на корточки и тут же снова резко припал к земле.
– Обоз!…
Из-за поворота дороги прямо на них двигались крытые фургоны, в которые были впряжены гигантские рыжие лошади.
"Опять рыжие", – подумал Кузя и почему-то глянул на Слободкина. Тот неотрывно смотрел на фургоны и беззвучно шевелил губами.
"Неужели опять считает? – пронеслось в голове у Кузи. – Совсем забыл тогда у него спросить, помогает ли это, когда мурашки по коже. А ну-ка попробую… одна, две, три…"
Слободкин больно саданул его в бок:
– Соображаешь?
– Веселей так! – огрызнулся Кузя. – Десять, одиннадцать…
– Тише, чудик, умоляю тебя!
Он рявкнул это так, что передняя лошадь, которая была уже близко, нервно прижала уши.
– Раз, два, три… – Это Кузя уже не лошадей считал, секунды отсчитывал: пронесет или нет? – Сейчас будем хвост рубить, – сказал Кузя опять слишком громко.
Правда, этого уже никто не заметил: высокие кованые колеса высекали из выщербленного асфальта такой гром, что можно было чуть ли не кричать. Об этом Кузя уже не успел подумать: кто-то из четверых не выдержал, дал первую очередь, хотя конец обоза еще не появился. Ну, а раз начал один, значит, все должны…
– Слушай мою команду!
На какую-то долю секунды Кузе вдруг показалось – все пропало, бездарно и непоправимо. Все смешалось, спуталось. Но очередь вспыхивала за очередью, граната летела за гранатой, обоз сперва разорвался надвое, потом обе его половины рванулись в разные стороны.
Рядом с засадой остались стоять два фургона. Ездовые, прошитые десятками пуль, не успели покинуть своих мест и сидели в тех позах, в каких их застала смерть.
– Страшно… – когда все стихло, сказала Инна.
– Слушай мою команду! – крикнул Кузя. – Взять только самое необходимое. И живо, живо, живенько!…
Далеко в лесу, когда пришли в себя и отдышались, Кузя спросил:
– Кто все-таки первый поднял эту заваруху?
– Паника не у нас была, а у них, слава богу, – сказала Инна.
– Значит, ты?
– Во-первых, не я…
– Во-вторых? – не дал ей договорить Кузя. Слободкин заступился за Инну:
– Победителей не судят.
– Вы зря всполошились, я, может, благодарность хотел вынести тому, кто первый начал.
– Ну ладно, сочтемся еще славою. Давайте барыши подсчитывать,деловито вставил слово Кастерин.
Кузя присел на корточки, извлек из своих карманов и торжественно положил перед собой, как величайшую драгоценность, две банки консервов.
– А у вас что? Выкладывайте.
Оказалось, все, не сговариваясь, взяли одно и то же.
Кузя развел руками:
– Или действительно голод не тетка, или мы самые настоящие дурни… Хоть бы пару автоматов еще на развод догадались…
Все смущенно переглянулись, но Кузе не ответил никто. Голод в самом деле брал свое. Несколько банок было тут же открыто, и содержимое их уничтожено. Только после этого обнаружили, что консервы были необычные, таких еще ни разу никто из них не видывал.
– Тут чего-то хитро придумано, – покрутил перед собой пустую банку Кастерин. – Кузнецов, глянь-ка.
Тот внимательно осмотрел банку. На донышке ее был укреплен небольшой граненый ключ, рядом имелось отверстие – точно по форме ключа. Кузя осторожно ввел ключ в скважину, повернул. Внутри что-то хрустнуло, зашипело, через минуту Кузя резко отдернул руку. Банка упала на траву и зашипела еще больше.
– Что такое?
– Горячая, дьявол, совсем огонь.
Кастерин недоверчиво поднял банку и тут же отбросил:
– Ну и немец, ну и хитер! Заводная!…
Все сгрудились над банкой. Когда она немного остыла, Кузя вспорол ножом ее дно. На траву вылилась белая, молочного цвета, кашица, а за одним дном показалось другое.
– Все просто в общем-то, – сказал Слободкин. – Между одним и другим дном запаяли негашеную известь и обычную воду. Разделили их переборкой. Поворот ключа, вода соединилась с известью – получай, солдат, горячее блюдо. – Он протянул Кузе новую банку. – Испробуй.
Кузя отсоединил ключ, повернул его на пол-оборота в отверстии, консервы быстро разогрелись.
Спать легли сытые, довольные удачным налетом на немцев. Только Кузя, зарываясь в еловые ветки, проворчал свое командирское:
– По консервам-то мы спецы…
– Спи, спи, – успокоил его Кастерин. – Без жратвы тоже чего навоюешь!
Под утро пошел сильный дождь. Кузя проснулся первым, стал расталкивать лежавшего подле него Кастерина:
– Простудишься, все простудимся так. Буди ребят! Кастерин вскочил, похлопал себя по промокшим бокам.
– Теплый дождик, пусть дрыхнут пока. А вот с этим что делать будем?
Он положил перед Кузей пачку картонных мокрых коробок.
– Что это? Галеты?
– Какие галеты! Ослеп, что ли?
Кузя взял в руки одну из коробок, повертел перед заспанными глазами и вдруг вскрикнул:
– Неужели?
– Наконец-то сообразил! Тол, самый настоящий. Ты думал, солдат Кастерин ничего, кроме консервов, не узрел в фургоне?
– Я сам в суматохе одну тушенку хватал.
– Я тоже спешил, и темно еще там было, как у негра в сапоге. Но вот видишь… – продолжал он бережно прижимать к груди мокрые коробки с толом. Кузя готов был уже извиниться перед Кастериным, но тот вдруг испуганно засуетился:
– Огонь разводи! Живо!
– Ты что, спятил? Забыл, где находишься?…
– Разводи, говорят! Если размокнет, его уже не высушишь, дьявола.
Кузя попробовал еще что-то сказать, но Кастерин почти кричал:
– Нам взрывчатка нужна, понимаешь? Сейчас просушить еще можно.
Кузя долго не мог распалить огонь – руки не слушались. Наконец из-под дыма над мокрыми ветками хвои показалось пламя. Кастерин набросал сверху валежника и аккуратно положил на него все пачки тола.
Кузя шарахнулся в сторону.
– Не пугайся, десант. Ничего не будет страшного. Подсохнет – и все, ручаюсь. Испробовано уже. Эх ты, вояка…
Это было уже чересчур. Кузя собрал всю свою волю и сел у огня рядом с Кастериным. Он ясно видел, как покоробился и обгорел картон на толовых шашках, как стали обнаруживаться их желтоватые, почти белые на огне углы…
– Так и не взорвутся? – недоверчиво спросил он Кастерина.
– Взорвутся, когда надо, а сейчас подсохнут – и все. Но пересушивать тоже не надо.
– А что?
– Пересушивать опасно, – сказал Кастерин и голой рукой выхватил из огня одну шашку. – Эта готова, держи.
Кузя взял ее, перекидывая с одной руки на другую, отполз в сторону. Но Кастерин позвал его обратно.
– Сюда вот клади, – показал он на золу возле самого костра. – И держи вторую.
– И вот это тоже, – раздался Иннин голос.
На руке Кузи повисла небольшая, со школьный портфельчик, сумка с красным крестом. "Медицина" тоже, оказывается, не об одних консервах думала.
Перед тем как совсем оставить в покое Варшавку, они еще раз подошли к ней вплотную. Кузя снова нарезал бересты, Инна написала новый текст листовки, в которой говорилось, что немцам скоро придет конец.
– Они теперь этот почерк знают, – похвалил девушку Кузя.
– А что, разве неразборчиво? – не поняла его Инна.
– Нет, нет, вполне разборчиво. Рука просто мужская.
Кузя перевязал пачку листовок стеблем осоки и метнул ее из кустов на дорогу. Листовки веером рассыпались по асфальту.
– Точность снайперская, – сказал Кастерин.
– Не зря бабы нас картошкой и хлебом кормили, – поглядев на Кузю, сказал Слободкин.
– Картошкой и хлебом? – переспросил Кастерин, начавши забывать вкус и того, и другого. – И как оно получается? Есть можно?
Сказал и громко сглотнул слюну.
– Проходит, – вполне серьезно ответил ему Кузя и тоже сглотнул. Что-то мы про жратву разболтались? А? Надо срочно сменить пластинку. И пошли, братцы, пошли!
Двинулись в путь. Решено было наказывать того, кто первый заведет разговор о еде. Шли молча, о голоде не говорили и даже не думали. Думали совсем о другом – о том, что с каждым шагом все ближе излучина Днепра, а там – свои. Встретят, развяжут кисеты, накормят…
– Накормят? Кто это бухнул, признавайся! Ты, что ли, Кастерин?
– Последний раз. Больше не буду.
– Дать ему два наряда вне очереди.
– Сбавить ему вдвое за честность…
Но постепенно шутки умолкли. Лесные скитальцы уже не шли, а тащились по топким комариным болотам, все больше теряли силы. У Слободкина нестерпимо болело ребро, не давая ему покоя ни днем ни ночью. У Кузи ныла нога. Инна пробовала хоть как-то облегчить страдания ребят, но ничего не могла сделать. И трофейные медикаменты не помогали. Ей оставалось только одно – утешать ребят. Опять был потерян счет времени, как после того, первого, ночного боя в лесу.
И вдруг… В какой день это случилось? В какой час? В какую минуту? Этого никто из них не мог потом припомнить.
В воздухе еще и не пахло Днепром, к излучине которого они так упорно продирались, еще гнилой запах бесконечных болот дурманил до тошноты и без того кружившиеся головы, когда в одной из чащоб отряд "Победа" набрел на взвод десантников. На целый взвод!
Увидев перед собой три десятка бородачей с голубыми петлицами, счастливые скитальцы кинулись навстречу однополчанам, чтобы скорее обнять их, расцеловать. И обняли и расцеловали. И только тогда поняли, что взвод-то это не какой-нибудь – их родной, собственный! Подраненный, обтрепавшийся, обросший бородами чуть не до самого пояса, но именно свой, долгожданный, кровный взвод! С оружием. С командиром во главе.
– Ребята! Гляньте! Кузя! Нет, вы только гляньте! И Слобода-борода в придачу! – неслось со всех сторон.
– Вы ли это, ребята?…
– А вы?
– И мы – мы.
– Ну, если так, зачисляю вас на довольствие, хотя никакого приварка не обещаю пока.
Это сказал уже не кто-нибудь – сам Брага! И, хозяйским глазом взглянув на Инну и Кастерина, строго спросил:
– А это что за народ? Какого полка люди?
– Нашего, товарищ старшина, – ответил Кузя. – Сейчас все объясним. Полк не полк, но лесной отряд перед вами, "Победа" называется. А вы живы-здоровы, товарищ старшина?
– Полагается, Кузнецов, здоровым быть и даже живым. Сколько не виделись? Месяц? Да, около того. Ну, хватит, кончаем лесную жизнь, к своим выходим. Подтянуть ремешки, и вообще вид, внешний вид мне дайте! Как чувствуете? Сапоги, я вижу, разбили.
Нет, месяц положительно маленький срок, чтобы люди изменились. Особенно такие, как Брага.
– Товарищ старшина, а дальше-то как? – спросил Кузя.
– Из штаба распоряжение – нажать на все педали. По пути в бои больше не ввязываться, только разведку вести, брать "языков".
И вдруг совершенно неожиданно достает Брага из вещмешка пару сапог.
– А ну-ка примерь.
И Кузя – самый счастливый человек на свете:
– Спасибо, товарищ старшина!
– Скажи спасибо господу богу.
– Ну, спасибо тебе, господь бог, если такое дело.
– Теперь береги. Других не будет до самого конца войны. Ты знаешь, на сколько одна пара дается?
– Знаю.
– Носи аккуратней. Здесь – с кочки на кочку, а в Берлине асфальт. Да и тут есть дороги хорошие…
Рад-радешенек Кузя, ходит от одного человека к другому, хвалится обновой. Встретил Инну, она поглядела на сапоги и говорит:
– Не особо, конечно, но…
– Но все-таки сапоги, – помогает ей Кузя.
– Вот именно. А нога ваша как? Болит еще?
– Сейчас почти не болит.
– Ах, сейчас? – делает Инна ударение на этом слове. – А говорили совсем не болит.
– Сейчас совсем не болит.
– Нечестно это.
– Честно – не болит уже.
– Ну, вот-вот – уже! О чем я и говорю.
– Не сердись, так нужно. Ведь ваша профессия такая гуманная.
Они незаметно для себя перешли на "вы".
– Именно поэтому и сержусь. Такими вещами не шутят. Слушаться будете?
Кузя не успел ответить. Появился опять старшина:
– Довольно, хлопцы. Через десять минут выступаем.
Это его "хлопцы" относилось и к Кузе, и к Слободе, и к Инне – ко всем.
Самая тяжелая вещь в отделении – РПД, ручной пулемет Дегтярева. Сначала килограммов шесть или семь в нем, не больше. Потом, с каждым новым километром, он становится все тяжелей, ртутью наливается ствол до отказа, ртутью – диски, ртутью – трубочки сошников. Антапки и те по полпуда каждая! И вот на плече у тебя уже целое орудие вместе с лафетом. А сколько в тебе лошадиных сил? Нисколько. В тебе и самых обычных-то, человеческих, совсем не осталось. И у Прохватилова их больше нет, у знаменитого первого номера. "Достань воробушка" и в кости широк, а поди ж ты, выдохся. Кирза о кирзу шварк-шварк, вот-вот совсем остановится. Останавливается. Остановился уже.
– Больше не могу. Кто следующий? Слобода?
– Слобода.
РПД, кажется, лег ему прямо на кость несносной своей железякой, прямо на самую ключицу, и еще подпрыгивает. Ну почему, почему он подпрыгивает при каждом шаге и отдается болью в раненом боку? И – на ключицу, на ключицу самым острым своим углом. Поглядеть бы сейчас на этого конструктора товарища Дегтярева…
– Потерпи, Слобода, не ругайся. Вот влезем сейчас все-таки бой, тогда не будет ему цены, этому "Дегтяреву". Боевое охраненье уже залегло…
– Прохватилов! – Свободкин тащит РПД навстречу первому номеру.
А он уже тут как тут. Выбирает самое удобное место, как Брага его учил. Чуть в стороне и на взгорке. Очереди короткие. Прицельные. Только короткие и только прицельные. Патроны все на счету, каждый должен быть послан точно. Иначе, как говорят немцы, "капут гемахт"! Вон их сколько лезет. Пронюхали, выследили…
Сложный опять будет бой. Хоть и разреженный, а все же снова лес. Зенитками деревья стоят. Но ребята уже пообвыкли малость. Того, уж теперь не будет, что в первом лесном бою, когда десант на десант. И не ночь еще. А если бы даже и ночь? Теперь уже знают, что к чему.
Прохватилов позицию выбрал точно. И второй номер у него под бочком. И гранаты лететь будут правильно, если дело до них дойдет. Кажется, дойдет все-таки: левый фланг не оттянулся вовремя. Теперь терять и секунды нельзя. Давай, карманная артиллерия, выручай, столько раз ведь уже выручала. РПД тебя поддержит. А ну, Прохватилыч, вынеси-ка его вон туда, оттуда тебе и вовсе все видно будет. Короткими перебежками или ползком, по-пластунски. Все равно как, только скорей. Не тяжело тебе? Не тяжело. В руках игрушка, не пулемет. Слава товарищу Дегтяреву!
И Прохватилову спасибо: на самом пределе был, но успел. И второму номеру спасибо.
А вот о правом фланге забывать тоже нельзя, за правый тоже все головой отвечают. Вон что тут получилось: гранаты – на левый и РПД – на левый. А немец, он тоже не дурак, каждый промах твой видит, оплошность всякую.
И опять Прохватилов ползи, да живей, и чтоб диски твои не отстали. Не отстанут! Под вторым-то номером кто? Слобода под вторым. А ну-ка разряди! Разряди, Слобода, чтоб знали…
Прохватилов что-то очень плотно прижался к земле. Широко зашарил большой белой рукой по звенящим гильзам.
– Что с тобой, Прохватилыч?
Не ответил. Не расслышал, что ли? Но пулемет ведь затих,
– Прохватилов!… Наконец отозвался:
– Разряди, Слобода, чтоб знали, гады! А я…
– А ты?
– Тяжело у меня на спине.
И опять тонко звякнули гильзы под белой рукой.
Стал Слободкин за первого. А вторым будет кто? Кузнецов? Этот может за любого сработать. Да и каждый сможет, только это уже не на стрельбище, тут команды могут не дать и скорее всего не дадут никакой команды.
– Не спеши! – Это уже Кузя возле самого уха Слободкина. – Бей короткими, слышишь, короткими, как Прохвати… – И замолк.
Слободкину некогда ни спросить, ни оглянуться.
– А ну-ка позволь. Я эту механику тоже знаю. – Это Кастерин.
Сколько длился этот бой? Час? Или день? Или два, может быть?
Ручной пулемет Дегтярева снова налился ртутью – и ствол, и диски, и сошники. Без Прохватилова стал он еще тяжелее. Таким тяжелым не был никогда. А тащить еще далеко. Где она, эта излучина? И что еще ждет там? Неизвестно. Может, правда, крылышки? Пора уже в бой настоящий, парашютный, когда действительно коршуном на врага. С малой высоты, пусть совсем малой, той, страшной. Теперь овладели ею. И "троллейбус" пусть пронесется под головами фашистов. Наделает шуму. Пора, пора…
Вчера пленного допрашивали. Наглец наглецом. Ждали – пощады запросит. И не подумал. Допросили чин чином, записали все.
– Штее ауф! Собирайся!
Встал, закурить захотел. Дали ему махорки. Задымил, сел на пенек нога на ногу.
– Можно спросить?
– Давай.
– Почему отступает русский?
– Что-что?!
– Отступает почему? Столько силы, столько кароших зольдат…
Кто-то не выдержал:
– В расход его – и все тут! Ишь какие разговоры ведет, подлюга!
– Нет, нет, пускай скажет. Очень даже интересно, что они думают.
– Почему отступаем, говоришь? Много солдат, техники много высмотрел. А договор у нас с кем? Ну, отвечай!…
Немец вдавил каблуком в траву недокуренную папиросу, и злая усмешка перекосила его и без того угловатое лицо.
– Договор… Мы и вы зольдат. Мы и вы…
С каждым словом все откровеннее, все циничнее. И вдруг перешел на чистейший русский:
– Летчики ваши отважные, а самолеты ваши были…
Тут ребят разобрало совсем:
– В расход его!
– Нечего церемониться!
Отвели в сторону. Одной пули хватило бы, не гляди, что верзила такой, но кто-то разрядил всю катушку. Чтобы на душе чуть полегчало.
Может, он и правду сказал, что в договор тот слишком верили? Может, верно насчет самолетов?… Отставить! Сейчас бы парашют за спину – и айда! По двадцать человек на каждую плоскость. Можно и по двадцать пять. И пошел! Теперь бы только глядеть на штурмана, глаз не спускать. Флажок! Потом другой! Хорошие были самолеты. Были? Почему были? Впрочем, конечно, были…
Ну и пленный попался на этот раз! Сколько брали уже – один на другого похожи, а этот перебудоражил сердца. Такого надо бы на развод оставить, не пленный, а находка. Сатанинская сила в ребятах проснулась.
К самолетам, скорей к самолетам!
– Плохие? Были, говоришь? Мы еще покажем тебе!
Шли ночью и днем. Только ветки по глазам. Только каждый день новая дырка на ремне. И подошвы от кирзы в болотах поотмокали.
* * *
«К Днепру, к Днепру, к Днепру!» – стучат сердца… Или это с голодухи в висках стучит?
Безлюдные кругом места. Ни своих, ни чужих. Когда своих нет, плохо. Когда немца нет, еще хуже: значит, в слишком глубоком тылу. Впрочем, свои кое-где еще попадаются. Вот это кто на поляну вышел, заросший, страшный?
– Свой?
– Братцы!
– Откуда такой?
– Из земли я, хлопцы, верно слово, из земли… – И засмеялся дико так, ошалело. Ноготь куснул – слышно было, как зуб на зуб пришелся.
Наскребли махорки.
– Да успокойся ты, Христа ради. Говори, откуда? Покурив, рассказал.
Отстал от своих. Отощал, в деревню зашел. А в деревне немцы. По-русски к нему:
"Командир?"
"Рядовой".
"Коммунист? Партизан? Комиссар? Признавайся".
"Солдат я".
"Комсомол?"
"И не комсомол".
"Врет он все! Расстрелять эту русскую сволочь!…"
Руки за спину. Повели. Далеко вести поленились. Метров триста самое большое. Лопату в руки.
"Копай".
"Зачем?"
"Сам себе могилу".
"Могилу?… Сам себе?!"
Поплевал на ладони и начал. А солнце в спину светит, покатает тенью, сколько ему, приговоренному, места нужно. Никогда думал, что такой высокий. В строю всегда на левом фланге стоял. Глядит на тень и все копает, копает. На один штык, на два штыка в землю ушел.
"Карашо, рус, очень карашо. Будет потом тебе сигарета".
А сами уже закурили. Недалеко конвоиры стояли, рядом совсем, дымок до него долетел. Тут голова и закружилась. Присел на край ямы. Живой еще, а ноги в могиле. И закипело внутри. "Нет, гады, нет, так просто не захороните!" Встал, опять поплевал на ладони – и еще на один штык. А сам все на немцев глаз. Покуривают, разговаривают, на русского внимания не обращают уже.
– И откуда только у меня храбрость взялась! Вынул из песка лопату, отряхнул и… по каске, по каске, по другой! И – в лес. В чащобу самую. Вот и все, хлопцы, весь сказ, верно слово… И опять засмеялся – тихо и жутко. Жутко стало на душе и у всех, кто слушал.
– Нутро надорвалось с того дня, – дотронулся он до груди. – Жгет и жгет днем и ночью. Старшина положил руку ему на плечо:
– Идти можешь? – Могу еще вроде.
– Тогда шагай помаленьку. Если с духу собьешься, мне скажи. Привалы у нас редко.
– Не собьюсь как-нибудь.
Тронулись дальше. Много людей, а дума у всех одна: о только что услышанном.
Кузя оттер Слободкина на ходу плечом в сторонку и говорит:
– Даже сердце занемело. И знаешь, что вспомнил?
– Ну?
– Флаг тот на посольстве в Леонтьевском.
– Опять? Флаг – это пустяки.
– Началось с небольшого вроде. Захотел немец, чтоб перед фашистской тряпкой головы мы склонили. Теперь он желает, чтобы мы в яму сошли на его глазах. Молча, безропотно. Да еще яму ту сами вырыли. До какой же степени озвереть надо, чтобы спектакли такие разыгрывать! – Кузя замолчал, чуть отстал от Слободкина, потом снова с ним поравнялся. – И еще знаешь, о чем подумалось?
– О чем?
– Надо было тогда, в Леонтьевском, не просто плюнуть и мимо пройти.
– А что ты мог один-то?
– Почему один? Нас много шло – улица, Москва целая!
– Все так, Кузя, но ведь договор у нас был, понимаешь, договор. Это же обязательства.
– Я так и знал! Месяц воюем, а не научились ничему еще. Ровным счетом ничему! Ну что ты мне про договор этот зудишь? Немец к Москве, говорят, рвется, а мы все о договорах вспоминаем.
– Во-первых, до Москвы его никто не допустит.
– Согласен.
– Во-вторых, ведь не мы нарушили договор. Мы свято его соблюдали.
– "Свято", "свято"! Ты солдат или Христос?!
– Мы советские люди.
– Опять началась политграмота! Да война же идет, война.
Кузя взволнован до такой степени, что спорить с ним невозможно. Слободкин и не спорит больше.
– Ну а насчет спектаклей ты прав. Спектакли он разыгрывать любит.
– Точно.
Кузя опять становится самим собой, к нему возвращается его обычное спокойствие. Вот и загнул вроде насчет договора, а все равно с таким человеком согласишься по любой трудной дороге шагать. По любой самой трудной, бесконечной дороге. Вроде этой вот, например, что к излучине Днепра ведет. Сколько дней уже, сколько ночей! И сколько еще осталось? Еще столько? Или полстолька?
– Четверть столечка нам топать еще, – смеется Кузя.
Смеется, сам еле стоит, а смеется так заразительно и легко, будто ноги не стерты в кровь, будто и в помине нет никакого ранения.
– Еще столько вот, полстолечка, четверть столечка еще!…
Это слышит и подхватывает Брага. Он вообще всегда все слышит и видит, что творится вокруг, на все мгновенно реагирует, а пропустить мимо ушей острое слово просто не в состоянии.
– Одним словом, ногой поддать, хлопцы. А чтобы еще короче было, запевай любимую.
Только про себя и не все сразу. Шутка передается из уст в уста, докатывается до каждого самого отставшего, еле плетущегося в хвосте. Колонна двигается быстрей – дотягивает до следующего привала.
Вот он, привал. Как подкошенные рухнули бойцы, где застала их команда. Даже Брага глубоко впечатался в высокую траву. Комара и то отогнать не может. Десять минут полнейшей тишины. Но как только поднялись, зашагали, Брага опять за свое:
– Так где же любимая, хлопцы? Или уши мне в болоте поил заложило?
– Не заложило, товарищ старшина, – в тон ему отвечает Кузя.
– А шо ж тоди?
– Поем, как приказано, про себя и не все сразу.
– Но про махорочку?
– Про нее, конечно.
– Больше вопросов нет.
– А где бы, товарищ старшина, в самом деле махорочки?
– Это там, хлопцы, там! Все будет – и самосад, и крылышки, и бой настоящий, наш, прямо с неба в самую кашу!
– Вашими устами да мед бы пить!
– Почему моими? Мед можно любыми устами. Но я сейчас не о меде думаю простой ключевой бы отведать, а то все кофе да кофе, – старшина занес надо ртом мятую-перемятую баклажку с черной болотной жижей, – харч невеселый. Но я знаю, кому жалобу писать.
– Кому?
– Мне и пишите: я старшина, за все в ответе.
Улыбнулся солдат, а улыбнулся – легче стало солдату, бойчее ноженьки зашагали.
Даже Слободкин мрачные мысли свои, кажется, отогнал. Не совсем, конечно, куда от них денешься? Хоть бегом беги – на пятки наступят. Все о том – где его Ина сейчас? Где она? Что с ней? Сердце стучит все тревожнее. То письма, письма, письма с каждой почтой – и вдруг сразу ни строки целый месяц. Это пострашнее всякой болотной жижи. Жижу долго тянуть можно, а такое вот сколько выдержишь? Еще месяц? Два? Страшно подумать даже. Лучше не думать совсем. И Слободкин шагает, шагает, шагает – не думает больше об Ине. Чего ему о ней думать сейчас? Легче станет? Не станет. Сколько ни думай, ничего не изменишь.
…Может, уехала в деревню? К родным? Наверняка уехала. Сейчас она в безопасности. Ходит в ночное небось. Она человек трудовой, все умеет. Не пропадет. А может, в госпитале? Медсестрой? Или на завод пошла? Учеником токаря или слесаря. Стоит у станка, рассчитывает шестеренки, резьбу резать приспосабливается. Ну уж, так сразу и резьбу! Сначала будет гайки гнать, учиться резцы затачивать, до резьбы когда еще дело дойдет! Резьба – самая сложная штука. Ничего трудней не придумаешь. Или чугун точить – адова работенка! Резцы садятся один за другим. Не женское это дело. У Ины руки нежные, узкие, кожа на них белая, тонкая, чуть заденет, бывало, в саду, за малейшую веточку зацепится – уже кровь. Сразу царапинку ко рту. Лизнет языком, совсем как ребенок. Нет, с такими руками чугун не поточишь. Чугунные чушки тяжелые, попробуй-ка подыми…
Идет Слободкин по лесу. Думу думает – о том о сем…
Ну вот о лесе, например. В лесу всегда хорошо. Даже сейчас, в эти дни. Идешь – от палящего солнца скрыт и от самолетов тоже. Даже теперь уютно и покойно в лесу. Будто и нет никакой войны, будто и не было. Просто шли ребята в поход. Идут, любуются – березы вокруг стоят красивые. Тонколистые, нежнорукие, белокожие…
Какие, какие? Нежнорукие? Белокожие? Нет, о лесе тоже нельзя. Лучше еще о чем-нибудь…
И не знает Слободкин, что за тридевять земель отсюда, в другом лесу, идет сейчас девушка. Руки у нее нежные, узкие, кожа на них белая, тонкая. Идет, напевает грустную песенку. И вдруг – что это? Поднесла к глазам ладошку, а на ладошке кровь – одна-единственная рубиновая бусинка. Но вот она пухнет, растет, еще минута – и побежит струйка. Девушка подносит ладошку к губам, виновато оглядывается на подруг и быстро слизывает капельку. "Вдруг подумают: "Неженка, белоручка какая!" – разговаривает сама с собой. А ведь еще пилить и пилить, делянку только-только начали. И все дуб, дуб, дуб. Железо, а не дерево. И норма большая, и бригадир говорит, что спиливать надо под самый корень, не так, как вчера.
И гложет одна неотступная, неотвязная мысль: где он сейчас? Что с ним? За месяц ни одного письма, ни единой строчки, и писать теперь некуда.
Судьба забросила Ину Скачко в далекие края так неожиданно, что и опомниться не дала.
Вчера работали в лесу первый раз. Сказали, что дрова нужны детскому саду военного завода. Но и без этого было понятно: сил не жалей. И не жалели. Поэтому сегодня и нет их совсем. С непривычки. Спина не гнется, руки не держат пилу, ноги подкашиваются. В бригаде двенадцать девчонок. Бригадир тринадцатая. Все на заготовках впервые. Бригадир только делает вид, что поопытнее других, а сама как глянула на делянку, так и ахнула:
– И все это нам?!
– Кому же? – как умели, успокоили подружки. – Нам да тебе, если не побрезгуешь черной работой.
– Я тоже пришла не кашу варить.
– Тем более что варить не из чего, – опять утешила бригадира бригада.
Ина слушала и не слышала. Работала не хуже других, старалась, но мысли были далеко-далеко. Там, где милый ее сейчас. Остановится на минуту, разогнет занемевшую спину и почему-то представит себе такой именно лес, с такими же вековыми дубами, и дружок ее, укрытый и защищенный ими, стреляет по врагу. Оттого, что защищен и укрыт, теплее делается на душе. Во всяком случае, можно терпеть разлуку. Собраться со всеми силами и терпеть. Сколько ее еще будет, этой войны? Много? Много, конечно. Только хорошее быстро проходит, плохое долго тянется.
– Это что за философия? – спросила Ину подруга, когда та поделилась с ней невеселыми мыслями. – Ты это вычитала или сама?
– Сама.
– Ну и зря. А я во всем стараюсь находить хорошее.
– И в войне тоже?
– Не в войне, конечно. Не такая я глупая. А о войне, если хочешь, я так скажу: ей скоро конец будет. Это как дождь: быстро начался – быстро кончится. Поверь слову.
– Хорошо бы.
– Точно тебе говорю, и оглянуться не успеем. Я об этом даже стихи сочинила. Хочешь?
– Стихи? Интересно!
– Вот послушай.
Девушка отложила в сторону пилу, поднялась во весь рост, оправила смятое ситцевое платьице, почему-то зажмурилась и прочла только две строки:
Сюда и свисту пуль не долететь,
Но весть о мире долетит мгновенно.
Ина посмотрела на нее удивленно и немного разочарованно:
– И это все?
– Все пока.
– А о чем это?
– Как о чем? О нашем лесе, о том, что хорошее шагает быстрей по земле, чем плохое. Не понятно?
– Теперь понятно. Не под рифму только.
– Рифма будет. Это начало самое.
– А ты про любовь можешь? – Ямочка, вдруг возникшая на щеке Ины, медленно поползла под прядку волос возле уха.
– Про любовь?
Ина покраснела, но повторила:
– Да, про любовь. Красивую и высокую. Про которую только в стихах и можно. Ты кого-нибудь любила?
Глаза Ины сузились, превратились в две щелочки.
– Что ты, что ты! – испуганно замахала руками сочинительница.
– А я вот, представь…
– Честное слово?
– Да.
– Глупости говоришь. Этого не может быть. Кто же он?
– Слободкин, Сергей.
– Смешно!
– А ты откуда его знаешь?
– Я не знаю. Фамилия смешная – Слободкин…
Ина обиженно отвернулась и начала искать глазами брошенную в траву пилу.
– Ну не сердись! Не хватает еще из-за какого-то Слободкина отношения портить.