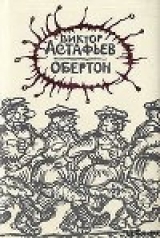
Текст книги "Обертон"
Автор книги: Виктор Астафьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 6 страниц)
– Раны уже заросли.
– Неправда ваша, – возразила Люба, – штанина желтая от гноя, свищи сочатся, осколки выходят, а ты на конюшне навильники ворочаешь. Если рану засоришь – сдохнуть можешь, и мне тебя жалко будет.
– Раз уж раньше не сдох. Между прочим, ты меня так раззадорила на соломе, что я и про рану забыл, мог бы и умереть на тебе.
– Прекрасная смерть для мужчины. Великий художник Рафаэль, читала я гдето, испустил дух подобным образом. Ладно. Довольно болтать глупости. Зайдем в санчасть, перевяжет там тебя моя подруга… Какой длинный вечер! Какой тревожный свет все еще прожигает небо. Уж не пожар ли где? Пойдем давай, пойдем.
Зловещим светом налитой, бритвенно острой полоской подрезало холмы, подровняло лес на горизонте. Свет не мерцал, не двигался. Он остывал, погружаясь в темную глубину. Еще не проснулись ночные птицы, еще звезды не разгорелись в полный накал, лишь мерцали в вышине бесцветными маковками перепутье меж тьмою и светом.
Мы шли на огни селенья, спустились к речке, и когда уж за речкой, на подъеме, вступили в коридор сомкнувшихся тополей, Люба притянула меня к себе, коротко и больно поцеловала, перевела дух, сказала: мол, очень хорошо, что я завтра рано утром уезжаю гнать лошадей в дальний совхоз и не приду ее провожать, – уж так жалки, так утомительны прощальные вздохи, выпрашиванье адресов и фотокарточек, обет писать и помнить друг друга вечно… Зачем?
Я не спросил у Любы, откуда она узнала, что мне назначено поутру гнать лошадей; и когда поздней уже ночью я шел из санчасти в конюховку, так мне сделалось тоскливо, так жалко себя, что захотелось побыть одному. Я свернул в сад, долго и неподвижно лежал на остывающей в ночи земле, слушал, как притихает боль после перевязки раны, отходит сердце, защемленное в груди, вроде и поплакал, потому что, когда очнулся, лицо было влажное.
За речкой, в ярко освещенном помещении, в бывшей средней школе, по саду и в ограде сортировки все еще звучали песни – военный народ прощался с войною.
От речки наплывал ознобный воздух, из глубины сада веяло густо перевитыми запахами осени.
Осень перевалила на исход.
Кони в нашу почтовую часть все прибывали. Военные ведомства, занимающиеся репарациями, не интересовались, есть ли конюшни, корм в данной части, им главное – рассовать трофейное имущество, снять с себя ответственность, переложить ее на другие погоны.
Нестроевики, брошенные на конюшню, не справлялись с работой, поили лошадей из ручья раз в день, а со временем перевели лошадок на самообслуживание – выгоняли их в чистое поле. Крестьянские парни жили при лошадях – в шалашах, среди лохмато колеблющейся кукурузы. К пастухам наведывались пастушки, иные там и закрепились. Арутюнян, Артюха Колотушкин и Горовой – все руководили наиболее боеспособным звеном нашего войска, распоряжались и лошадьми: подвозили дрова, солому, буряки, отвозили назем в поля, грузы по столовым и ближним деревням. Когда началось распределение лошадей по ближним колхозам и совхозам на зиму, наши начальники взялись именовать себя уполномоченными, подозревалось, пару лошадей, если не больше, наши уполномоченные прогнали мимо цели – уж больно вкусно ели и пили, пастухов с невестами угощали. С полей доносило запахи мясного варева. Маленько перепадало и нам: уполномоченные боялись Славы Каменщикова, умасливали его всячески.
За лошадьми приезжали представители совхозов и колхозов, порою даже сам голова прибывал, с подарками на подводе: самогон, хлеб, сало.
Из совхоза «Победа», куда приказано было отправить пятнадцать лошадей, не приехал никто, лишь пришла в часть телеграмма: «Нетерпением ждем». Кони меж тем начали партизанить, выели все вокруг вплоть до стерни на полях, добрались до опытной станции, до местечковых огородов и дворов, вели себя агрессивно оккупанты же!
На другой день после большой гулянки по Ольвии стоял стон и плач. На станцию уезжала большая партия демобилизованных, среди них отправлялись на Урал Коляша Хахалин с Женярой Белоусовой и Толя-якут со Стешей – в недосягаемо далекую Якутию. Мечтали поехать на станцию провожать своих невест мои помощники, Ермила Головатый и Кирила Чириков. Но их не отпустили. С вечера получил на нас сухой паек наш строгий начальник – Слава Каменщиков, отметая всяческие сантименты, майор Котлов погрозил кулаком женихам, заодно и мне: «Если лошадей растеряете или пропьете – будет вам трибунал».
Солдаты как миленькие на рассвете погнали лошадок по пыльной дороге снова на запад. Главное было – поскорее миновать хутора и лес на истоке речки. Но, попавши в, лес, лошади встали, начали кормиться травой, падалицами диких груш, яблок, даже желудями, будто уж и не кони они, а поросята или козлы. Опыт в обращении с лошадьми у меня уже накопился, я велел Ермиле и Кириле разжечь костерок, ложиться спать. И сам, Любовью Гавриловной измученный до ломоты в костях, собрался вздремнуть, пока табун наш подкопит сил для дальней шего пути.
И помощники мои совсем сникли – не видать им своих невест. Ермила и Кирила – парни деревенского, обстоятельного ума и склада, как припали каждый к своей девке, без охов и вздохов, без чтения литературы обработали материал – накачали девкам по брюху, однако дали перед этим слово, что распишутся. Но что она, та расписка, тот штампик в красноармейской книжке и бумажка под названием «Прошлюб», – иные бойцы-храбрецы тут же, по отбытии суженых, в жены записанных, выдирали страничку, чтоб не портился облик красноармейского до кумента, потому как все записи в книжке потом перекочуют в паспорт, рвали ту страничку с регистрацией, пускали клочки бумаги по ветру.
Узнав, что женихи наряжаются в «командировку» перед самой их отправкой, невесты Ермилы и Кирилы посчитали это коварным обманом и происком, коих в последнее время по Ольвии случилось немало, собрались жаловаться командованию. Но какое тут командование? Демобилизованные ж, никому ж не принадлежат, кроме женихов. Ультиматум был: если женихи не явятся проводить суженых, не подтвердят прилюдно, что приедут к ним в качестве мужей, страдалицы покончат с собой – удавятся во дворе сортировки, на старой груше, – пусть полюбуются и командование, и хитрованы женихи, и майор Котлов из окошка кабинета на дела свои, пусть знают, до какой крайности они довели честных девушек, и пусть их жертвы предостерегут доверчивых подруг…
Я всю дорогу измывался над женихами. Они сначала похохатывали, потом вяло отлаивались, зло на конях сносили. У костерка они сидели смиренные, после похмелюги лица у них отекли, ели они вяло, а я подзуживал: если они плохо будут кушать, вовсе обессилеют, малосильные мужья кому нужны. И стих Коляши Хахалина припомнил кстати: «С работой колотишься, грешишь – торопишься, ешь давишься, хрен когда поправишься». Ответом мне было молчаливо-печальные улыбки парней. Костер нагорел, Ермила и Кирила накатали на угли картошек; конь, румынский видать, подкрался, хвать горячую картошку из костра. Работяги мои сгребли по хворостине и так лупили коня, гоняя его по чаще, что он человеческим голосом, по-русски закричал: «Бля буду, больше воровать не стану!»
Я сказал парням, что нехорошо так: животное не виновато в том, что они невест не проводили. Парни мне в ответ: «Твоя зазноба, Любовь Гавриловна преподобная, тоже отбывает домой, и тоже небось сердце болит?» Я им заливаю, что поручил свою зазнобу Коляше Хахалину – с ним никто не пропадет, достал из продуктового мешка бутылку с самогоном, налил им и себе в кружки, брякнул: «Я себе в „Победе“ невесту сдобуду, если табун на ход направите, может, отпущу вас с Богом». Парни громко заверили меня, что шкуры с оккупантов спустят, но заставят их уважать дисциплину и ходить строем.
Русские парни, воевавшие в пехоте, не по разу раненные, Ермила и Кирила, в отличие от меня, и к жизни стремились основательной. Соединятся вот со своими сужеными и дальше будут идти по Богом им определенному пути, заниматься крестьянской работой, ребятишек творить, если, конечно, не уморят их, победителей, голодом, не поймают в поле с колосками, с ведром мерзлой картошки и не сгноят в строговоспитательных заведениях спасенного ими отечества.
Кони, пришедшие из-за границы своим ходом, дисциплину знали, к табуну привыкли и, подкормившись в лесу, трусили и трусили себе, по-солдатски, на ходу мародерничали – где с межи, где в перелесках травку состригут, колосок, метелку овса. К полудню была завершена большая часть пути, нарисованного мне на казенной бумаге с грифом и номером нашей почтовой части. Документы на лошадей, мои документы и всякие сопроводиловки были в планшете, уделенном мне майором Котловым. Планшетка, надетая через плечо, била меня по боку, тыкалась в бедро. Жеребец мой возил, видать, командира лихого и форсистого, хлопанье чужой планшетки удостоверяло его, что и сейчас на нем гарцует человек немалого чина…
Достигнув населенного пункта, жеребец снова приосанился, глаза его налились диким пламенем. Приосанился и я. Перегон коней оказался не таким уж трудным делом. Довольный собою, радый за своих помощников, я улыбался в неотросшие усы, вспоминая, как Ермила и Кирила взгромоздили на свои хребты седла, бегом хватили в обратный путь, а я еще и свистнул им вослед.
Кони рысцой и, как мне показалось, охотно миновали в прах разбитое селение. Я еще раз дал лошадям напиться и покормиться на околице мертвого селения, сам маленько подкрепился, настороженно озираясь по сторонам, – в таких вот развалинах, средь ломи кирпичей и головешек, горелых печных труб, хат со спаленными крышами, с выбитыми окнами, сорванными дверьми, подходяще скрываться братьям самостийщикам.
Села, как и люди, оживали от войны по-разному. Иное село тут же после отступления оккупантов начинало струить дымки из печей, возле побитого жилья уже сложены в кучу мало битые кирпичи, древесная ломь на топливо, горелые доски, выпрямленные гвозди и скобы, угольники стекла. Кто мог, копал землянки под жилье. Чумазые ребятишки просили у солдат хлебца, из сожженного бурьяна выметывался петух, преследуя курицу, – единственная пара, уцелевшая в селе. Петух непременно настигал убегающую курицу и, справив свое петушье дело, привстав на цыпочки, упоенно орал: «Вот так, братья по разуму, надо возобновлять живое поголовье, вот так надлежит порушенную жизнь восстанавливать!»
У этого побитого села ни улицы, ни таблички, хоть бы угольком написанной, ни дымка из печки, ни голоска с подворий. Но жизнь в нем угадывалась, пряталась она в зарослях бурьяна, в одичавших садах и пустых огородах, в дорожках едва начавшихся и тут же смолкающих.
Одиночный выстрел, затем вялая пулеметная очередь, донесшаяся с полей, добавили хода табуну – коняги-оккупанты многое уже испытали за войну, иные побывали в пристежках и обозах. Одна лошадь заприхрамывала, сбилась с хода и, как ни старалась наддать, отставала от табуна и уже издалека подала обреченный голос.
Начались полуубранные, где и вовсе не убранные поля. Кони снова взбесились, не обращали внимания на плеть, которой я их лупил, на отборнейшие матюки. «Они ж не русские, они ж из-за границы, нашего языка не понимают», заметил еще Кирила. «Успели парни к проводинам или нет?» – мимолетно подумалось мне. Вплыл табун в поле, погрузился в овсы, кони опять вели себя по-мародерски – выдирали стебли вместе с подгнившими корешками. Черными снарядами выметывались из-под копыт коней тетерева, с клекотом вздымались с земли конюки, отяжелевшие от мышатины, табуны голубей и воронья растревоженно закружились над полем, где животные, не разумеющие моего языка, беспощадно истребляли совхозное добро, и если бы в помощь мне не прибегло несколько увеченных войною мужиков, не знаю, что бы я и делал…
Нахватавшись в дороге пыли, в поле – овса, лошади, почуяв жилье, сами свернули к длинным саманным строениям с неряшливо залатанными пробоинами. На задах конюшни, которую я определил по кучам свежего назьма и по истолченной копытами земле, стояли обгорелые, упочиненные жестью и вновь выдолбленные из осин колоды, наполненные водой. Несколько строений маячило на невысоком, выдутом ветрами холме. Среди горелых, кое-где и кое-как залатанных досками построек красовался барак, собранный из деревянного барахла, со старыми и новыми рамами. Должно быть, общежитие. Редкие столбы с полуобгорелыми проводами, полуочищенные от коры свежие бревна, прутики недавних посадок в засохших лунках, полуразбитая техника. В центре селения осанисто, даже с вызовом громоздился новый комбайн, и возле него возились, чего-то закручивали, били молотками два парня в военном изрядно изношенном обмундировании. Вот, пожалуй, весь пейзаж совхоза «Победа», мимоходно охваченный взглядом.
Однако поля вокруг были вспаханы под зябь, пыльной зеленью светились озимые на лоскутьях пашен. Вызревший хлеб, овсы, кукуруза, подсолнечники где убраны, где и не тронуты еще. Много не убрано картошки, сахарной свеклы. На скошенных полях паслось стадо коров, овец и коз, оживляя пестротою осенний пейзаж. Среди селения, в глубоко разрытой, полувысохшей луже, лежали кабан и чушка, о чем-то умиротворенно похрюкивали. Клочьями бумаги белели курицы, над наново срубленной в центре селения избой струился дымок, наносило пареной капустой – значит, столовая. А где столовая, там и контора, решил я. Из конторы, прихрамывая и улыбаясь, спешил мне навстречу человек в галстуке и старой шляпе – директор совхоза, Вадим Петрович Барышников, бывший командир стрелкового батальона, – знал я о нем от наших командиров. Войдя в середину табуна лошадей, сгрудившихся вокруг колод, он теребил их за гривы, похлопывал по шеям, что-то высказывал им почти с рыданием, затем бросился обнимать меня, будто я пригнал ему в подарок личных рысаков.
– Н-ну, парень! Н-ну, парень! Ты и не представляешь, чего сотворил! Ты же урожай наш спас! Нас спас! Да что толковать? – А сам, будто веслом загребая ногою, спешил уже к соседнему крыльцу, громко звал: – Лара! Лара! Ты посмотри, посмотри, что тут творится!
С крылечка спускалась миловидная женщина с усталым, загорелым до черноты лицом.
– Лариса! – протянула она мне руку. – Жена этого счастливого начальника, по совместительству агроном, счетовод и секретарь комсомольской организации. Партийной у нас пока нет. – Вздохнула: – Ох, как многого у нас еще нет… Пойдемте.
– Гостя накормить, напоить и вообще… – распоряжался начальник нам вслед.
Мы пошли к стоящему на отшибе дому, в одной половине которого жила семья директора совхоза из трех человек: Вадима Петровича, Ларисы и голозадого карапуза. Он ходил возле скамейки и ладошкой пришлепывал свежее собственное добро, чтоб никуда не делось.
– Воло-о-дя-а! – вскрикнула Лариса и бросилась к ребенку. – Ну как не стыдно?! – Володя, сияя глазенками, протянул к матери руки. Она подхватила его под мышки и, держа в отдалении от себя, смущенно говорила: – Извините нас! – унесла его за занавеску и, брякая рукомойником, ворковала: – Дядя вон приехал, лошадок привел, а ты что натворил? Какими подарками его встретил?!
Малый повизгивал от щекочущей воды, радовался тому, что мама пришла, и неожиданно произнес: «Тя-тя!»
– Дядя, дядя, мое золотко, радость моя, мученье мое, – вытерев пеленкой, клюнула Лариса малого в заднюшку и, бросив мне на колени пеленку, подала свое сокровище: – Подержите этого разбойника, а то он не даст мне заняться делом. – Она сразу оживилась, помолодела лицом и, отринув усталость, радовалась вслух: – Это он третье слово сказал! Говорил только «мама», «папа», теперь вот и «дядя»! У-ух ты, умница моя! Ух ты, ушкуйник сибирский! – забирая у меня ребенка, чмокала его всюду, наговаривала Лариса, водворяя малого в неуклюжую деревянную качалку. Малыш ревел во весь богатырский голос, тянул руки к маме.
Я выковырял ревуна из качалки, поглядел на него и сказал, как командир Арутюнов: «Прекратить!» Малец перестал плакать, прижался ко мне. Конечно же ему хотелось к матери, но и дядя, на худой конец, ничего. Поскрипывая пустышкой, Вовка приник щекой к моей груди. Я никогда еще не держал детей на руках и вроде как обомлел. А мальчик усмирился и начал задремывать. Я слышал, как толчками бьется мое сердце, и подумал: это мешает дитю заснуть. А может, наоборот, привыкший к груди отца, к биению его сердца, малыш чувствовал себя спокойней. Я начал ощущать себя так, будто принял дитя в себя, во мне пробуждалось неведомое доселе томление и умильность – так вот оно как! Внимая доверчивой теплоте малыша, я плохо слышал Ларису, хлопотавшую у плиты за дощатой заборкой. А она рассказывала мне историю совхоза «Победа» и только начавшуюся историю семьи и жизни Барышниковых. Совхоз «Победа» – типичное восстанавливающееся после войны и разрухи хозяйство. Все почти с нуля, все требует рук, силы, хозяйственной смекалки. А где ее набраться вчерашнему офицеру и недавней студентке? Помощи пока ниоткуда никакой. Вот первая ощутимая подмога – лошади. Главное, нет людей. Скота мало. Земли запущены. Машинный парк – старье. Сдали в прошлом году первый урожай свеклы – купили комбайн; у военных выменяли на мясо автомашину.
Вадим Петрович по образованию агроном, но не законченный – с третьего курса сельхозинститута призвали на войну, дважды ранен, в звании старшего лейтенанта демобилизовался по ранениям в 1944 году и направлен на восстановление хозяйства в западные, отвоеванные у врага, районы. Лариса родом из Омска. Папа – речной капитан, мама – учительница средней школы, преподает русский и литературу. Лариса тоже училась на агронома, их институт шефствовал над госпиталем, где лечился Вадим Петрович. Там и скрестились их пути, и дошефствовала она до разбойника этого горластого.
– Пал боец? Положите его, положите. Конечно, очень трудно, – продолжала Лариса разговор, занимаясь у плиты, – но духом люди не падают, надеются на лучшее. Недавно целый отряд девушек прислали, репрессированных. Угоняли их в Германию. Домой отчего-то пока не пускают, да у многих никакого дома и нет потерялись они в миру. А девушки хорошие, работают безотказно, только очень уж они запуганы. А красавицы, как на подбор! Это ж надо, как фашисты умели сортировать людей! Для тяжелых работ, для оборонного дела, для утех и забав все расписано, всему нормы и стандарты определены! Хозяйство, конечно, восстановим, жизнь какую-никакую наладим. Но как с девушками-то? Кому они нужны с переломанными-то судьбами, где-то уже и расхристанные. Вечер настанет, запоют в красном уголке, за стенкой, – хоть в лес убегай…
Лариса еще не успела справиться с ужином, как появилась помощница.
– Меня Вадим Петрович послал, – спинывая с ног старые солдатские сапоги возле порога, объявила она. Вовка, заслышав голос, тут же воспрянул ото сна, сел в качалке и заорал с новой силой. Гостья кинулась к нему, сюсюкая на ходу: – Да сиротиночка ты моя! Да лапонька милая! Бросили тебя родители, бросили! И ты их брось, когда вырастешь! – Наговаривая, она утирала малому слезы, осыпала его звонкими поцелуями.
Малый обхватил девушку за шею, прижался к ней. Лариса бегала с посудой из кухни к столу, разрумянившаяся, в белом платке, и кивала мне – слыхали, мол, чего говорит наша няня. Вовка-подхалим тут же взял на слух и выдал четвертое слово: «Ня-ня!»
– Няня, вовочка, няня, мой миленочек! – подхватила девушка счастливым голосом.
– Изабелла, познакомься с гостем.
Я бросил в таз недокуренную цигарку, отмахнул дым к двери и напряженно ждал. Девушка с ребенком на руках приблизилась ко мне. Конечно, я не на Луне рос, не в глухом скиту жил, в небольшом российском городке с узловой железнодорожной станцией зимогорил. Туда на стройку стекался пролетарский на род отовсюду – домну возводить, и уже выработал племя не племя, расу не расу, но народишко крепкой породы, иначе ему было бы не выжить в нашей стране, не заломать фашизм, может, и не шибко выдающийся умом народ получился, но от пестроты наций красоты и стати набрался. Петляя по земле после фронта и госпиталей, вращаясь, так сказать, в массах, немало повидал я красивых женщин, хотя бы на той же Кубани любимая моя медсестра была не последнего ряду, одно время даже самой красивой на всем белом свете казалась. Но то, что я увидел!..
В древности правоверные мусульмане в некоторых странах падали ниц и не смели поднять лица до тех пор, пока не проедет мимо высоко на лошади сидящий ясноликий султан или падишах. Кто смел поднять лицо, тому тут же отрубали голову: не смотри на солнце – ослепнешь!
Это я о гостье, об Изабелле, на бумаге речь веду, в натуре-то я тогда онемел, усох и чуть от удивления не сдох…
Она приблизилась ко мне, церемонно присела, вроде бы книксен сделала, я пребывал в столбняке и не сразу ответил на приветствие, для себя неожиданно сунул ей руку и почувствовал маленькую ее, неспокойную, от земляной работы шершавую ладонь. Спекшиеся губы девушки чем-то обесцвечены, тонкая кожа лица иссушена, ныне-то я знаю – пудрой, косметикой, – голова повязана сиреневым лоскутом, концы его обвиты вокруг шеи. Сосущая печаль исходила от увядшего лица, подчеркнутого небрежной сиреневой повязкой с почти стершимися золотисты ми скобочками – лоскуту надлежало украсить это блеклое, в печаль погруженное существо. Девушка не хотела, чтоб ее пристально рассматривали, загородилась Вовкой, с хохотом подбрасывала его: «Воты ка-ак! Воты ка-а-ак!» Вовка взвизгивал от страха и восторга, хватался за нянькин нарядный лоскут, но она ловко уклонялась от рук мальца.
– Кавалер наш с разбором! – выглянув из-за загородки, улыбнулась Лариса. – Не всем руки подает! Предпочитает Беллочку, засыпает под ее песни, песни же у нее, как она утверждает, – режимные. Ну да ничего. Скоро парни демобилизуют ся, будет и на нашей бедной улице праздник! Будет и у нас много детей! Построим детсад, определим туда работать нашу няню.
Вадим Петрович, шумно, с извинениями ввалившийся в дом, за столом угощал меня буряковой самогонкой, гостью – тоже, говорил и говорил о совхозных делах, перескакивал и на другие темы, на судьбы людей, страны, возрождение мирной жизни – главная это сейчас забота, и разговор везде и всюду одинаковый.
– А что, дорогой наш гость, – захмелев, поинтересовался Вадим Петрович, скоро ли твоя демобилизация?
Я ответил – вот-вот. Престарелые воины, женщины и необходимые народному хозяйству специалисты – первая очередь. Во вторую пойдут те, у кого три ранения и чей возраст вышел из армейских норм, да и другого разного люда много подпадает под вторую очередь, потом и третья подоспеет, и четвертая чего ж такую армию зазря кормить? Выпивка и рассуждения мои настолько смелыми меня сделали и уверенность такую вселили в меня, что я уж открыто глядел на Изабеллу, даже предложил выпить за гостью.
– Ой, давайте, давайте! – встрепенулись хозяева. – Она у нас отходит помаленьку.
Я не вник, от чего Изабелла отходит, да и зачем ей куда-то и от чего-то отходить? Перед таким дивом только и остается вздохнуть о несовершенстве слова перед природой: слову-то писчему тысячи лет, природе ж и творениям ее миллионы.
Всякая прекрасная женщина прекрасна прежде всего глазами – этому женскому «струменту» дано не только светиться на лице, но и проникать в тайну, которой часто и сами-то женщины пугаются, а уж нашему брату мужику, верхогляду, только и остается – отвести глаза в сторону, чтоб не ожечься о встречный взгляд. Глаза Изабеллы, будто на египетском древнем рисунке, унесены почти на щеки, вроде как отстранены от лица. Темный обод глазниц, прячущий глаза взатень, да еще и цвет глаз сумеречного отлива, лампадным желтым светом подсвеченных из глубины, придавали им запредельное значение. Такие глаза бывают только у колдуний. Бархатные шнурки черных, от висков начинающихся бровей вытягивали и не могли вытянуть глаза на положенное место. Нос с позверушечьи чуткими ноздрями, темнеющий пушок над губой, вызывающе вздернутый подбородок со вмятинкой – все как бы рассеяно, разбросано и присутствовало на лице только потому, что согласно природе обязано здесь присутствовать. В просверке молнии, не сгорая, не вздрагивая ресницами, отпечатается в моей памяти этот незавершенный лик вроде как от ацтеков или инков дошедшего или, уж точнее, долетевшего до нас создания, на котором лежало то же, как у древнего народа, покорное ожидание беды и согласие принять ее безропотно.
– Значит, тебя три раза стукнуло? – услышал я Вадима Петровича и очнулся. – Многовато. Такой молодой. Но мы, старые вояки, жилистые! Выдюжим! Устоим! Поработаем на благо отечества нашего. Ты, дорогой, вот о чем подумай: как демобилизуешься, подговорил бы пяток товарищей, пусть и без профессии, но с руками, с ногами, – и к нам! А?! Мы быстренько вас на механизаторов и полеводов выучим. Сейчас каждому военному скитальцу важно место свое в жизни обрести. Оженим. Вот хотя бы Беллочка наша – работы не боится, детей любит. Ты бы пошла за него замуж? – спросил вдруг Вадим Петрович.
– Я хоть за черта, хоть за дьявола! – с исступлением произнесла Изабелла.
– Ну, Беллочка, зачем же за дьявола-то? За кого попало мы тебя не отдадим! – улыбнулась Лариса, стараясь снять неловкость.
– Ко мне фашисты ночью приходят.
– Все еще!.. – ужаснулась Лариса и плотнее прижала Вовку, присосавшегося к прикрытой платочком груди, посапывающего в ласковом материнском тепле и уюте.
– Да! – еще громче и резче отозвалась Изабелла, поискала глазами стакан с недопитой самогонкой, схватила его и крупными глотками, словно воду, выпила содержимое до дна и тут же со стоном откинулась на стену.
«Видали?!» – взглядом показала хозяйка на Изабеллу и покачала головой.
– Ты все-таки подумай над моим предложением, – гнул свою линию Вадим Петрович, тоже изо всех сил стараясь рассеять неловкость. – Заработки у нас постепенно стабилизируются, спецовку выхлопочем, общежитие соорудим, но как семьей обзаведетесь, даю слово коммуниста, тут же построим дом, выделим землю.
– Налейте мне еще! – дернулась, отлипла от стены гостья.
– Беллочка! Не надо бы тебе больше, – ласково попросила Лариса и понесла Вовку в качалку. – Дурно будет…
– Еще хочу!
Вадим Петрович, подавив вздох, плеснул в стакан Изабеллы самогонки и в наши кружки ленул по глоточку.
– Тебе, Вадим Петрович, тоже довольно, – негромко, но повелительно произнесла Лариса, задергивая легкую занавеску над Вовкиной качалкой. Завтра много работы: документы на лошадей оформлять, сбрую где-то доставать или шить, телеги налаживать, волокуши ли для начала в лесу нарубить…
И тут все время вертевшийся вопрос: кого же, кого же напоминают мне Лариса и Вадим Петрович? – разом разрешился: супругов Мироновых, незабвенных Ивана Кузмича и Василису Егоровну – обитателей и защитников Белогорской крепости, – я совсем-совсем недавно перечитывал «Капитанскую дочку».
– Ничего, ничего, Ларочка! Все найдем, все изладим, – потирая руки, ответствовал Вадим Петрович, настороженно следя за Изабеллой, которая, не дожидаясь компании, высосала из стакана самогонку и снова ничем не закусила, снова откинулась затылком к стене, погружаясь в бездонное свое одиночество.
– А вы что так мало ели? – вернувшись к столу, спросила меня Лариса. Правда, разносолы у нас… мясо случается, но рыбы нет. А я так люблю рыбку привыкла. Папа капитанил на Иртыше, дома у нас всегда была разная рыбка.
– Да уж… Но ничего, ничего, пруд выкопаем, карпов или карасей, на худой конец, разведем.
– Я петь хочу! – встряла в разговор Изабелла.
– Ну и попой, попой, раз хочется. Только не очень громко, Вова уснул. Ох уж эти песни ваши, – со вздохом молвила Лариса. – Лучше б плакали…
Изабелла, прежде чем запеть, демонстративно выдернула заколку, и сиреневая материя опала на ее плечи, обнажив шею с голубыми жилками, голову с едва отросшим, воронью отливающим волосом. Не знала Изабелла, что прическа ее с остро выхваченными клочками волос – прическа невольника – лет через тридцать сделается модной и русские дамы и девки, не ведая, чего бы еще с собой сотворить, чем себя выделить, сделаются похожими на недавно выпущенных из тюрьмы зечек.
Изабелла же демонстрировала безобразие свое, совершенное над нею унижение. Уже на наших контрольных пунктах, борясь со вшивостью, обкорнали всех невольниц, «из оттуда» возвращающихся, мстили им за то, что они служили врагу, развлекали в бардаках и казармах гитлеровских молодцов в то время, когда советское воинство истекало по окопам и землянкам спермой от онанизма. Уж унижать человека – так унижать: сперва уничтожить его оболочку, потом и до души добраться. Лесопильное племя гнуло к земле, растаптывало всякие зачатки человеческого достоинства, с особым сладострастием терзало оно беспомощных, несчастных женщин. С каким нетерпением девчонки рвались «домой» из неволи, хотя многие из них и не знали, уцелел ли дом, остался ли кто в этом доме или хотя бы на этом свете? Но Родина-то, край любимый, люди, русские, украинские, кавказские, – они же есть, и разве они не пожалеют, не простят ни в чем не повинных девчушек, ведь не они бросали армию и Родину, это армия и Родина бросила их на произвол судьбы? Чужеземцы-оккупанты, творя вселюдное зло на завоеванных землях, делали с людьми все, что хотели.
Но на пути к дому встали стеной так называемые органы, где орудовали орлы похлеще гестаповских костоломов. Они раздевали девчушек – для дезинфекции и унизительного осмотра, вытряхивали вещички, отнимали что поценней, дешевенькие украшения, безделушки растаптывали. Врачи и санитары, заранее к этим кадрам враждебно настроенные, бранили их, пинали, гоняли, оскорбляли, после осмотра куда-то уводили больных венерическими болезнями, слухи ходили расстреливали.
Прошедшие сквозь жалости не знающие контроли и проверки, уже в советских пунктах, на казенных нарах, девчонки «обслуживали» родных хозяев. Сламывались, кончали жизнь под колесами поездов или в петле, но большей частью искупали «вину» трудом, и ладно, если под началом такого вот добряка, как Вадим Петрович. А если энкавэдэшное отродье, привыкшее мясничать в трибуналах, тюрьмах да лагерях, сражаться в цензурах, станет руководить «бывшими», перевоспитывать их? Вадим Петрович и Лариса всячески избегали опасных тем в разговоре, но невозможно легко и быстро излечить больную психику недавних детей, срастить изломанные судьбы.
– Песня тоски по родине. Автор неизвестен, – объявила Изабелла, будто со сцены, и, завывая в конце фраз, речитативом начала выпевать свою боль и ненависть, стуча кулаком по столу:
Где твоя любимая, товарищ?
На чужой томится стороне.
Там теперь немецкие солдаты
Ходят по родной твоей земле.
И твоя любимая за марку
Куплена и в дом отвезена.
Стряпкой, поломойкой иль свинаркой
Трудится с утра и дотемна.
Рыжая, озлобленная Грета
Бьет хлыстом, кто под руку попал,
По глазам, которые ты где-то
И когда-то жарко целовал.
Пусть святая месть тебя тревожит,
Не дает покоя на пути.
Немца ты обязан уничтожить!
Немцу ты обязан отомстить!
Примитивная, душу рвущая самодеятельная поэзия невольников. Внемлет ли ей кто? Слышит ли кровью и слезами умытого брата своего? Не слышат! Не внемлют! Исполнительница с мокрыми губами, пьяные слезы размазывающая по лицу, – это вот кому предназначено? К кому обращено?! Да, да, и ко мне, и ко всем нам, умеющим легко друг друга предавать и так же легко забывать предательство.








