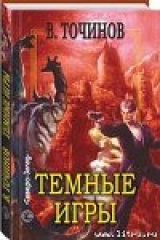
Текст книги "Темные игры (сборник)"
Автор книги: Виктор Точинов
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Зачем аспирант Рулькин принес это ему? Ну, тут сюжет затертый. Шаблонный. «Гонкуровская премия для убийцы» – там сказано все. Невозможность тащить такое в одиночку. Надежда хоть как-то и хоть с кем-то поделиться. Защитная реакция мозга, стремящегося выплеснуть это. Избавиться. А еще сознательная жажда славы (любой!) – и подсознательное желание быть пойманным. Именно поэтому серийные убийцы затевают телефонные игры с журналистами. А то и с полицией. Или с милицией.
Итак, сэр, ваши действия? С действиями сложнее. Обвинить человека в убийстве на основе рассказа? Пусть излишне натуралистичного, пусть смакующего слишком уж реальные кровавые подробности? А если все же – фантазия? Если просто – больной? Безобидный больной? Был ли вообще мальчик? В смысле – женщина? Была коротко стриженая голова, которая стояла на столе, на трех подложенных томиках Юнга? Тьфу, при чем тут Юнг, это ведь уже мое воображение поработало. Тоже больное. У всех писателей – в чем-то больное.
К черту ломать голову. Надо ехать к Граеву. Прямо с утра.
Граев. Павел Граев. Мрачный, молчаливый верзила с мертвой хваткой. Почти ровесник – на год старше. Почти друг. Почти – после пяти лет знакомства. Друзей у Граева мало. Очень мало. С друзьями он ходил под пули. Друзья, и никто другой, зовут Граева странным прозвищем: Танцор.
С бору по сосенке обставленный кабинет. На стене огромная карта города – виден каждый дом. Въевшийся навеки запах табака. Копоть со стен скоро будет отваливаться пластами смолы и никотина. Здесь много курят и спорят до хрипоты. Отсюда срываются по тревожному звонку. Здесь не держат ангелов или киношных суперменов. Сюда обыкновенные парни с усталыми лицами тащат кровь и боль со всего города. Чтобы их, и крови, и боли, стало меньше. Потому что здесь убойный отдел.
Граев молчит. Он никогда не спрашивает: зачем пришел. Пришел – значит надо. И очень редко что-то рассказывает сам. Информацию об интересных делах надо вытягивать клещами. Чаще отправляет с расспросами к своим ребятам.
Паша – персонаж нескольких его вещей, под другим именем, естественно. Одну прочитал. Удивлялся: этот робот, запрограммированный говорить телеграфным языком, хватать, стрелять, тащить и не пускать – я? Но не обижался. Он не видел ни одного человека, на которого бы Граев обиделся. Не было таких на свете. Не заживались. На свободе, по крайней мере.
Он: Паша, скажи... у вас не было нераскрытого дела с убийством и расчленением? С одной характерной деталью – брошенный на месте длинный плащ? Или пальто?
И, не дожидаясь ответа, понял – было.
Граев привстал, оперся о стол огромными ладонями. Угол рта дернулся. И, словно вколачивая костыль в шпалу: Откуда. Ты. Это. Знаешь.
Он не был готов ответить. Надеялся на лучшее. Вопреки всему – надеялся. Либо все выдумка. Либо – известное и законченное дело, как-то ускользнувшее от внимания. Ляпнул: прорабатываю сюжет. Как после грязного убийства уйти не светясь? Ход очевидный. Купить в секонд-хенде длинное пальтишко, потом сбросить – и уйти в чистом...
Не поверил. Граев никогда не верит в совпадения. Уставился совиными глазами. Процедил, избегая подробностей: кто-то этот сюжет уже проработал. Несколько раз. Не в книжках. На практике. Серия, и тянется давно. Первый случай – несколько лет назад. Потом еще два, с большими перерывами. А с этого августа – как прорвало, один за одним. И каждый раз утром, на рассвете.
Вот так. Несколько лет назад один ныне начинающий писатель учился в ЛГУ. Потом, надо думать, уехал на родину. Но Питер иногда навещал. А недавно поступил в аспирантуру и поселился в общежитии. Ага. Но как сумел написать такое? И так?
И что теперь делать? Рассказать все? Подождать до вечера?
Граев не дал взвесить до конца все за и против: информацию про плащи в прессу не сливали. Очень мало кто об этом знает. Ты уверен, что про этот сюжетный ход тебе кто-то где-то не сказал? Не обронил какой намек случайно? Не проговорился? Отложилось – а потом всплыло, как свое...
Он ничего не ответил. Он не знал, что ответить.
Граев давил: тип крайне опасный. И если сообразит, что проговорился... Знаешь, что будет? Знаешь, что с тобой будет?! Смотри!
Вскочил, выхватил из сейфа папку, швырнул на стол фотографию. На ней была голова. Стоящая на столе отделенная от тела голова. Он поднимал руку целую вечность, и еще вечность подвигал к себе фотографию. И заранее знал, чье лицо сейчас глянет мертвыми глазами на него.
Не она. Это была не она. Он очень надеялся, что колыхнувшаяся внутри радость не отразится на лице, ускользнет от Граева. Не она! Совершенно чужое лицо. Но женское. Вгляделся внимательней.
Реденькие довольно длинные волосы, цвет на черно-белом фото не понять, но не брюнетка. И не темная шатенка. Высокий узкий лоб; непропорционально расширяющееся книзу лицо дисгармонирует с маленьким ртом (измятым, искаженным, окровавленным) и узким подбородком; длинноватый, отнюдь не классической формы нос слишком приближается к верхней губе – и при жизни была не красавица. А уж теперь...
Под голову подставлена книга. Одна. Но очень толстая. Энциклопедия?
Смотри, смотри, скрежещет Граев. Это вторая. Всего шесть. Четыре женщины, двое мужчин. Ты понял, во что вляпался? Ты все хорошо понял? Вспоминай, перевороши все свои разговоры! Сюжеты, бля, он прорабатывает...
Вторая... Это – вторая... А где...
Он так и не смог рассказать о странном парне Андрее Рулькине. Он слишком хорошо знал Граева. Даже если тот вовсе не Рулькин, Граев его найдет. Не даст времени до следующего рассвета. Он прорвется к высшему начальству, он поднимет на ноги всех, он оцепит общаги, он возьмет всю ответственность за возможную пустышку на себя. И пойдет со своей зондеркомандой по студгородку, как ходил пять лет назад на зачистках. Не разбирая, мужские комнаты или женские. Мордой в пол! Руки за голову!!! Лежать, бляди!!! Это маньяк-серийник и Граеву плевать на последствия. Он кого хочешь уложит мордой в пол – лишь бы избежать следующей головы на столе.
Тогда они с аспирантом Рулькиным никогда больше не увидятся. И никогда не спросить: как, как, как, черт побери, тот написал это. Рулькина будут спрашивать другие. И о другом.
Сидел молча. Сидел и не решался попросить фотографию первой. Или первого? Граев тоже молчал. Курил. Злился. Знал его блестящую память и не верил. И явно решал: отпустить с миром или применить допрос третьей степени?
Белое лицо на столе между ними глядело в никуда. Мертвыми пустыми глазами.
Граев остался один. Просидел несколько минут неподвижно. Снял трубку. Сообщение для абонента двадцать-семьдесят семь: «Женя, заканчивай лабуду. Бери Костика и срочно ко мне. Рыба клюнула. Павел.»
Рыба не клюнула. Даже не всплеснула, не показалась из воды. Ходит в глубине кругами. Волчьими кругами. Зато теперь появился живец.
Он опоздал. Шел все медленнее и медленнее. Не знал, что скажет аспиранту Рулькину. С чего начнет разговор. Что вообще сделает, когда увидит неприметную фигуру за самым дальним столом. Почти не видную за прислоненными к стене щитами со старыми афишами.
За дальним столом – никого. И он понял, что не встретит писателя А.А.Рулькина никогда. На своих занятиях по крайней мере.
Он не представлял, о чем сегодня рассказывал. Слова лились свободным потоком, совершенно изолированно от сознания. И только по задаваемым вопросам сообразил, что прочитал лекцию о холодном оружии. О ножах. Попробовал сосредоточиться, стал отвечать: почему же тогда шпана всех мастей так любит финки? Единственно за внешний вид. Лезвие у финки совершенно неудобное, чтобы резать – слишком длинное и прямое. А при колющем ударе может застрять между костями – форма передней части нерациональная. Другое дело – в подворотне приставить к пузу лоха. Профиль хищный, опасный, щучий. На нервы давит сильнее хороших в работе ножей...
Такое в книжках не прочтешь. Это – от Граева. Надо позвонить ему. Прямо сегодня. Вся затея поговорить с Рулькиным – мальчишество. Дурацкое желание встать лицом к лицу с настоящим убийцей. Серийным маньяком. Две недели смотрел на это лицо и в эти глаза – и что? Да и кто сказал, что он убивает только на рассвете? И только в длинном пальто? К черту живых маньяков. Фантазии пока хватает и на придуманных.
Задумался, не услышал следующий вопрос. Извинился, сослался на нездоровье, завершил занятие. На пятьдесят минут раньше. Даже не соврал – второй день в груди поселилась тупая боль, то затихая, то усиливаясь.
Остановил у дверей Иришку Чернову. Она добровольно была кем-то вроде неформального старосты – практически, впрочем, без обязанностей. Спросил про Рулькина.
Удивилась: а кто это?
Напомнил, описал внешность. Не вспомнила. Он давил: вон там же сидел, за дальним столом. В самом углу, за афишами. Иришка смутилась: да-да, вроде действительно ходил такой, незаметный и тихий. Нет, координат ей не давал, да и не общалась она с ним, она сюда не за этим ходит, ей гораздо интереснее...
Понятно. Других не стал и спрашивать. И так ясно, что никому Рулькин (Рулькин ли?) никакой ведущей к себе ниточки не дал. Не исключено, что вся его здесь учеба затеяна с единственной целью – всучить свой людоедский опус. Недаром держался так тихо и незаметно, ни с кем не общаясь.
Граева на месте не было. Мобильник тоже не отвечал. Дежурному ничего говорить не стал. Дозвонится завтра.
Часы остановились. Время хотело было остановиться вместе с ними, не получилось – за окном светало. Но несколько часов куда-то опять исчезли – как и над чем работал почти всю ночь, он не помнил. Совершенно. Почти дописанный рассказ читал, как совершенно незнакомый. Сюжет (изобретенный как обычно, в метро, позавчера) был прост: герой, от лица которого идет повествование, встает рано утром и едет в область, в однодневную командировку, на заштатное деревенское предприятие. Все хорошо и мило: природа, дорога, приветливые сельские жители, патриархальный и немного смешной провинциальный заводик. Но постепенно герой замечает на заводе некие легкие странности, крохотные неправильные штрихи в общей светлой картине. Штрихи становятся толще и виднее, странное превращается в загадочное, потом в чудовищное – и в финале герой погибает не то в шестернях, не то в кислотном резервуаре огромного агрегата, предназначенного совсем не для этого. Не шедевр, но продаваемо. Что это за агрегат и какие гнусности творились под мирной личиной завода – он не успел придумать.
И правильно, потому что в командировку герой не уехал. Собрался выходить, открыл дверь и тут же получил первый удар ножом. От закутанной в длинный бежевый плащ фигуры.
Это был рассказ Рулькина. Вывернутый им наизнанку – точь-в-точь по своему рецепту – то же самое глазами убиваемого. Читать дальше не стал. Ощущения жертвы в процессе расчленения любопытства не вызывали.
Строки на экране плыли и прыгали. Глаза резало. Внутри сжималась и разжималась когтистая лапа. В ушах – погребальный звон. Или... Звонок в дверь?
Медленно, массируя грудь, подошел к двери. Неуверенно взялся за шишечку замка. Он никогда не спрашивал: «кто?»
Граев шел по тротуару – плечи от одного края до другого. Зол был ужасно. Что за манера идиотская – убивать на рассвете? Одно слово, маньяк. Псих и шизоид. Нормальный человек купит вечером водки, в теплой компании на собственной кухне выпьет ее в количестве, непредставимом для какого-нибудь европейца, сбегает за добавкой, выпьет еще – и зарежет хлебным ножом собутыльника. Потом уснет тут же под столом, где утром его и повяжут. Напишет с похмелюги чистосердечное и поедет в республику Коми валить лес и ждать амнистии. А если даже пойдет на умышленное и подготовленное – все равно не попрется на рассвете. Народу на улицах почти нет, кто на заводы – прошли затемно, кто в конторы и офисы – те еще дома. Любой неурочный прохожий на улице виден за версту и запоминаем. И чужой в подъезде, на лестнице – тоже, для гостей совсем не время.
Однако – шесть трупов.
А этот дурак делает все, чтобы стать седьмым. Хотя вчера поберегся грамотно – закончил курсы свои дурацкие на час раньше. Если кто-то изучил распорядок и планировал встречу на пустынной темной улице – то просчитался. Но опасней-то всего – утро. Ну ладно, мы на страже, мы бдим. Но наружке кем тут прикинуться, подскажите? Влюбленной парочкой, не замечающей часов? В шесть утра...
Женька выкрутился изящно. Сидит на лавочке у самого подъезда, бессмысленно смотрит на бутылку пива. Открытую и полупустую, стоящую на той же лавочке. В руке погасшая сигарета. Нарядный прикид приведен в некий беспорядок – не слишком сильный. Ясно сразу: мужик завершил ночной загул, достаточно, впрочем, культурный. И теперь никак не соберется с силами взять курс на родной аэродром. Пьян, понятно. Но не агрессивно и не в лежку, не вызывая немедленного желания набирать две начинающихся с нуля цифры. Неплохо.
Граев уселся рядом. Женька чуть заметно покачал головой. Граев сделал легкий жест рукой: уходи, потом поговорим. Через минуту из подъезда вышел Костик. Что придумал он, дабы не выпускать дверь из виду, Граев не представлял. Разве что прикинулся ковриком.
Отпустил и его. Сам остался, одним глотком оприходовал пиво. Сидел мрачным сфинксом, курил. Не бутафорил, ничего из себя не изображал. Зачем сидел? Он и сам не знал. Утренний Мясник не придет. Сегодня уже не придет. Поздно – солнце все выше поднимается над пустырями купчинских новостроек. Надо уходить. Уходить и снова бесплодно ломать голову, пытаясь найти хоть какие-то связи между шестью расчлененными трупами. Их может и не быть. Бывало всякое. Иногда просто мочат без разбора. Иногда делают хитрую и кровавую обставу – заставить поверить в серию, вывести из-под удара кого-то, имевшего веские причины убрать лишь одного. Опять ребята будут рыскать по городу, по всем секонд-хендам, по магазинчикам, по выставленным буквой «П» раскладушкам (ох, сколько же их! любит наш народ шмотки второго срока...) – присматриваться, искать человека, покупающего длинную свободную одежду – плащ, легкое пальто. Одежду на один раз. Человека, про которого ничего больше не известно. А ночью – опять сюда, к писательскому подъезду. Чтобы попытаться покончить с тянущимся восемь лет кошмаром.
Он умер от сердечного приступа. Тем самым утром. На рассвете. Многие ученики пришли на похороны. Последняя группа – вся. В полном составе. Все двенадцать человек. Рулькина А.А., паренька со светлыми редеющими волосами, среди них не было. Иришка, вспомнив последний (Господи! кто бы знал?) разговор с метром, специально пересчитала всех, сравнив со списком. И убедилась – учитель ошибся. Перепутал с прошлой группой. Наверное, уже страдал от болей... Жалела искренне. От лица учеников выступила на гражданской панихиде. Крохотные ушки, как всегда, пылали. Дрожал голос – но не мысли. А слезы были – настоящие.
Заключение лежало на столе. Граев к нему не притрагивался. Сомневался. Сомневающийся Граев – зрелище редкое. И страшноватое. Лоб нахмурен, огромные кулаки сжимаются и разжимаются, высокие скулы закаменели неподвижно.
Доктор Марин, эксперт, чувствовал себя виноватым: я понимаю, Граев... Такое совпадение... Сутки ты его пас, ожидая подхода убийцы – а утром труп. Но это совпадение. Я и сам сделал стойку, проверил все, что мог. Все чисто. Никакой экзотики. Никаких инъекций через замочную скважину. Никаких распыленных в щелочку препаратов. Это не убийство, Граев. Скорее самоубийство – в самом широком смысле слова. Он сам себя убивал – лошадиными дозами кофе, сигарет, спиртного. Ритмом жизни этим диким. Сердце и сосуды в таком состоянии... Все могло оборваться в один момент. И оборвалось.
Граев упорствовал: Василий Петрович, скажи – что-то могло послужить внешним толчком? Страх?
Марин понял с полуслова: думаешь, открыл дверь, а там – Утренний Мясник? В длинном пальто и с окровавленным топором под мышкой?
Граев так не думал. Думать так – признать, что люди, которым не раз доверял прикрывать спину, могут предать и подставить. Бросить пост. Просто проверял все варианты – по въевшейся намертво привычке.
Марин: теоретически такое возможно. А было ли – проверяй. Я не слишком верю. Глазка в двери нет, а напугать словами? Не ребенок все-таки... Защелки тоже нет, уходя – не захлопнешь... Ключи пропадали? С замком кто-нибудь мудрил снаружи?
Заключение по замку еще не готово. И, похоже, придется привлекать дополнительных экспертов. Литературоведов. Для листков, которые сейчас кропотливо, как мозаику, складывают из найденных в мусорном ведре обрывков. Два готовых Граев прочитал – и очень ему не понравилась такая разработка сюжета.
Марин пожал плечами: а если Мясник был внутри, то почему не занялся любимым делом? Тот ведь не сразу умер... Не в одну секунду...
Граев молчал. Не было внутри Мясника. Если только... Если только...
Спросил: что-нибудь еще любопытное нашлось? Со смертью не связанное? На первый взгляд не связанное?
Марин задумчиво взъерошил волосы: ну, в общем, кое-какие изменения в мозгу были. Говорят, у творческих людей – дело обычное. Результаты вскрытия мозга Вольтера или Ленина... Там вообще такое... Поневоле поверишь в теорию, что гениальность – просто огромная патология. Внешние проявления? Хм... Трудно сказать... У него не случались провалы в памяти, черные пятна – причем на трезвую голову? Тебе не говорил?
Говорил. Случались. Граев опускал слова медленно, осторожно, как мины на боевом взводе: у него выпадало иной раз по несколько часов... Ночью и утром... Читал свои рассказы – и не знал, как их написал... Не помнил...
Марин утвердительно закивал: вот-вот, очень похоже. Но это со смертью не связано. Никоим образом. Эти патологии возникли давно и жизни угрожать никак не могли...
Граев на что-то решился. Взял заключение со стола, сложил пополам. Сказал с совершенно мертвой интонацией, ни вопроса, ни утверждения: Давно... Очень давно... Лет восемь назад, не меньше...
Задребезжал телефон, Граев снял трубку. Возбужденный голос Костика: Паша, нашли секонд-хендик в Купчино! Уличный, на раскладушках. Там запомнили мужика – покупал длинные пальто, плащи. Четыре раза как минимум за последнее время. Не примеряя, на глазок. И – всегда утром, они только-только раскладывались...
Молодцы, бесцветным голосом похвалил Граев.
Костик холодка не заметил: но самое-то главное! По словесному – это вылитый... Граев, спорю на ящик пива, вовек не догадаешься...
Граев, хмуро: тоже мне, бином Ньютона... Готовь пиво.
...Подошел к стеллажу, вынул книгу в мягкой обложке. Секунду смотрел на дарственную надпись. И – жилы на лбу вздулись – пополам. Поперек. Швырнул обрывки в мусорную корзину.
Прощайте, доктор Джекил.
ЛюбимаяТропинка едва заметна. Тростник стоит зеленой стеной, метелки тихо шелестят над головами. Джунгли. Кажется – вот-вот затрещат под тяжелой поступью стебли и кто-то огромный, чешуйчатый, жутко древний – протопает, не выбирая дороги, пересечет наш путь, мы замрем и оторопело будем смотреть, как исчезает в зарослях волочащийся за ним длинный хвост...
– Здесь правда-правда никого никогда не бывает? – спрашиваешь ты.
– Конечно, любимая. Никого-никогда. Только ты и я. Мы с тобой...
– А кто же тогда протоптал тропинку?
– Не знаю... Может, кабаны?
Ты громко и заливисто смеешься. От звонкого смеха все древние и чешуйчатые позорно бегут, трусливо поджимая длинные хвосты... Кабаны, обиженно похрюкивая, спешат за ними. Кабаны здесь – в пятидесяти верстах от огромного города! – действительно бывают. Но тропинку протоптал я.
Долина постепенно понижается, под ногами должно уже зачавкать – но не чавкает, все высохло, лето очень жаркое. Заросли вдруг кончаются, травянистый склон, вверх – и мы пришли.
– Красота... – почти шепчешь ты. А потом вскидываешь руки над головой и протяжно кричишь:
– Красота-а-а-а-а!!! – так кричат в горах, ожидая услышать эхо. Но эха здесь нет. Это место тишины, оно не любит громких звуков – и крик далеко не уходит – глохнет, вязнет в зеленой подкове тростника, окружившего, прижавшего к реке этот невесть как оказавшийся в болотистой пойме взгорок. Крик никому не слышен.
Вещи ложатся к подножию березы – огромной старой березы, единственного здесь по-настоящему высокого дерева. Туда же летят мои джинсы и твой брючный костюмчик. Береза – маяк, ориентир в пути через тростниковые джунгли. Если ее вдруг срубят, совсем непросто будет отыскать путь на этот чудо-островок, найденный мною в низменной речной долине.
– Сюда и в самом деле никто не приходит. Посмотри на эту березу – чиста, бела и непорочна. Ни одного автографа побывавшего Васи, ни одного объяснения в любви, даже банального «Танька – дура!» и то нет...
Ты внимательно исследуешь бересту.
– Бедненькая! Такая старая – и до сих пор девственница... – неожиданно обнимаешь дерево, прижимаешься щекой к стволу. – Я буду любить тебя! Ты согласна?
Какая-то пичуга срывается с ветвей и улетает – рассказать подругам о невиданном зрелище. О девушке с яркими рыжими волосами и в ярком бирюзовом купальнике.
– Жалко, что Наташки с нами нет... Она любит такие места. Давай в следуюший раз устроим тут шашлыки и ее пригласим тоже? Ой, здорово я придумала! Точно, шашлыки на необитаемом острове! Ведь это необитаемый остров?
– Необитаемый. И остров – весной, в половодье...
– Значит, решено – шашлыки! И Наташку приглашаем!
Наташка... Ты до сих пор считаешь ее подругой. Когда-то мы дружили втроем... Теперь нас двое... Молодая семья. Их тоже двое – растит сына. Встречаемся очень редко. Иногда захожу к ней в гости – вроде и не гонит, но... На шашлыки Наташка, конечно, не поедет.
...Мы стоим на высоком берегу. Река невелика – от силы метров пятнадцать в ширину. Песчаный обрыв изрыт ласточками-береговушками. У самой воды мелкий, удивительно желтый песок лежит нешироким горизонтальным уступом – мини-пляж, очень удобно заходить в воду. Но не стоит. Вода хрустально-прозрачна и, я знаю, холодна как лед. Даже в июле.
Ижора – родниковая речка. Уже потом, протекая мимо знаменитого своими заводами Колпина, и мимо Коммунара, тоже знаменитого – бумажными фабриками, и мимо ничем не знаменитых совхозных коровников – только потом, через много километров она превратится в огромную и теплую сточную канаву, не замерзающую даже зимой. А здесь, в верховьях, можно смело пить речную воду и купаться – если, конечно, имеешь навыки моржа и не боишься простуды...
– Смотри, милая! – я с силой топаю. У ласточек начинается легкое землетрясение – они черно-белыми молниями выскальзывают из нор, чертят над самой поверхностью стремительные зигзаги. Ты восхищенно взвизгиваешь, когда одна выстреливает буквально из-под наших ног.
– Какие длинные... – это уже про водоросли, ты наклоняешься и смотришь вниз, в прозрачно-загадочный мир. Здесь глубоко, но прекрасно видны у дна упругие зеленые ленты, вытянутые течением, колеблющиеся, извивающиеся... Как роскошные волосы утопленницы...
– А в них что-то есть... эротическое... – ты оборачиваешься и кладешь ладони на мои плечи. – Люби меня! Здесь! Сейчас!
Да, любимая... Ну как отказать тебе, такой прекрасной и солнечной?
Ты спускаешься к реке (купальник остался где-то там, у березы), пробуешь вытянутой ногой воду, с визгом отскакиваешь. Идешь вдоль берега, всматриваясь в глубину... И проходишь чуть дальше, где к воде спускаются небольшие кустики.
– А это что такое? Ты же говорил – никто не бывает... Только мне одной... Обманул-обманул-обманул! Противный мальчишка...
Я подхожу. В кустах спрятаны два предмета явно не природного происхождения: чуть тронутая ржавчиной штыковая лопата с потемневшей ручкой и свернутый мешок – тоже не слишком новый.
– Не знаю, – задумчиво говорю я. – Здесь очень чистый и мелкий песок. Возможно, изредка приплывают за ним из деревни. Забыли или оставили до следующего раза...
Но ты уже смотришь по сторонам подозрительно – на берег, в воду... И начинаешь испытывать видимое беспокойство из-за отсутствия купальника. Совершенно напрасно, милая...
– Фу-у-у... А тут что еще за очистки?
– Это не очистки. Это раки – линяли, сбрасывали старые панцири. Их здесь много...
Все подозрения мгновенно забыты.
– Раки! Как здорово... Хочу рака! Ты поймаешь мне рака, пусик, да?
Конечно, любимая, я поймаю тебе рака.
Вода ледяная, а раки понастроили свои фортеции глубоко – чтобы просунуть руку в нору, приходится погружаться почти по шею. Конечности угрожают ответить жесточайшей судорогой на такое издевательство, а мой вконец шокированный маленький дружок панически ищет убежища, пытаясь втянуться куда-то вглубь живота. Ход длинный и извилистый, окоченевшие пальцы зацепляются за подводные корни... Наконец! Что-то живое и колючее больно щиплется, я не обращаю внимания, цепко ухватываю подводного жителя и пулей вылетаю на берег. На теплый солнечный берег.
– Ос-с-сторожно! Б-б-бери вот здесь – тогда не дотянется клешней. Это самка, в-в-видишь икринки под брюхом?
– Как не стыдно! Разве можно обижать беременную женщину?! – рачиха шлепается в воду и поспешно удирает. – Поймай мне другого рака! Зайчик, ты можешь поймать рака без икры?!
Д-д-да, м-м-м-милая... я могу поймать другого рака. Их здесь много.
... Усатый пленник исследует наполненный водой пакет, а ты – его.
– Ну надо же, в жизни живого не видела... Совсем как лобстер, только маленький. Я придумала-придумала-придумала! Мы свезем его в подарок мамулику и сварим! И съедим!
Конечно, любимая... Мы поедем к мамулику и наш охотничий трофей гордо возляжет в центре антикварного блюда, обложенный и украшенный редкими вкусностями и вкусными редкостями... И мамулик станет щебетать точь-в-точь твоим голосом, у вас очень похожие голоса... Папулик, как всегда, будет наливать «Абсолют», оставляя следы пальцев на запотевшей бутылке... А чуть позже ухватит с блюда кроваво-красного рака, хлопнет водки и скажет: «Вздумаешь обидеть или обмануть дочурку – вот так сделаю!» – толстые пальцы разорвут усатого беднягу пополам, крепкие зубы захрупают рачьей шейкой вместе с панцирем – потом все это месиво ляжет смачным плевком на скатерть и золотая цепь заколыхается на побагровевшей шее папулика в такт его смеху. И я, как всегда, буду пить водку – потому что без нее плохо.
– Ой, котик, ну как здорово, что мы сюда выбрались! Разве дома такое увидишь?!
Нет, конечно. Много чего можно увидеть в нашей трехкомнатной квартире, но только не это. Ты прижимаешься ко мне, целуешь в висок.
– Спасибо, милый, за это место!
– Я давно хотел привезти тебя сюда... Любимая.
Очень давно.
Мои пальцы стискивают горло бутылки, штопор легко входит в тугую пробку. Паутина на деревянном ящичке кажется синтетической. Твое излюбленное вино. У нас сегодня праздник – сто недель вместе. Ты любишь некруглые даты. Сто дней, пятьсот дней... Годовщины тебе скучны: родня, гости, подарки, речи и поздравления... А сто недель мы отметим вдвоем. Сто недель вдвоем – звучит почти как сто лет одиночества...
Я режу закуску. Получается неровно – нож слишком длинный и острый. Или это подрагивает рука?
Ты снова обнимаешь березу.
– Как тут здорово, зайчик! Как бы я хотела остаться тут навсегда...
Хорошо, любимая. Когда и в чем я мог тебе отказать?








