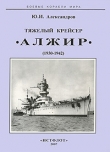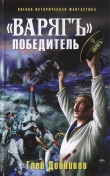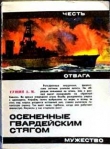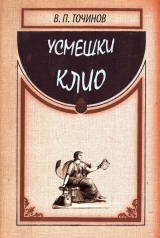
Текст книги "Усмешки Клио-2"
Автор книги: Виктор Точинов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Но спасательные работы не дали ожидаемого результата. И в конце 1925 года мешающий судоходству корпус крейсера был взорван, разбросанные взрывом обломки навсегда погрузились в глубины Ирландского моря… А может, оно и к лучшему. Море более достойная гробница для героического корабля, чем плавильная печь.
* * *
Вот, собственно, и вся печальная история «Варяга». Так уж сложилось, что свой звездный час он прошел в самом начале боевого пути, а в дальнейшем постоянно становился жертвой трусости и некомпетентности, измены и жадности, меркантильных расчетов и идейного фанатизма. Но не хочется, совсем не хочется заканчивать на грустной ноте. Наоборот, хочется верить, что все эти Летуновские и Рыковы были исключениями и в стране, и на флоте. А потому давайте вернемся на двадцать лет назад и вспомним настоящих героев боя при Чемульпо, сегодня несправедливо забытых.
Это я не про первую команду «Варяга», ей почести отданы сполна. Я про экипаж «Корейца». Кое-кто уже сейчас просто и не помнит, что в том бою участвовали два русских корабля: крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Но славы на долю моряков «Корейца» досталось не слишком много: одна строчка в известной песне, да по паре абзацев в исторических книжках…
Но необходимо отметить один факт. Вступая в неравный бой с японской эскадрой, «Варяг» все-таки имел какие-то минимальные шансы. Не на победу, разумеется, но мощное вооружение, броневая защита и хорошие ходовые качества позволяли при большой удаче либо ошибке японцев прорваться и уйти во Владивосток. Примеры такие в той войне бывали – «Аврора», крейсер одного типа с «Варягом», прорвался, получив несколько попаданий, через Цусимскую мясорубку. Оторвался от погони и благополучно прибыл в бухту Золотого Рога.
А «Кореец», вступая в бой, шансов заведомо не имел. Ни одного. Ведь что такое канонерская лодка? Брони никакой, ход медленный, орудия – хоть и крупнокалиберные (203 и 152 мм против 152 и 76 мм у «Варяга»), но устаревшие, недальнобойные, японские корабли могли расстреливать канонерку издалека, не входя в ее зону поражения.
Собственно, «Кореец» и не проектировался для морских сражений. Выдуманные англичанами канонерки были порождением колониальных войн, вернее, чаще даже не войн, а подавления туземных восстаний. Они, канонерские лодки, просто позволяли быстро подтянуть в нужную точку артиллерию, если очаг возмущения находился на берегу моря или реки (небольшая осадка канонерок позволяла действовать и в реках). Маленький штрих: на «Корейце» не было бронированной боевой рубки. И не бронированной тоже не было. Никакой. Командовать боем надлежало с мостика, открытого всем ветрам и осколкам.
Короче говоря, обычное полицейское судно. Затевать на нем бой с боевыми кораблями – все равно что милицейской патрульной машине ввязаться в танковое сражение под Прохоровкой. Или школьнику с рогаткой вмешаться в перестрелку спецназовцев. Надо думать, капитан такого судна любой другой страны в сложившихся условиях просто спустил бы вымпел. И никто бы его не осудил.
Наши вступили в бой. Вступили с единственной целью – принять на себя часть предназначенных «Варягу» японских снарядов. Мальчики для битья…
Но повернулось всё иначе: мальчики сумели-таки ударить, и ударить чувствительно. Воспользовавшись тем, что огонь японской эскадры сосредоточился на «Варяге», канонерка смогла подобраться поближе и пустить в ход устаревшие пушки. Причем с успехом: номерной японский миноносец отправился на дно, один из крейсеров был вынужден выйти из боя из-за пожара, а флагман «Асахи» получил серьезные повреждения. Самому «Корейцу» ни одного прямого попадания не досталось.
Они сделали свое дело, оставив славу другим. И затянутые илом обломки канонерки до сих пор лежат на дне залива Чемульпо – ни русским, ни японцам поднимать было просто неинтересно…
…Сейчас все больше русских путешествует в Южную Корею. Если вдруг будете в морском круизе проходить мимо города и порта Инчхона (так теперь зовется Чемульпо), то бросьте в память о героях «Корейца» пару гвоздик в воду. Говорят, в Корее цветы из оранжерей Пусона замечательно дешевые…
Глава десятая. Забытая победа или Сказание о Cарайском взятии
Знаменитая столица Батыева, где наши князья более двух веков раболепствовали ханам, обратилась в развалины, доныне видимые на берегу Ахтубы: там среди обломков гнездятся змеи и ехидны.
Н. Карамзин, «История государства Российского»
1. О праздниках и юбилеях
Не секрет, что в позднем, предзакатном Советском Союзе, праздники и юбилеи весьма любили. Отмечали широко, с размахом: народу – зрелища, вождям – юбилейные награды, забугорным супостатам – наш социалистический кукиш: как ни злобствуете вы со своей пропагандой, а живем мы с каждым годом все лучше, все веселее…
Все рекорды в деле празднований-чествований побил, как мне помнится, 1980 год. Едва отгремело в марте всенародное ликование по поводу 110-летия Парижской Коммуны, подоспел апрель – юбилей Ленина, тоже сто десять лет, дата круглая. Едва отстрелялись, едва отстояли трудящиеся сто десять ударных смен, едва присвоили самым заслуженным коллективам имя Ленина и вручили юбилейные награды вождям, – тут и май на дворе, тридцать пять лет Победе. Монетные дворы едва успевали чеканить все новые и новые памятные монеты на радость нумизматам.
А летом – Московская Олимпиада. Не юбилей, но все же всемирный спортивный праздник. Правда, таковым он лишь планировался, а на деле оказался полувсемирным – чуть ли не половина стран-участниц Игры бойкотировала, протестуя против ввода советских войск в Афганистан (два с лишним десятилетия спустя главные организаторы бойкота продемонстрировали свойство известного длинношеего животного, проще говоря, жирафа: сообразили наконец, что терзаемая анархией страна, производящая на экспорт лишь наркотики и террористов, представляет угрозу всему миру, – и сами ввели в нее войска).
И еще не успел громадный олимпийский Мишка устремиться в небо на громадной связке воздушных шаров, а по всей стране, даже в Татарской АССР, уже полным ходом шла подготовка к празднованию нового грандиозного юбилея – шестисотлетия Куликовской битвы. Дата – круглее редко бывает, не с одним, с двумя нулями, и готовились к ней основательно. Юбилейные монеты, как положено. По радиотрансляции каждый день – очередная глава из эпического романа про поле Куликово (каюсь, забыл и автора, и название, и даже знающий всё Интернет не способен подсказать содержание давних радиопрограмм). И статьи, статьи, статьи, – во всех периодических изданиях, даже в самых непрофильных, никак с историей не связанных. Любой школьник, включая самых отпетых двоечников, был способен без запинки изложить ход сражения: вот тут Большой полк стоит, вот тут полки правой и левой руки, а вот тут Засадный в лесу притаился, сейчас как ударит – и побегут супостаты без оглядки…
Народ наш, честно говоря, немного перекормили Куликовым полем в то лето, и – вполне естественная реакция на переедание – пошел гулять ехидный анекдотец про объявление в магазине: Героев, дескать, Советского Союза и Соцтруда обслуживаем вне очереди, а героев Куликова поля – бесплатно. И песенка появилась не менее ехидная. Не по радио звучала, понятно, не на концертах, пели ее во дворах, под гитару:
Как на поле Куликовом
Засвистали кулики
И в порядке бестолковом
Вышли русские полки.
Перегаром самогонным
За версту разит,
Поднатужимся немного —
Будет враг разбит…
А у меня именно тогда, на излете лета 80-го года, возник не то чтобы терзающий душу вопрос, но скорее легкое недоумение: а почему почти никто не вспоминает про другую дату, выпавшую все на тот же год, – из той же, образно говоря, оперы, но еще более круглую? Про пятисотлетие окончания монголо-татарского ига? Полтысячелетия все-таки, да и событие рангом повыше… Куликово поле – всего лишь одна битва, пусть героическая, пусть победоносная – но все-таки не тот решительный перелом, что произошел ровно век спустя. Татар Мамая разбили – но уже два года спустя татары Тохтамыша разорили Русь, сожгли Москву, и вновь князья ездили за ярлыками в Орду, и вновь платили дань… Иго, одним словом. И свержение этого ига отчего бы не отпраздновать? Монеты почему бы не отчеканить, да по радио почему не зачитать хоть бы не роман, рассказов хоть пару-тройку?..
Но не чеканили[4]4
Спохватились лишь в 1989 году. Юбилей уж девять лет как прошел, когда появилась монета «500 лет стояния на Угре», причем номиналом аж в 150 рублей, большие по тем временам деньги – т. е. в отличие от «олимпийских» и «ленинских» рублей памятная монета по рукам не ходила, сразу же осев у коллекционеров.
[Закрыть]. И не зачитывали.
Праздник общегосударственного значения справили, по большому счету, на областном уровне – в Калуге. Там и статьи в местной прессе были, и памятник возвели на берегу Угры… Довольно скромный монумент, надо отметить.
Единственное, чем можно было объяснить такое равнодушие, – события, происходившие в 1380 году на Дону и Непрядве, оказались внешне куда более эффектными, чем стояние на Угре. Куликово поле – большое полевое сражение, много убитых и раненых, много героизма и совершенно однозначный результат: враг наголову разгромлен. Но, с другой стороны, – Угра, как учили нас историки, однозначная победа полководческая, победа в стратегии. Одолеть врага, не уложив в землю многие тысячи русских воинов, – если вдуматься, еще почетнее.
А героизм… Героизм у нас те годы, если в нем нуждались в пропагандистских целях, появлялся словно сам собой, словно по мановению волшебной палочки… В роли волшебников выступали чаще всего не историки, но авторы как бы исторических романов и режиссеры со сценаристами как бы исторических фильмов. Самый известный и одиозный пример – режиссер Эйзенштейн и его фильм «Октябрь». Батальное кинополотно получилось: рявкает пушка «Авроры», матросы и красноармейцы бегут через дворцовую площадь, юнкера с озверелыми лицами строчат из пулеметов, укрывшись за баррикадой-поленницей, но проигрывают в яростной схватке… Красиво и героично. Куда героичнее, чем реальность, в которой заняли Зимний без драки, вообще без единого выстрела, – когда после полуторачасовых переговоров ударный женский батальон ушел с постов, оставив без защиты Временное правительство. Причем снимал Эйзенштейн свою картину в 1927 году, когда хватало живых свидетелей «штурма Зимнего». И ничего, прокатило. Скушали.
Казалось бы, только кликни клич, – и снимут фильмы, и напишут романы, и будут лезть татары Ахмата с озверелыми лицами на высокий обрыв Угры-реки, и падать вниз под ударами доблестных русских витязей… И всех героев вспомним поименно. Перешерстим летописи – и вспомним.
Однако не кликнули… Фильмы не сняли, романы не написали, герои остались позабытыми.
В общем, юбилей проскочил незамеченным. Но недоумение осталось.
* * *
А ведь если копнуть чуть глубже, то ведь традицию возвеличивания Куликова поля в сравнении с Угрой отнюдь не советские историки заложили. В царские времена наблюдалась та же картина: герои Дона и Непрядвы у всех на слуху – Пересвет, Ослябя, Владимир Храбрый… И к лику святых их причислили, и церкви в их честь строили, и даже броненосцы, на страх врагам, их именами называли.
На Угре же словно и не было героев… Хотя и там – пусть без генерального сражения – хватало перестрелок, стычек, схваток и боев местного значения. Неужели никто ничего героического не совершил?
Не говоря уже о том, как возвеличивали до семнадцатого года Сергия Радонежского, идейного вдохновителя похода на Куликово поле[5]5
К 500-летию кончины Сергия Радонежского из его жития были даже изъяты слова, обращенные будущим святым к Дмитрию Донскому накануне Куликовской битвы: «И пойди, господин, царю наш, противу им с правдой и покорением, яко ж пошлина твоя держит покорятися ординскому царю должно». Подредактировали житие, дабы не бросало тень на светлый образ святого. Не мог «печальник Всея Руси предлагать помириться с Мамаем и заплатить ему дань.
[Закрыть]… А Вассиан, архиепископ ростовский, сыгравший в 1480 году почти ту же роль, что Сергий в 1380-м?
О нем – глухое молчание. Даже не канонизирован Русской православной церковью.
2. Об истории-лайт и о КарамзинеВ советские времена на самом деле существовали две истории Руси-России. Одна версия – для историков, для профессионалов. Излагалась она в специализированной периодике, в сборниках, в монографиях, – и все это чтиво человек без исторического образования мог воспринять с трудом.
Вторая версия – история для народа, история-лайт. Основы ее закладывались в школьных учебниках, а тем, кто заинтересуется, кто захочет знать больше – тем исторические романы. Читайте, просвещайтесь. И читали… Историю Франции советские люди изучали по романам Дюма и Дрюона, историю Российской империи по романам Пикуля. Зайдете в те времена в библиотеку, спросите что-нибудь про Древнюю Русь – и вам вынесут роман Иванова. Но мне бы что-нибудь поглубже, мне бы летопись… А за летописями – в Публичку, ласково, но непреклонно ответит библиотекарша.
В Публичке тоже было всё не просто. Она хоть и Публичка, но не для широкой публики. В Публичке вам первым делом анкету под нос – кто, мол, такой, да какое образование имеешь, да по какой надобности историей Отечества интересуешься? Ах, не историк? И не писатель с корочками СП? Техническое, стало быть, образование? Тогда вам направо, в технические фонды. Каждому инженеру летописи выдавать – никаких летописей не напасешься.
Да-да, так все и было… Даже не летописи, даже Карамзин – вроде и не запрещен, а в широком доступе нет. Вернее, не так… Карамзина можно было купить в книжном и взять в обычной районной библиотеке. Но не совсем того Карамзина. Не Н. Карамзин, «История государства Российского», а Н. Карамзин, «Об истории государства Российского». Вроде разница небольшая, один предлог, две буквы… А на деле – вместо четырнадцатитомной карамзинской «Истории» одна тоненькая книжечка с выжимками-вырезками, школьным учебникам соответствующим. Хрестоматия для внешкольного чтения. А за остальным, что в учебниках не освещается, – в Публичку, пожалуйста.
Второй пример, не менее характерный – академик Гумилев. Историк-профессионал, но писавший, как он сам выражался, «забавным русским слогом» – проще говоря, для широкой публики. С монографиями Гумилева происходила та же история, что и с художественными книгами братьев Стругацких или Булгакова: вроде и есть в Советском Союзе такой автор, вроде не запрещен, вроде издается вполне активно – но попробуйте-ка купить в магазине его книги. Бесполезная затея, хоть у прилавка днюй и ночуй. Тиражи небольшие, и расходятся, минуя прилавки, – со склада сразу на черный рынок, по цене в четыре-пять номиналов.
* * *
В девяностые годы ситуация на книжном рынке разительно изменилась. Все ранее дефицитные либо запрещенные книги хлынули на прилавки полноводным потоком. Западные детективы и шпионские романы? – пожалуйста, вам про Джеймса Бонда или чего-нибудь посовременнее? Солженицын и прочие антисоветчики? – легко, многотомными собраниями. Западная фантастика? – весь глянцевый спектр, от эльфов до звездолетов…
Коснулись новые веяния и книг по истории. Карамзин – все тома, без купюр и изъятий. Или Устрялов – его учебник, конечно, весьма сжато обо всем рассказывал, но действительно обо всем, ибо писался для императорских, а не советских вузов. Желаете взглянуть на нашу историю со стороны, отстраненным взглядом? – ничего проще, вот стопочка монографий Г. Вернадского, по ним будущие американские историки Русь и Россию изучают… Летописные первоисточники? – с ними чуть сложнее, читательский контингент невелик, и на лотках такие книги не лежали, – но прокатившись в Дом книги, приобрести любой сборник летописей проблемы не составляло.
И мемуары, мемуары, мемуары… Белогвардейские прапорщики и гитлеровские фельдмаршалы, диктаторы и авантюристы международного масштаба, – кто, скажите, в Советском Союзе мог ознакомится с их воспоминаниями? Лишь профессионалы с допусками…
Ну и конечно – Гумилев, Гумилев, Гумилев… В любых изданиях, в любых количествах. Изголодался самый читающий в мире народ по академику Гумилеву.
* * *
И вот тогда-то и открылось простым любителям российской истории, профильными дипломами не отягощенным, то, что профессионалы-историки знали всегда, но в учебники вставлять не спешили…
Вернее, открылось безбрежное море всяких интересных фактов, но я сейчас говорю о монголо-татарском иге. И о стоянии на Угре, как о его завершении.
Так вот, любой желающий смог теперь прочитать хоть у Карамзина, хоть у Устрялова, хоть у Вернадского с Гумилевым: Ахмат отступил от русских рубежей, от берегов Угры, не просто так. И не отчаявшись преодолеть оборону воинов Иоанна III… У владыки Золотой Орды в тылу случилась проблема: русский экспедиционный корпус совершил рейд по тылам противника, закончившийся взятием Сарая – столицы Ахмата. Достаточно веская причина повернуть войска назад.
Руководил походом русский воевода – звенигородский князь, потомок Рюрика, Василий Гвоздев, более известный современникам под прозвищем Ноздроватый (у его потомков это прозвище стало фамилией). Но командовал он в достаточной степени номинально – большую часть отряда составляли т. н. «служилые татары» – выходцы из Крыма, перешедшие на русскую службу. Подчинялись они «городецкому царю», которого разные авторы именуют то Уродевлетом, то Нурдаулатом… По-настоящему звали его Нур-Девлет-Гирей, из рода крымских Гиреев, потомков Чингисхана. Титул «городецкий царь» – достаточно условный. Нур-Девлет и вправду успел к тому времени поцарствовать в Крыму, но недолго. Турецкий султан, сюзерен Крыма, решил, что в качестве правителя куда более пригоден брат Нур-Девлета, Менгли-Гирей.
Нур-Девлет перешел на московскую службу – не один, со всеми кочевниками своего улуса – и получил от великого князя в удел Городец. Вернее, земли вокруг Городца под кочевья… Сам старинный русский городок в то время представлял из себя нежилые руины, и в документах именовался Пустым Городцом. Лишь века спустя, уже после Смуты, он возродится, но уже в качестве села…
Все рассказы о рейде по тылам Ахмата весьма скупы на подробности. Сказано, что русские шли Волгой на ладьях. Татарская конница, надо полагать, двигалась берегом. Иначе никак: вместимость самой большой ладьи того времени – 50 пехотинцев (а у легких скоростных новгородских и вятских ушкуев и того меньше – 20 посадочных мест). Значит, больше 8 или 10 всадников с конями с ладью не загрузить. Флот, способный перевезти отряд в несколько тысяч татарской конницы, Иоанну III пришлось бы строить пару лет как минимум…
Численность экспедиционного корпуса тоже не указана, но оценить ее, в принципе, можно. Судя по Разрядным книгам, в подчинении у Нур-Девлета имелось 10-12 тысяч всадников. Надо полагать, в поход на Сарай двинулись почти все – в стоянии на Угре иные действия городецких татар летописцы никак не отмечают. Русских воинов у князя Ноздроватого едва ли могло быть более тысячи, много полутора тысяч: рейд планировался скрытным, и если флотилия из 20-30 судов на Волге выглядела заурядно, напоминая купеческий караван, то появление сотни и более ладей немедленно вызвало бы тревогу, со скоростью скачущего всадника распространившуюся по обоим берегам Волги… Именно такими флотилиями – в 100-200 судов – ходили в свои грабительские набеги наши речные пираты, ушкуйники.
То есть общая численность отряда не достигала даже пятнадцати тысяч бойцов. Достаточно, чтобы разграбить и сжечь Сарай – крупный город, но оставшийся без защиты войск, ушедших на Угру. Удержать же захваченную столицу никаких шансов не было – войско Ахмата превышало сто тысяч, и, вернувшись, без особого труда расправилось бы с захватчиками.
Так все и произошло: скрытный марш к Сараю, неожиданная ночная атака… Что смогли, захватили и увезли, что не смогли – уничтожили. И тут же повернули обратно.
Гораздо больше, чем захватчики, уничтожил вспыхнувший пожар – дома в Сарае, по свидетельству путешественника ибн-Батутты, стояли плотно: «все это сплошной ряд домов, где нет ни пустопорожних мест, ни садов».
Восстановить сгоревший город ни Ахмату, ни его сыновьям не удалось – Орда, как государство, доживала последние свои десятилетия, причем агония сопровождалась постоянными военными ударами со стороны Москвы и Крыма…
3. О художниках-баталистахА ведь странно… Взятие вражеской столицы – это уже не позиционная борьба, не стояние на Угре. Это историческое событие высшего разряда. Да и столица не какого-то захудалого противника, а Большой Орды, наследницы Орды Золотой. То есть, по утверждениям официальных историков, главного нашего супостата и притеснителя на протяжении двух с половиной веков. И что? А ничего… Про оборону Козельска (неудачную) мы вспоминаем. Про партизанские действия Евпатия Коловрата (завершившиеся полным разгромом и гибелью партизан) – тоже вспоминаем. А про высшее наше торжество в противостоянии, растянувшемся на века, – молчок либо бегло, одним абзацем.
С чего бы?
Взятию Казани Иоанном Грозным у тех же самых историков не абзац посвящен – несколько страниц как минимум. А Казанское царство – лишь один из осколков Золотой Орды, далеко не самый значимый. И никогда казанские цари на верховную власть над русскими княжествами не претендовали (в отличие, например, от крымских Гиреев).
Вот еще любопытный момент: любые исторические события подобного ранга, и даже более низшего, отмечены батальными полотнами живописцев, работавших по официальном заказам. Каждый может приехать в Питер, зайти в Русский музей, полюбоваться на батальное полотно Сурикова «Покорение Ермаком Сибири». При этом Сибирское царство было самым захудалым уделом в империи Чингизидов, и столица его Кашлык в сравнении с Сарай-городом, – деревня, обнесенная частоколом.
Или вспомним живописца Рубо, француза, родившегося в Одессе и жившего в России. Специализировался он на батальной живописи, величественные панорамы «Бородинское сражение» и «Оборона Севастополя» – его творения. Так вот, была и третья панорама, не сохранившаяся, лишь отдельные фрагменты уцелели и выставлены в Махачкалинском музее – «Штурм аула Ахульго». Штурм «столицы» Кавказского имамата, резиденции имама Шамиля. Но при всем уважении к павшим русским воинам, обильно полившим своей кровью неприступные скалы Нового и Старого Ахульго, масштаб события все же не тот… Кстати, случившийся двадцать лет спустя штурм последнего убежища Шамиля, аула Гуниб, Рубо тоже увековечил.
Нельзя сказать, чтобы наши художники совсем уж не обращались к теме 1480 года. Обращались. И сейчас обращаются, можно найти в провинциальных музеях картины, изображающие русских витязей на берегах Угры. В советское время в художественном приложении к каждому учебнику истории широко тиражировали картину Маковского «Иван III топчет ханскую басму». Изображенное событие послужило, по официальной версии, поводом для окончательного разрыва с Ордой и в конце концов привело русские и татарские войска на берега Угры… Время давно уже не советское, но сюжет продолжает кочевать из учебника в учебник. Откроем для интереса учебник для 6 класса средней школы «История России с древнейших времен до конца XVI», написанный Е. В. Пчеловым и изданный в 2004 году. Нет приложения с цветными репродукциями, нет старого доброго Маковского, но поглядите-ка: в тексте на странице 193 – очень похожая и сюжетом, и композицией репродукция с картины художника Шустова: «Иван III разрывает ханскую грамоту».
То есть определенный интерес к теме у художников имелся и имеется. При желании можно найти еще более древние графические работы, посвященные стоянию на Угре, – например, в русских летописях встречаются миниатюры на эту тему, причем Угра изображена не как реальная река, а как непреодолимое препятствие – «пояс Богородицы» в летописной традиции.
Однако «Сарайское взятие» никого не заинтересовало, ни русских иллюстраторов летописей, ни мастеров батальной живописи, ни современных художников…
Интересно, почему?
* * *
А вот почему, отвечают без тени сомнения некоторые историки, – не было никакого взятия! Не было рейда по татарским тылам, не было штурма вражеской столицы, ничего не было. Историческая легенда.
Мнение свое подтверждают историки следующими выкладками: все упоминания о взятии штурмом Сарая, или Батыевого Юрта, – у Лызлова, Карамзина, Устрялова и других авторов – имеют один-единственный первоисточник: летопись «Сказание о царстве Казанском» (иногда этот документ именуется «Казанским Летописцем» либо «Казанской историей»). А «Сказанию..», дескать, доверять нельзя. Ибо написано оно было по прямому заказу Иоанна Грозного и для его прославления, и содержит вследствие того массу преувеличений и попросту выдуманных фактов. Взятие столицы Ахмата – именно такой факт. От начала до конца выдуманный. А превратили Сарай в руины, в пепелище не то ногайцы, не то крымский хан Менгли-Гирей. Есть даже версия, что это тюменские татары постарались.
* * *
Нет, такое объяснение нам не подходит…
Во-первых, ввиду полного отсутствия в нем логики. Как может прославлять Иоанна Грозного выдуманное деяние, приписываемое ему деду? Хорошо, пусть прославляло оно не деда и не внука, а Московское государство и его славное войско. Пусть так. Но зачем тогда сначала изобретать, а потом замалчивать фальшивый подвиг? Подвиги для того и выдумывают, чтобы поминать их при любом удобном случае. Лучший тому пример – история с Иваном Сусаниным. Давно доказано, что царя он не спасал и поляков в болото не заманивал – но какая мощная реклама создана фальшивому этому подвигу! Пиар какой! Полная противоположность истории Сарайского взятия.
Во-вторых, подтверждения рассказу «Казанского летописца» в документах эпохи есть, и прямые, и косвенные.
Никоновская летопись повествует прямо:
«Темъ блаженнымъ великымъ княземъ Иваномъ Василиевичемъ всея Русии вначале свободилъ Богъ христианьство отъ работы бесерменьскыа, и та Болшая Орда имъ порушилася, и почали те цари Ординьские жити въ Азсторохани, и та Болшая Орда опустела, а место ея во области близъ города Азсторохани, два днища по Волге вверхъ, именуется Сараи Болшие».
Подробностей рейда русских войск нет, и вся заслуга приписана великому князю, но смысл совершенно однозначен: Сарай Великий, столицу Ахмата (названный летописцем «Сараи Болшие») разрушили и опустошили не крымцы и не ногайцы, и тем более не тюменцы, – московские войска!
Что основу тех войск составляли именно служилые татары, следует из полного отсутствие упоминаний о них в рядах оборонявшего Угру русского войска в 1480 г. Между тем русские документы отличаются в описании дел военных большой дотошностью и тщательностью: кто чем в походе занимался, излагается с излишней порой скрупулезностью. В предыдущем военном походе – на Великий Новгород в 1478 году – татарская конница не просто упомянута, но и все ее действия подробно расписаны. А два года спустя – словно и нет служилых городецких татар в московском войске, словно все дезертировали в одночасье…
Но, может быть, Иоанн III просто побоялся использовать их против татар Ахмата – против единоверного и родственного народа? Исключено. В Крыму, откуда происходили городецкие татары, отношение с Большой Орде можно было определить одним словом: ненависть. По крайней мере в другом военном столкновении с Ахматом, в 1472 году, ничто не помешало Иоанну посылать в бой служилых татар.
Историк А. Шенников в монографии «Червленый Яр» исследовал Разрядные книги – дневник важнейших государственных событий, который велся при дворе московских великих князей и затем царей и представляет собой источник, независимый от летописей. И вот что выяснил:
«…Сказано, что „в прошлых давних летах, при княжении великих князей московских… татарские цари жили в Орде на луговой стороне Волги реки, на реке Ахтубе“ и что „великие князи московские на Ахтубе Орду войною разорили и учинили пусту…“. Как видим, разорили Орду именно „великие князи московские“, а не ногайцы, и не вообще Орду, а совершенно конкретно резиденцию ханов на Ахтубе – левом притоке Волги ниже нынешнего Волгограда, т.е. именно Сарай».[6]6
А.А. Шенников. Червленый Яр. Исследование по истории и географии Среднего Подонья в XIV-XVI вв.
[Закрыть]
* * *
Однако отложим в сторону все доказательства историчности Сарайского взятия. И на минуту согласимся с точкой зрения оппонентов: да, легенда. Никогда такого не было. Все с пьяных глаз напридумывал автор «Казанского летописца».
Но, позвольте, как тогда быть с басмой?
Рассказ о топтании великим князем царской басмы (т. е. портрета) взят из того же источника, и уж этот момент «Сказания о царстве Казанском» вызывает куда меньше доверия, чем следующий сразу же за ним рассказ о стоянии на Угре и походе Нур-Девлета-Гирея и Ноздроватого на Сарай. Но не потому, что в других летописях о нем не упоминается. И не потому, что даже позже, когда русское и татарское войска подошли с двух сторон к Угре, осторожный Иоанн III не отказывался от дипломатического разрешения проблемы, – переговоры продолжались, послами стороны обменивались, и закончить дело миром не позволила скорее позиция Ахмата, выдвигавшего чересчур уж унизительные условия.
Никак не в характере Иоанна столь недипломатичные поступки, но проблема не в том.
Отряды Иоанна III Васильевича МОГЛИ совершить рейд к столице Большой Орды. Почему бы и нет? Тем более что прецеденты были. И в четырнадцатом, и в пятнадцатом веках новгородские и вятские ушкуйники (по сути – речные пираты) совершали на своих судах дерзкие рейды по Волге, жгли и грабили ордынские города. И на столицу, на Сарай-город покушались: в 1472 году напали на прилегавшие к реке предместья города и разграбили товары местных купцов.
Но вот сам Иоанн НЕ МОГ плевать на портрет Ахмата (на «басму лица его», как сказано в «Казанском летописце»). И ногами топтать тот портрет не мог. Почему? Да потому, что в Орде с 1319 года ислам – государственная религия. А каноны ислама строго-настрого запрещают изображать людей и животных. Нельзя плевать на то, что не может существовать. И ногами топтать нельзя. Кто не согласен – предъявите хоть один портрет Чингизида, написанный ордынским живописцем после 1319 года.
Не мог топтать – однако топчет. В каждом школьном учебнике истории. Откройте, если у вас он сохранился, проверьте – там, где кончается текст и начинаются репродукции известных исторических картин. Вот Иоанн, вот басма под красным сафьяновым сапогом – потоптал, и на свалку приказал выбросить. Художник Маковский, 1869 год.
В общем, ответ на вопрос: почему топтание басмы (явно мифическое) художники изображают, а взятие Сарая изображать не хотят? – остается без ответа. Даже если допустить, что взятия на деле и не было – но источник-то информации тот же самый, одна и та же глава «Сказания о царстве Казанском». Художник, в конце концов, не историк, путами научности не связан, – и волен писать на сюжеты хоть легенд, хоть мифов, хоть сказок…
Но на самом-то деле вопрос этот адресован не художникам. Написать батальное полотно, большое по размеру и изображающее множество людей, участвовавших в сражении, – труд долгий и нелегкий. В один день не управиться. И в месяц не управиться. Даже за год не управиться, если работать в одиночку, без штата помощников. А живописец тоже человек, тоже пить-есть хочет, да и семью обеспечивать. И помощники, если таковые имеются, забесплатно работать не станут. Проще говоря, ни один художник за большое батальное полотно не возьмется, если не будет иметь на сей счет конкретный заказ с оплаченным авансом. Пример: упоминавшийся выше художник Рубо работал над своими батальными полотнами о Кавказской войне, получив заказ от тифлисского музея «Храм славы». И за панораму Бородинского сражения он взялся, получив заказ с весьма солидным авансом, – настолько солидным, что «Бородинское сражение» создано за границей, в Германии, а в качестве помощников выступали многочисленные немецкие художники – как учащиеся Мюнхенской Академии художеств, так и их преподаватели.