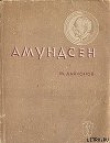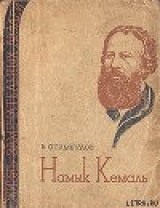
Текст книги "Намык Кемаль"
Автор книги: Виктор Стамбулов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
Из всего дипломатического корпуса, присутствовавшего при обнародовании манифеста Гюль-Хане, лишь один русский посол Бутенев, от которого, впрочем, предусмотрительно до последней минуты скрывалась подготовка акта, открыто выразил свое недовольство «комедией», как он называл хатишериф.
Это неодобрение было знаменательным. Недаром Решид-паша говорил: «если что-либо, предпринимаемое мною, не нравится России, – я знаю, что стою на верном пути».
Если проведенные Решидом реформы и не могут считаться слишком радикальными, то все же в ту эпоху они значительно способствовали приближению Турции к уровню культурных наций.
Эти реформы составляют первую, раннюю эпоху Танзимата. Они заключались главным образом в переделке совершенно архаического законодательства, которым держались реакционные слои правящих классов и которое препятствовало всякому прогрессу страны.
В Турции до того времени все еще действовали законы начала XVI столетия, изданные Сулейманом Великолепным. Почти все дела разбирались и решались на основе корана и комментариев великих учителей ислама, живших тысячу лет тому назад. За убийство человека можно было отделаться выкупом; судили духовные судьи – кадии. В 1840 году был издан первый уголовный кодекс, а через несколько лет введено торговое и административное законодательство. Был отменен откуп налогов, приводивший к сильнейшим злоупотреблениям и бывший разорительным, как для населения, так и для казны.

Улица в Смирне.
Вместо него была введена более централизованная система собирания налогов через специальных чиновников, – новшество, восстановившее против Решида могущественных ростовщиков, интересы которых были нарушены этой мерой и которые вскоре добились ее отмены. Были проведены реформы в армии и сокращен до 5 лет срок военной службы.
Провозглашенные хатишерифом гарантии жизни и имущества создавали первые предпосылки усиления буржуазии и привлечения ее капиталов для развития экономики.
«Турецкое господство, – писал Энгельс, – в самом деле несовместимо с капиталистическим обществом: накопленная прибавочная стоимость не обеспечена в руках сатрапов и пашей; не достает главного условия для буржуазной наживы: обеспеченности личности купца и его собственности».
Хатишериф Гюль-Хане если фактически и не создавал, то во всяком случае намечал эти условия.
Детство
Об'ятья матери во сне я только видел,
И, в мир прийдя, я этот мир возненавидел.
НАМЫК КЕМАЛЬ
Стамбульское правительство не любило, чтобы крупные провинциальные чиновники засиживались на своих местах. Долгое пребывание на одном и том же посту представляло ряд неудобств: чиновники сживались с местным населением, заводили дружественные связи, не так рьяно выколачивали всевозможные налоги и подати и даже, в ущерб доходам центрального правительства, начинали тратить кое-какие средства на местные нужды – поправляли дороги, мостили улицы, строили мосты и плотины.
С другой стороны, пороги Высокой Порты всегда обивала толпа людей, имеющих высокое родство или связи, которым надо было предоставить доходное место. Поэтому, едва какой-либо губернатор, вице-губернатор или начальник округа успевали обжиться в провинции, их снимали под каким-либо предлогом и вызывали в Стамбул, где они в свою очередь бегали несколько месяцев по канцеляриям и по передним высоких особ, пока не получали нового назначения.
Дед Намык Кемаля по матери, Абдулатыф-паша, албанец по происхождению, был одним из типичных представителей этого слоя чиновничества. Не имея ни большого состояния, ни прочных связей в высоких стамбульских сферах, он всю свою жизнь кочевал по многочисленным пашалыкам и санджакам[19]19
Пашалыки и санджаки – административные деления ста рой Турции, аналогичные наместничествам и губерниям.
[Закрыть] Румелии и Анатолии, с трудом дослужившись до титула паши и должности провинциального вице-губернатора и совершая время от времени очередное паломничество в столицу.
В конце тридцатых годов, во время одной из таких перебросок, прожив с семьею несколько месяцев в Стамбуле, он воспользовался этим, чтобы выдать замуж свою дочь Зехру – любимицу семьи.
Дело это представлялось несколько сложным, так как, с одной стороны, паша искал хорошую партию, а с другой – ни за что не хотел отдавать дочь в чужой дом. Надо было, следовательно, подыскать приличного молодого человека, который бы согласился быть «домашним зятем», по тогдашнему турецкому выражению, т. е. жить в доме тестя.
После недолгих поисков Абдулатыфу посчастливилось встретить скромного и серьезного юношу из довольно знатной, но окончательно разоренной султанскими конфискациями и впавшей в бедность семьи.
Бедность и незавидное положение жениха лишь на минуту заставили задуматься Абдулатыфа. Он прекрасно понимал, что сколько-нибудь состоятельный человек не согласится жить в семье родителей жены, то-есть быть почти на положении нахлебника. С другой стороны, Мустафа-Асым – так звали молодого человека – произвел на старика прекрасное впечатление. В детстве он натерпелся много горя, был свидетелем разорения и бедствия семьи, имевшей когда-то громадное состояние, и почти мальчиком должен был упорным трудом пробивать себе дорогу да еще помогать родным.

Отец Кемаля Мустафа-Асым-паша.
Он получил образование, которое в те времена полагалось иметь молодым людям из хорошей семьи, то-есть изучил персидский и арабский языки, старую поэзию и разные схоластические премудрости. Сверх того, он занимался и более практическими науками: историей, математикой и астрономией, а также граверным искусством.
Стесненное материальное положение не позволяло ему обзавестить своим домом, «как подобает всякому порядочному турку», и «вхождение зятем» в дом старого, добродушного и сравнительно обеспеченного чиновника являлось для него неплохим выходом из положения.
Абдулатыф посоветовался с женой, та одобрила его планы, и вскоре состоялась свадьба; а через некоторое время вся семья уехала в Текирдаг – маленький солнечный городок на европейском берегу Мраморного моря, куда Абдулатыф был, наконец, назначен вице-губернатором.
21 ноября 1840 года, к великой радости всей семьи, у Зехры родился мальчик. Имя ему – Мехмед-Кемаль – дал сам старый паша, найдя это красивое сочетание в каком-то старом арабском стихе. Уже по одному тому, что дед назвал его не просто Мехмедом, а добавил еще прозвище Кемаль, что значит «совершенство», можно судить, какие чувства вызвало в семье появление ребенка.
Но счастье длилось не долго. Мальчику едва исполнилось два года, как умерла его молодая мать. Это было жестоким ударом для стариков и для Мустафы-Асыма, Кроме всего прочего, эта неожиданная смерть внесла и новое осложнение. Если при жизни жены положение Мустафы-Асыма в качестве «домашнего зятя» еще кое-как оправдывалось в глазах провинциального общества, то теперь его попросту сочли бы тунеядцем. Да и вообще оставаться в Текирдаге не имело смысла. Надо было ехать в Стамбул, искать службу, пытаться устроиться. При этих обстоятельствах, отец не мог и думать о том, чтобы взять с собою крошечного ребенка. Пришлось оставить его у стариков, которые, впрочем, и сами ни за что бы с ним не расстались, так как это было их единственным утешением после смерти горячо любимой дочери.
Маленький Кемаль рос в большом, поставленном на широкую ногу, доме деда. Абдулатыф не принадлежал к породе бережливых людей, откладывающих деньги на черный день. Когда он умер, после него ничего не осталось, кроме долгов. Семья всегда проживала без остатка все сравнительно большое жалованье. Впрочем, в то время так жили почти все крупные турецкие чиновники. Дело в том, что по существовавшему уже свыше века закону султан считался наследником всех государственных служащих и военных.[20]20
Это правило содержится в фетве (постановление высшего духовного лица у мусульман, аналогичное папской булле) муфтия Бехчет Абдуллаха, изданной в 1729 году в царствование Ахмета III. Исключение делалось лишь для улемов и янычар, после смерти которых имущество не переходило к султану.
[Закрыть] Это создавало «основание», как только становилось известным, что какой-либо из чиновников скопил себе поборами или взятками большое состояние, конфисковать все его имущество, предварительно казнив самого владельца. Этот закон был лишь незадолго перед тем отменен Махмудом II, но чиновники уже привыкли тратить все то, что они получали, дабы не вводить султана в искушение.
Семья ни в чем не нуждалась. Маленького Кемаля баловали и берегли пуще глаза. Вместе с тем уже с первых лет его жизни старики заботились о его воспитании. Его бабка, Махдуме-ханым, принадлежала к редким в то время женщинам, которым родители давали какое-то образование. Хотя ее и воспитывали в старом духе, но она отнюдь не чуждалась новых идей, все чаще и чаще просачивавшихся в турецкое общество. Уже в первые годы своего существования Кемаль рос не в той узко-фанатической атмосфере патриархального дома, которая царила в большинстве тогдашних зажиточных семей. Впоследствии он всегда вспоминал с теплым чувством признательности о том влиянии, которое оказала на его развитие старая бабка.
Абдулатыф-паша оставался в Текирдаге довольно долго – около девяти лет. За это время мальчик подрос, окреп, обучился читать и писать. Затем наступило привычное уже для семьи перемещение. Нужно было ехать в Стамбул, жить там несколько месяцев, хлопотать о новом назначении.
В столице семья поселилась в большом старом доме в квартале Филиокушу. Ребенок продолжал жить со стариками, но для него появилась возможность постоянного общения с отцом. К этому времени Мустафе-Асыму удалось уже устроиться. Его ум и образование помогли ему выдвинуться. В то время люди, знавшие какие-либо европейские науки, были редкостью, а при правительственном курсе реформы в таких людях ощущалась особенно острая потребность. Всесильный визирь Решид-паша покровительствовал наукам. Мустафа-Асым получил чиновничью должность, открывающую путь к высокой карьере, а впоследствии был назначен дворцовым астрономом. Его материальные дела поправлялись, но он еще жил холостяком, попрежнему остро переживая утрату горячо любимой жены. Возможность часто видеть сына, беседовать с ним, следить за его развитием было для него большой радостью. Старая бабка поощряла это общение между сыном и отцом, вылившееся в настоящую дружбу, несмотря на то, что Кемалю было всего девять лет.
Она часто посылала мальчика в дом к отцу, где он проводил интереснейшие часы, слушая бесконечные рассказы отца, об остром уме которого Кемаль впоследствии не раз отзывался с восхищением. Привлекало ребенка и замечательное граверное искусство Мустафы-Асыма. Он мог часами сидеть около отца, смотреть, как тот ювелирно-тонко вырезывает какую-либо замысловатую вязь арабской надписи, и слушать его рассказы, извлеченные из трудов старых турецких историографов, которыми увлекался Мустафа-Асым и которые он передавал чрезвычайно красочно. Так Кемаль еще ребенком познакомился с историей расцвета и упадка Оттоманской империи, что на всю жизнь породило в нем любовь к историческим наукам. Впоследствии самым страстным желанием его было написать подробную историю Турции. Смерть застала его как раз за этим, далеко не законченным трудом.
Но еще больше, чем история, увлекали ребенка живые подробные рассказы отца об их роде и о всех тех притеснениях и гонениях, которым он подвергался со стороны султанов и дворцовой камарильи. Перед глазами впечатлительного и остро-любознательного мальчика живой вереницей проходили тени еще незабытых предков.
Отец Мустафы-Асыма, Шамседдин, прожил до ста девяти лет и, понятно, сохранил в своей памяти подробную хронику последних поколений. Благодаря ему Мустафа-Асым знал далекую родословную семьи и все те гонения, которые привели ее от знатности и богатства к крайней бедности.
Род отца Кемаля происходил от жившего в начале XVIII века в большом городе центральной Анатолии, Конии, крупного феодального землевладельца Бекир-аги. Среди потомков последнего были знаменитые полководцы, могущественные визири и стяжавшие славу поэты. Почти все, в той или иной мере, подвергались султанской немилости, а некоторые сложили свою голову на плахе.
Шамседдин пережил пять султанов, служил три четверти столетия и был неоднократно объектом султанской тирании. Уже тогда, когда он был глубоким стариком, при Махмуде II, все его состояние было конфисковано, и он буквально был выброшен на улицу.
Отец подробно рассказывал маленькому Кемалю все перипетии этой сцены, свидетелем которой он сам был:
– Когда посланные султаном солдаты пришли забирать имущество твоего деда, старик сказал им: «Берите все, что у меня есть, ничего не оставляйте, но не трогайте только этого старого коврика, на котором я творю намаз».[21]21
Намаз – молитва.
[Закрыть] Но даже и эта скромная просьба не была удовлетворена. Старик вышел из своего богатого дома в чем был. Если бы не родня, приютившая его, он умер бы с голоду под забором.
Из состояния семьи, доходы от которого были когда-то не меньше, чем доходы целого округа, не осталось ничего. Мустафа-Асым вырос в крайней нужде, среди вечных горьких воспоминаний и жалоб семьи. Все слышанное и виденное в детстве он передавал теперь слово в слово сыну, выращивая в нем с самого раннего возраста возмущение против режима деспотизма и произвола.
Под влиянием этих рассказов история Османов начинала представляться мальчику в новом свете. Он видит в ней не только цепь блестящих завоеваний, геройских подвигов, громкой славы, но и бесчисленное количество темных, кровавых деяний, бессмысленных и отвратительных по своей жестокости.
Однажды, прерывая рассказ отца о царствовании Баязида I, он задал вопрос:
– Эфенди, вы рассказывали мне, что Баязид, когда был наследником, был достойным и смелым молодым человеком; как же случилось, что немедленно по восшествии на престол он велел убить своего невинного брата Якуба?
Мустафа-Асым горько усмехнулся:
– Сынок, – сказал он, – падишахи родятся в тот день, когда вступают на престол.
Много лет спустя, после восшествия на престол Абдул-Хамида, проводившего в бытность свою наследником коварную либериальную игру, Кемаль не мог не вспомнить этой пророческой фразы.
Кемаль был слишком мал, чтобы видеть и другую сторону медали. Если его предки кончали жизнь на плахе или разорялись по милости султанов и камарильи, то сами они в свою очередь являлись представителями той феодально-бюрократической военной верхушки, которая не менее жестоко расправлялась с простым народом и разоряла страну. Он понял это гораздо позже, но в то время, под влиянием рассказов отца, весь его род казался ему состоящим из благороднейших людей, невинных мучеников султанской деспотии.
Рассказы отца приохотили маленького Кемаля к чтению и зародили в нем жажду знаний. Пытливый, любознательный ум ребенка, его недюжинные способности и страстное желание учиться ставили вопрос о его дальнейшем образовании.
В дореформенной Турции не существовало светских школ. Образование было сосредоточено в руках духовенства. В первоначальных школах ходжи[22]22
Ходжа – учитель; так же назывались и низшие духовные лица, исполнявшие религиозные обряды и учившие народ шариату в деревнях или бедных городских мечетях.
[Закрыть] учили мальчиков читать и писать, а также преподавали им начальные догматы ислама.
Розги, неизменная «фалака»,[23]23
Фалака – тяжелый деревянный брус, служивший для привязывания ног наказуемого, когда его били палками по пяткам.
[Закрыть] висевшая в старое время на стене классной комнаты в каждой турецкой школе, считались испытанным средством для вколачивания в головы детей сухой и трудной мусульманской премудрости.
– Мясо твое – кости мои, – часто говорил учителю, по свидетельству народной литературы, отец, приводивший в школу сынка, что означало право ходжи бить ученика только до полусмерти и без членовредительства.
Особенно жестокие побои выпадали на долю бедных учеников, за учение которых никто не платил и которые почитались как бы собственностью школы. Они отвечали часто и за шалости своих богатых товарищей, которых ходжа не смел наказывать.

Ходжа обучает детей знати (со старой турецкой картины).
– Не оставлять же проступка без наказания, – говорил в таких случаях учитель, – а этим все равно пойдет на пользу.[24]24
О такой оригинальной аргументации тогдашних ходжей свидетельствует известный турецкий литератор Омер Сейфеддин в своих воспоминаниях о школьных годах.
[Закрыть]
По окончании первоначальной школы, для турецкой молодежи был открыт лишь один путь для продолжения образования – медрессе (духовное училище).
Сейчас, когда пишутся эти строки, прошло уже более десяти лет с тех пор, как республиканское правительство новой Турции ликвидировало эти гнезда и рассадники фанатизма, реакции и все иссушающей схоластики. Но и до сих пор во многих городах сохранились здания медрессе, носящие печать мертвечины и рисующие яркий образ печального прошлого.
Они все построены на один манер – эти медрессе. Обычно это большое одноэтажное здание, окружающее с трех сторон обширный двор мечети. Под портиком, поддерживаемым колоннами и идущим вдоль всего здания, несколько десятков дверей ведут в маленькие келейки с небольшим решетчатым окном пробитым в толще стены, а иногда просто освещенный застекленным отверстием в куполе. Вся обстановка такой кельи, похожей на тюремную камеру, состоит из низкого соломенного дивана и цыновки. Когда мальчик 12–15 лет, прошедший первоначальную школу или выучившийся читать и писать у домашнего учителя, попадает в медрессе и становится «софта», ему предоставляется такая келья, в которой предстоит провести за учением несколько лет.
Обычно медрессе пополнялись выходцами из средних классов, для которых была недоступна чиновничье-административная карьера, монополизированная за детьми и родственниками знати и очень богатых людей. Существование софта было очень незавидным: скромную пищу, далеко недостаточную для молодого желудка и обычно состоявшую из пустой похлебки и каких-либо овощей, выдавало медрессе; остальное софта должен был покупать на свои деньги. Наиболее счастливые получали кое-какую помощь деньгами или продуктами от родителей – помещиков или богатых крестьян и торговцев, но при тогдашнем разорении всего населения страны таких было немного. Большинство жило впроголодь и зарабатывало чем могло: переписывали кораны и другие духовные книги, помогали сторожам подметать и убирать мечеть, прислуживали в доме учителей или носили им с базара провизию.
Обучение в медрессе длилось 10–12 лет. За это время софта успевал изучить арабскую грамматику, этику, риторику, теологию, философию, мусульманскую юриспруденцию – «шери», и наконец коран и сунну.[25]25
Сунна – предания о жизни и учении пророка Магомета.
[Закрыть]
По окончании медрессе софта приобретал звание «данишменд», т. е. «одаренный наукой», и мог стать ходжой или имамом. Если он хотел учиться далее и добираться до высших ступеней духовной юридической иерархии, он должен был делать это уже целиком на свои средства, что было доступно лишь весьма немногим.
После ряда лет нового учения он приобретал наконец первую ступень улема и мог получить должность провинциального кадия.
Улема – это была ступень, достигаемая немногими счастливцами. Толкователи всех темных мест мусульманской религиозной юриспруденции, без санкции которых не обходились часто даже правительственные распоряжения, они пользовались громадными привилегиями и в том числе гарантией сохранности жизни (что по тогдашним временам было далеко не маловажным), ибо священный закон запрещал проливать кровь улема. Правда, в истории можно найти много примеров, когда этот закон остроумно обходился султанами, для которых это высшее духовное сословие было одновременно и поддержкой и вместе с тем силой, которой приходилось опасаться. Так Мурад IV, боровшийся с попытками духовенства ограничить его самодержавную власть, чтобы не нарушать закона, велел истолочь в ступе (без пролития крови!) непокорного шейх-уль-ислама. Закон был в точности соблюден – султан не пролил ни капли запретной крови.
Но все же по сравнению с другими классами населения, для которых топор палача был постоянной угрозой, улемы могли чувствовать себя сравнительно спокойно.
Таков был путь просвещения молодежи в дореформенной Турции и та высшая карьера, которой мог добиться юноша из зажиточной семьи в результате долгих лет учения.
Реформы Танзимата изъяли из ведения религиозного закона многие из сторон общественной жизни; зарождение в Турции капиталистических отношений требовало светской инетллигенции, изучившей современные, прикладные науки. В Турции впервые открылись гражданские школы, получившие название «рюштие». Конечно это были весьма скромные очаги светской науки. В них так же, как и в медрессе, наибольшее внимание уделялось изучению духовных и схоластических наук, кроме того, по объему своей программы они не соответствовали даже европейской средней школе, но все же в них преподавались и общеобразовательные науки, что по тогдашним временам в глазах ретроградов было настоящим святотатством.
Ко времени переезда семьи Абдулатыф-паши в Стамбул там уже существовало несколько таких школ. Посовещавшись, дед и отец решили отдать Кемаля в одну из них. Вначале его записали в «рюштие», расположенную поблизости мечети Баязида, в самом центре старого Стамбула, где сейчас помещается университет.
По утрам старый слуга отводил туда мальчика по сложному лабиринту узких стамбульских улиц. Они проходили мимо огромного сводчатого стамбульского рынка – «Бююк-Чарши», где у порога своих лавчонок сидели бородатые купцы в чалмах, перебирая четки и куря длинные трубки. Ремесленники тут же шили, строгали, стегали набитые шерстью или хлопком матрацы и одеяла. Медники оглушительно били молотками по громадным котлам и кастрюлям. Пронзительно кричали разносчики, продавая фрукты или холодную воду в длинногорлых, обвешанных колокольчиками, кувшинах. Над двором мечети Баязида кружились голуби. С минаретов муэдзины голосили эзан.[26]26
Эзан – призыв к молитве; возглашается пять раз в день.
[Закрыть]
Многих школьников неотразимо притягивала жизнь улицы. Они подкупали грошами водивших их дядек и убегали играть в орешки или в бабки в огромный двор мечети Сулеймание или толкаться среди базара. Но Кемаля улица не тянула. Учение для него было самым большим удовольствием. Он посещал первую школу в течение пяти месяцев, а затем его отдали в другую, ближе от дома, в квартале мечети Валидэ.
Учитель этой школы Шакир-эфенди был незаурядным человеком. Прекрасный педагог, любитель поэзии и сам писавший стихи, он напоминал своей речью, манерами и обхождением мудреца из старых рассказов. Ему достаточно было увидеть мальчика, чтобы понять, какие способности заложены в нем. Кемаль своей недетской серьезностью, воспитанностью и знаниями значительно отличался от своих товарищей. Шакир-эфенди немедленно выделил его из их среды и начал обучать отдельно. Кемаль сильно привязался к учителю. Он рьяно принялся за занятия и в очень небольшой срок постиг то, на что для других детей требовались годы. Память у него была изумительная, иногда ставившая втупик учителя.
Однажды, по случаю раздачи ученикам наград, школу должен был посетить султан Абдул-Меджид. Для школы это было огромным событием. В ту пору для большинства населения султан был существом почти божественного рода. Шакир-эфенди написал ради торжественного дня большую оду в семьдесят двустиший. Прочитать ее перед султаном он поручил своему любимому ученику – Кемалю. Он позвал мальчика и сказал ему:
– Слушай внимательно; я прочту тебе стихи, а ты выучишь их хорошенько наизусть и прочтешь перед посетителями.
Едва он кончил чтение и передал листки Кемалю, тот вернул их ему.
– Ходжа-эфенди, ваша тетрадка мне не нужна – я уже знаю стихи наизусть.
И он тут же, почти слово в слово повторил оду. Окончив ее, мальчик сказал застывшему от изумления учителю:
– Видите, я не солгал, я знаю стихи, но читать их не решаюсь; мне будет стыдно выступать в присутствии падишаха и высоких особ…
– Дитя мое, – ответил учитель, – стыдиться тут нечего, ведь все они, перед кем ты будешь читать, попросту могильные плиты.
Впоследствии Кемаль, вспоминая свои школьные годы, часто говорил:
– На меня эти слова учителя произвели такое впечатление, что в торжественный день я прочел без запинки громким, не срывающимся голосом всю оду, как-будто я видел перед собой не падишаха с его пышной свитой, но, действительно, могильные плиты.
После этого всю мою жизнь, когда мне приходилось быть в присутствии султана, визирей и других важных особ, я не придавал им большего значения, чем могильным плитам.
Трудно найти более характерный штрих в формировании будущего борца с абсолютизмом. Не только в то время, но и шестьдесят-семьдесят лет спустя для темного, забитого населения Турции, воспитанного в диком религиозном фанатизме, падишах все еще продолжал оставаться «тенью аллаха на земле». И вот, незаметный школьный учитель простой фразой на всю жизнь рассеивает у своего ученика священный трепет перед фетишем, созданным веками мракобесия.
Прошло еще несколько месяцев. Мальчик усердно посещал школу. Учение и беседы с учителем были для него приятнее всех забав со сверстниками. Общение с отцом становилось все привлекательнее. Но внезапно все пришлось бросить. Абдулатыф-пашу назначили в Каре, и семья начала готовиться к далекому путешествию. Для Кемаля это было первым серьезным ударом в жизни. Он просил, чтобы его оставили в Стамбуле, но дед и слышать об этом не хотел. Жизни без внука, которым он теперь справедливо гордился и которого искренно любил, он себе не представлял. Интересно для характеристики внутренних отношений семьи, что 10—11-летнего мальчика убеждали ехать, вместо того чтобы обратиться к нему с недопускающим возражения приказанием, как это должно было иметь место в патриархальном доме. И даже уже согласившись, ребенок выставил непременным условием поездки, чтобы для него приобрели и позволили взять с собою все те книги, список которых даст ему учитель Шакир-эфенди и которые необходимы для дальнейшего образования и чтения.
Улыбаясь и тайно гордясь столь серьезным требованием внука, Абдулатыф-паша дал слово. Однако, увидев список, он пришел в ужас. Там значилось несколько сот томов, и только для перевозки их понадобилось бы с десяток вьючных животных. Но старый паша не играл своим словом. Книги были честно куплены и взяты с караваном, перевозившим имущество семьи. В течение всей дороги Кемаль ни на минуту не забывал о своих книгах и на каждой остановке бегал присмотреть за тюками.
Путешествие в Каре было большим событием, произведшим громадное впечатление на мальчика. Путь был далек и труден. Надо было пересечь из конца в конец всю Анатолию, Путешествие длилось месяцы.

Вид на гору Олимп и Бруссу.
На пути лежали старые города, крошечные бедные деревушки, горы, озера, леса.
За роскошными фруктовыми садами Сабанджи и буйной растительностью ущелий Сакарии шли унылые голые скалы центрального плоскогория, потом снова громадные дикие горы со снежными вершинами, мрачными ущелиями, склонами, покрытыми могучим лесом. По вечерам небо пылало волшебными красками закатов, которых, кажется, не увидишь нигде, кроме беспредельных анатолийских пустынь. Там и здесь на высоких горных уступах паслись стада ангорских коз и баранов, казавшихся снизу насекомыми, кишащими на зеленой шапке горы. На ночлег останавливались часто в маленькой убогой деревушке, в бедной голой хатенке для путников, иногда в небольшом помещичьем доме или же в сером и грязном хане, построенном для больших верблюжьих караванов, круглый год бороздящих из конца в конец безграничные просторы Азии.
Здесь по вечерам можно было наслушаться чудесных рассказов. Анатолийские караваны всегда играли в местечках и деревнях, заброшенных в глухие дебри на сотни километров от крупных центров, роль газеты, книги и театра. Никто не разносит так быстро новостей, как водители караванов, и никто не знает столько занимательных историй, как они. Они много раз побывали и в Мекке, и в Дамаске, в Иране,[27]27
Иран – Персия.
[Закрыть] в Афганистане и даже в Индии. Они таскают с собою музыкальные инструменты и искусно поют всевозможные песни. Если среди них есть зеебеки[28]28
Зеебеки – племя, живущее в окрестностях Смирны, известное своей воинственностью и живописными плясками.
[Закрыть] или жители других местностей, славящихся танцами, они и станцуют перед толпой селян, немедленно стекающихся в хан, как только туда явится караван. А затем они открывают свои тюки и начинается торговля. У них есть неисчерпаемый запас чудесных вещей, от которых у жителей разгораются глаза. За домотканную пряжу, маслины, табак, опий, а иногда и золотую монету, тут же снятую с женского мониста, караванщик оставляет деревне всякую необходимую в быту мелочь. Затем мало-по-малу все умолкает; расходятся селяне, обсуждая новости и качество покупок, погружаются в сон усталые караванщики, и только верблюды, лежа на земле, долго шевелят губами, пережевывая жвачку.
Но помимо всего этого нового, неизведанного, столь пленительного для детского возраста, не укрылось от взора не по годам серьезного и вдумчивого мальчика и многое другое. На всем протяжении бесконечного путешествия он видел перед собой разоренную страну, как-будто волна варварского, все уничтожающего иноземного нашествия только-что прокатилась по ней. Покинутые поля, некогда возделываемые, а ныне заросшие бурьяном нивы; заброшенные сады и виноградники; высохшие теперь, а ранее столетиями заботливо поддерживаемые арыки, вдоль которых печально стояли оголенные, мертвые тополи и ивы. Многие села казались покинутыми: в них оставались лишь старики, женщины и дети. Здесь прошли наборщики рекрутов с жандармами. Кто успел – бежал в горы и прятался там; кого застали в деревне – безо всякого разбора забрали в армию.
Там, где еще оставалось крестьянское население, оно выглядело страшно обнищавшим, забитым, голодным. Провинциальная администрация, кадии, духовенство, сборщики ашара (десятины), помещики и ростовщики отнимали у крестьянина нее, что у него было. Как жадная саранча, опустошали они страну. Мужчины посмелее уходили в горы, образовывали там большие банды, грабили помещиков, проезжих, маленькие местечки. Детей продавали в рабство. Множество сильного, здорового народа уходило в города, в услужение к зажиточным людям, вокруг которых в Турции всегда жила масса бесполезной челяди. Точно высчитано, что в первой четверти XIX века в Турции было не менее миллиона рабов и слуг в домашнем услужении, то-есть не занимавшихся производительным трудом.
Нанимались за ничтожную плату или совсем без денег, за кусок хлеба, за полуголодное существование. Именно благодаря этому повальному бегству с земли турецкий городской быт поражал европейских путешественников обилием домашней челяди, насчитывающейся десятками даже в среднезажиточном доме.
Дороги были запущены и приведены в ужасное состояние. Древние торговые пути, прокладка которых теряется в глуби веков, заботливо поддерживавшиеся треками, римлянами, арабами, давно уже были побеждены пустыней. О них напоминали лишь немногие сохранившиеся еще участки, мощеные крупным булыжником и громадными каменными плитами. Горные дороги были завалены оползнями, источены размывами; ездить по ним было опасно. В долинах дороги покрылись камнями, нанесенными бурными потоками. Весной и осенью дороги эти превращались в густое, известное в Анатолии под именем «османская грязь», красное месиво, по которому могли проехать лишь деревенские арбы с их досчатыми колесами без спиц.