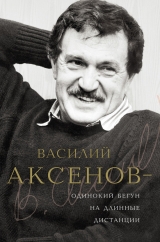
Текст книги "Василий Аксенов — одинокий бегун на длинные дистанции"
Автор книги: Виктор Есипов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
– Я растерялся, смотрю на Гришу, он от нас в трех шагах и тоже опешил, мы под одеялом, все ясно, – рассказывал мне Василий. – Но молчать дальше было невозможно, следовало как-то объясниться с оторопевшим другом, и я пробормотал: «В общем, Гриша, как в твоей песне: «Если мой друг влюблен, а я у него на пути, таков закон: третий должен уйти». Гриша вышел из комнаты и потом ни разу не обмолвился об этой истории.
На другой день они встретились на набережной. И снова рассказ Василия: «Я пришел раньше, стою, жду, и вот появилась она, ветер развевает ее золотистые волосы, она летит ко мне, будто созданная из солнечного света. Я с восторгом думаю: «Неужели это чудо принадлежит мне?»»
Пусть простят меня другие женщины, любившие Аксенова, я пишу о том, что происходило с ним в ту пору, а Вася сказал мне именно так.
Потом Майя станет его женой, разделит с ним все тяжкие испытания и судьбу эмигранта. Но, сказав о его второй жене, нельзя не помянуть добрым словом первую: Киру. О том, что происходило между Васей и Кирой, знают только они сами, и они сами же себе судьи. Я же, часто бывая у них дома, видел любящую жену и мать его сына Алеши. Кира тоже красивая женщина, но на свой лад. И тоже делила с мужем судьбу писателя, неугодного властям. Мне она казалась человеком с сильным характером. И не мудрено: мать Киры в войну была полковником – танкистом, отец Лайош Гавро [14]14
Гавро Лайош (1894–1938), венгерский интернационалист, участник Гражданской войны в России.
[Закрыть], герой нашей Гражданской войны, «венгерский Чапаев», его подвиги, как мне говорили венгры, изучавшие его биографию, частично приписаны Матэ Залке. Говорили, что природа одарила Киру замечательным голосом, которым она пожертвовала ради семьи. Позже Вася и Кира пригласили меня на концерт, где она выступала вместе с известным чтецом Дмитрием Журавлевым [15]15
Журавлев Дмитрий Николаевич (1900–1991), актер, мастер художественного слова. Народный артист СССР (1979).
[Закрыть]. Мы втроем сидели в Концертном зале имени Чайковского, Аксенов привел с собой молодого журналиста Александра Кабакова, который впоследствии вырастет в знаменитого прозаика. А на сцене перед нами царил Журавлев. Чуть поодаль от него, перед своим микрофоном, стояла Кира в потрясающем вечернем платье. Ее пение как бы дополняло чтеца. Вася нервничал, переживал за Киру: «Сейчас даст петуха! Сейчас даст!» Но Кира великолепно справилась со своими вокальными номерами. У нее был низкий приятный голос. Если не ошибаюсь, его называют контральто. Но я не знаток вокального искусства.
При всей неприязни властей Аксенова временами выпускали «за бугор». Однажды он был приглашен в американский университет в Беркли. Хозяева несомненно учли особенности этого русского писателя и предложили тему для семинара, связанную с природой литературного творчества. Василий серьезно готовился к предстоящим занятиям, составил вопросник и разослал коллегам, попросив ответить на каждый пункт. Помню вопрос, показавшийся мне особенно важным: «Что, по-вашему, в прозе первично: реалии или воображение?» Его семинары в Беркли растянулись на целый месяц. Кто бы мог тогда подумать, что они были репетицией долгой профессорской работы в одном из американских университетов.
Василий издавна занимался английским языком, я нередко заставал его лежащим на диване со словарем и книгой американца или англичанина, изданной на языке оригинала, более того, он перевел для русского читателя роман Доктороу «Рэгтайм». И все же университет приставил к Аксенову переводчицу – американку русского происхождения, из тех русских американцев, что проживали в маленьких городках неподалеку от университета. Отец Васиной помощницы, бывший белогвардейский полковник, ушедший из России вместе с армией Врангеля, наслушался от дочери добрых слов о писателе, своем соотечественнике, и настойчиво звал к себе в гости. У Василия сложились с переводчицей добрые отношения, и он уважил просьбу полковника. Как он рассказывал, дверь им открыл высокий сухощавый старик с военной осанкой и сразу бухнул: «Василий Павлович, эти иностранцы совершенно невыносимы!». «А сам, – смеясь, говорил мне Василий, – живет в Америке столько лет, а по-английски ни бум-бум. Вот он, наш русский характер!»
Потом полковник нанес ответный визит, наведавшись во вторую столицу некогда «единой и неделимой». Первым делом бывший воспитанник кадетского корпуса изъявил желание посмотреть на суворовцев – советских кадетов. Аксенов привез его к воротам Московского суворовского училища, однако полковнику не повезло: было лето, и ребят увезли в лагерь. Меня, в прошлом суворовца, тоже не было в Москве, о чем Василий сожалел, я бы пришелся кстати, показал фотографии и, возможно, подарил старому кадету свой суворовский значок.
Впрочем, опекать иностранцев, с той или иной целью нагрянувших в Москву, стало для него занятием привычным. Обычно это были те, с кем он познакомился в своих заграничных поездках, или знакомые тех знакомых, рекомендованные Аксенову письмом, а то и звонком по телефону.
Я не помню, по какой статье «проходила» Марина Влади, да это и неважно. Приехав сниматься на «Мосфильм», она оказалась под надежным присмотром Василия. Фильмы тогда снимали многими месяцами, поэтому знаменитая русская француженка приехала надолго и, кажется, привезла своих детей. Это было еще в «довысоцкий» период ее жизни – роман, перешедший в замужество, только начинался. Аксенову в его благом деле помогал Гладилин. Они часто приводили подопечную в Дом литераторов.
Так случилось и на этот раз. Съемки у Марины были назначены на вторую половину дня, и сейчас она сидела вместе с нами в Пестром зале. Мы выбрали столик в дальнем углу, подальше от любопытных глаз, пили кофе и болтали о том о сем. Наша собеседница отлично владела русским, как и полагалось человеку, выросшему в русской семье, пусть и во Франции. Стояло лето, зал был практически пуст. Между столиками одиноко слонялся долговязый поэт Семен Сорин, некогда служивший в пограничных войсках и теперь славящий в стихах товарищей по оружию. Сейчас он явно не знал куда себя деть. Побродив по залу, бывший пограничник направился к нам и, прихватив по дороге свободный стул, без спроса подсел к нашему столу. В ЦДЛ подобное поведение считалось неприличным: нахала гнали вон. Сорин, или попросту Сеня, слыл безобиднейшей личностью, и посему мы промолчали: бог с ним, пусть сидит. И надо отдать ему должное, Сеня, найдя для себя спокойную гавань, просидел все оставшееся время, не проронив и слова, будто бы даже задремал, опустив голову, едва не касаясь груди длинным носом и острым подбородком. Но вот пришла пора, за артисткой с «Мосфильма» прикатила машина. Марина поднялась, встали и мы, все, кроме будто бы прикорнувшего Сорина. И тут случилось то, о чем до сих пор рассказывают в писательских компаниях, а иные авторы даже вставляют в документальные книги, посвященные быту и нравам творческой среды. Марина простилась с Гладилиным и со мной, подала руку одному, второму, когда она проносила ладонь мимо Сени, тот вдруг встрепенулся, перехватил кисть Марининой руки, поднес к губам и, высунув длинный фиолетовый язык, лизнул ее возле большого пальца. Это было не просто моветоном, это было черт знает чем! Влади оцепенела, мы тоже обалдели, я взглянул на Аксенова, некогда бившегося за честь Беллы, он, как и Толя и я, не знал что делать: отметелишь безобидного доброго Сорина – потом не отмоешься от издевок. Но Сеня, оказывается, еще не закончил свое действо: пока мы мучились, не зная, что предпринять, поэт извлек из внутреннего кармана пиджака химический карандаш и запечатлел на Марининой руке номер телефона, обратив тем самым свою, казалось бы, оскорбительную выходку в шутку. Она была вульгарной, но все-таки шуткой. Марина засмеялась – у нее с чувством юмора все было в порядке, мы тоже не жаловались на его отсутствие. Наша компания проводила Марину к машине и там простилась вторично, а Сеня остался за столом, снова погрузившись в дрему.
На другой день Аксенов встретил Сорина в ЦДЛ. «Мы-то думали: Сеня-то каков остряк, а он, оказывается, был всего-навсего пьян. И ничего не помнил. Когда я ему рассказал, он покраснел от стыда. Мне же еще пришлось его утешать», – посмеиваясь над собой, посетовал Василий.
А это случилось, по-моему, весной 1975 года, хотя назвать случайностью то, что мы с Аксеновым узнали, было трудно. Мне позвонил Гладилин и попросил приехать в ЦДЛ. Аксенова он уже известил. Он собирался сообщить нам кое-что чрезвычайно важное. Толя был чем-то взволнован. Я примчался в клуб и там, в холле, встретил хмурого Васю. И спросил: «Где Гладила?» – «Там», – коротко ответил Аксенов и указал на лестницу, ведущую в правление Московской писательской организации. Я снова спросил, начиная тревожиться за Толю: «Что стряслось? Ты в курсе?» – «Точно не знаю, но, кажется, начинаю догадываться, – сказал Вася. – Но подождем, может, я ошибаюсь».
Не помню, сколько длилось наше томительное ожидание, но вот наверху, в дверном проеме появился Толя и медленно спустился к нам. Он был бледен, губы крепко сжаты.
– Ребята, я уезжаю, – произнес Гладилин в ответ на наши вопросительные взгляды. Он не сказал, куда именно, но догадаться было нетрудно.
Формально он подал документы по «еврейской» линии, еврейкой была его жена Мария, дочь покойного писателя Якова Тайца, но всем, и друзьям, и недоброжелателям, было ясно: причины, толкнувшие Гладилина на отъезд, связаны с идеологическим прессингом, под которым он находился все последние годы, а после письма «двадцати двух» давление и вовсе стало невыносимым. Мы это понимали, особенно Вася – один из этих двадцати двух «подписантов». Он тоже подвергался «санкциям». Понимать-то понимал и я и все же был ошарашен. Васе, судя по выражению его лица, также стало не по себе.
Мы перешли в Дубовый зал, молча, ну разве что иногда отвлекаясь на малозначительные реплики, выпили по рюмке водки, то есть ее пили мы с Толей, Вася ограничился соком. Он первым заговорил о главном и с горечью произнес:
– Толя, ты совершаешь глубочайшую ошибку. И эта ошибка тем ужасна, что непоправима! Уехав, ты уже никогда не вернешься в страну. Для тебя перекроют все дороги!
Говоря это, он не ведал о том, что вскоре сам проследует по Толиному пути. Но, к счастью, Вася ошибался, придет время, и мы, оставшиеся, будем их встречать в Шереметьево, обнимем на нашей общей родной земле. А пока он сказал, как сказал, на что Толя ответил:
– Наверное, ты прав, и все же я чувствую: не знаю, как именно, но должен круто изменить свою судьбу, сделать что-то очень важное.
После отъезда Толи, наша тройка распалась, мы с Васей встречались все реже и реже, к тому же я надолго пропадал в Алма-Ате, занимаясь переводами. И все же наша дружба не тускнела, прочитал я в рукописях его самые важные в те годы сочинения «Ожог» и «Остров Крым». В памяти осталась картина: сидим мы у него в квартире на Красноармейской, нас трое: Володя Максимов, Юлик Эдлис и я. Аксенов читает главы из «Ожога».
Работая над «Островом», он мотался в Крым, Ялта оставалась для него любимым городом. Мне он рассказывал: «Шпарю по Симферопольскому шоссе, устал, не ел целый день, останавливаюсь возле придорожного кафе, на стойке ничего, кроме вареных яиц, взял два и стакан чая. За мой стол присаживается гигант – водитель самосвала, я видел, как он подкатил, в лапищах глубокая суповая тарелка с горой яиц, десятка два, а может, и более того. Говорю, уверенный в солидарном согласии: «Докатились! Жрать нечего, на прилавке пусто!» А шоферюга мне весело: «Как пусто? А яйца? Ты, брат, даешь!» Жора, с таким народом делай все, что угодно, хоть на голову гадь, он будет доволен, скажет: «Ништяк, зато тепло башке, не надо шапки».
Однажды после долгого сидения в алма-атинском Доме творчества я вернулся домой, позвонил Аксенову, предложил пообедать в Доме литераторов. «Встретимся у входа», – коротко сказал Василий, и я понял: у него ко мне разговор, не предназначенный для чужих ушей. Мы встретились, побрели в сторону Никитских ворот. По словам Аксенова, он тайно переправил «Ожог» в Италию, одному из тамошних издателей, соблюдалась самая тщательная конспирация, и все эта акция стала известна Лубянке. «Каким образом?! Об этом знали только двадцать человек, всего-то!» – недоумевал конспиратор. Пришлось ему напомнить тезис, ставший расхожим: если в тайное предприятие посвящено хотя бы десять участников, оно заведомо обречено на провал. «Но они все такие надежные! Нет, я им верю, каждому из них!» Аксенов твердо решил: эта аксиома верна для кого угодно, только не для его товарищей. Я уточнил: по-моему, тезис в большей степени считает губителями тайн не предателей, а болтунов, среди коих попадаются и люди весьма порядочные. «Ну, тогда не знаю что и думать», – устало пробормотал Василий.
Наверно, так и было. Я знавал их всех, из этой славной двадцатки. Сомневаюсь, чтобы кто-то «стукнул», намереваясь подставить Аксенова. Скорей всего этот некто, тщеславный, сболтнул, желая придать себе значительности, щегольнув близостью к знаменитому писателю. Сболтнул, да кому не следует. А далее поползло по цепочке. И приползло.
Эта история, разумеется, не добавила властям любви к автору уже далекого «Звездного билета» и матерому «подписанту» еретических писем. А потом началась трагическая эпопея с «Метрополем».
Идея создания своего журнала давно обсуждалась в нашей компании, ему даже придумали название: «Лестница», журнал для экспериментальной прозы. Именно на этот несуществующий журнал и донес Анатолий Кузнецов, приплюсовав к писателям Олега Ефремова и, кажется, другого Олега – Табакова. Аксенова и Евтушенко выгнали из редколлегии «Юности», Гладилина уволили из «Фитиля», и идея на время заглохла, а потом возродилась из пепла. Теперь к этой идее подключили и Валентина Петровича Катаева, у которого уже был опыт создания неординарного журнала «Юность». К тому же он любил Аксенова и Гладилина, о чем мне говаривал сам и не однажды. Мэтр охотно согласился, группа писателей, самых именитых из нашего поколения, во главе с Катаевым даже сходила с нашим проектом к Демичеву, руководившему советской культурой. Но поход закончился полной неудачей.
И вот наконец «Метрополь». Когда его готовили, со мной Василий об альманахе не обмолвился и словом, хотя из этой затеи не делали особого секрета. До меня доходили слухи, будто Аксенов собирает авторов в некое свое издание, а помогают ему Виктор Ерофеев и Евгений Попов, тоже мне не чужие люди. Я помалкивал, был уверен: Вася позовет и меня. Но он не позвал. Потом, когда вокруг альманаха началась свистопляска и на авторов посыпались репрессивные меры, я все-таки поинтересовался у Аксенова: почему он не позвал меня? Он пояснил: ты – партийный, мы тебя решили не подвергать риску, по этой же причине обошли и Булата, и других подобных ребят. Им была памятна участь Бориса Балтера, подписавшего письмо «двадцати двух»: всех наказывали, отлучая от издательств, а его покарали особо – исключили из партии, что в ту пору было равносильно гражданской казни. «Не переживай, – посоветовал Вася с улыбкой, – когда будем собирать второй номер, мы тебя выведем из партии». Или он шутил, или в разгар погрома и впрямь подумывал о следующем номере «Метрополя».
Наверное, этот заезд в переделкинский Дом творчества стал для него последним. Он поселился в коттедже, в комнате на втором этаже. Я жил в корпусе, который теперь называют «старым». Временами к Василию приезжала Майя. Ее я застал и на этот раз, зайдя к Аксенову по какому-то делу, а может, всего лишь почесать язык. Майя тотчас заварила в стаканах чай, предварительно вскипятив воду с помощью спирали, именуемой кипятильником, – спутником командировочных в те годы. За чаем Василий спросил: не желаю ли я обзавестись щенком? Спаниель Майи Степан произвел на свет потомство, одного из Степановых сыновей и предлагал мой товарищ. Я ответил: таким желанием не горю, я – кошатник, что тебе, Вася, известно, к собакам равнодушен, и вообще после потери нашего кота, кстати, тоже Василия, мы с женой твердо решили более не заводить в доме живность. Аксенов меня уговаривал и так, и этак, расписывая достоинства щенка. Напомнил историю из моей холостяцкой жизни: Наташа Владимова при его поддержке пыталась меня женить на миловидной цирковой артистке, дрессировщице собак. «Представь: ты утром проснулся, а перед постелью шпиц на задних лапках, принес твои шлепанцы, держит их в зубах», – посмеиваясь, искушал Аксенов. Но я тогда не поддался, устоял и сейчас.
Вскоре мы оба вернулись в Москву. А дня через два он позвонил, сказал: «Я и Майя сейчас рядом с вами. Вы с Ирой не будете возражать, если мы ненадолго заедем к вам?» У нас, разумеется, не было возражений. Открыв дверь, я увидел перед собой Василия, за ним стояла Майя. «Покажи ладони!» – потребовал гость. Я выставил перед собой ладони, и в них тотчас легло что-то мягкое, теплое. Это был щенок размером с тапочку, большую часть его тельца составляли длинные уши цвета шоколада. Это трогательное существо в мгновение завоевало наши души. Крошечный спаниель все еще оставался без клички, мы, вчетвером, рассевшись за столом на кухне, азартно принялись подыскивать малышу подходящее имя. Аксенов предложил одарить щенка грузинским именем Ушанги. Однако оно так и не прижилось, постепенно забылось, мы все время оговаривались, называя собачку Васькой, как и нашего кота, прожившего у нас около пятнадцати лет. И щенок охотно откликался. А через полгода нам пришлось отдать Ваську своей родне. Я часто бывал в отъездах, жена часто и серьезно болела и не управлялась с собакой. Об этом можно было бы не рассказывать, если бы не одно обстоятельство. Лет через семь, когда Аксенов уже преподавал в Америке, с его подарком случилась удивительнейшая история, почти в духе Андерсена. Я бы ее назвал так: «Пес и королева».
В тот день Леонард Георгиевич, хозяин Васьки, прогуливал теперь уже зрелого спаниеля в палисаднике возле хореографического училища Большого театра. Пес бегал по травке, наш родственник сидел на скамейке, поглядывал на резвящегося любимца и по сторонам. Спустя какое-то время его взгляд засек процессию из трех черных лимузинов, они важно прокатили по улице и затормозили перед зданием училища. Из машин вышли крепкие мужчины в черных же костюмах, затем появилась элегантная дама и в сопровождении мужчин направилась к подъезду. Даму заметил и Васька и вдруг возбудился – он-то, обычно не подходивший к людям незнакомым, сейчас перескочил через невысокую ограду палисадника и, виляя обрубком хвоста, подбежал к ногам дамы. Дама ласково потрепала пса по холке, говоря при этом какие-то слова. Встревоженный Леонард Георгиевич бросился к месту происшествия, однако на его пути встал мужчина в черном и вежливо произнес: «Не волнуйтесь, эта женщина – испанская королева София. Она сказала: «Здравствуй, земляк!» Хозяин Васьки не нуждался в расшифровке, он знал: исторической родиной спаниелей была Испания, где греческая принцесса стала королевой. Поприветствовав своего земляка на московской земле, августейшая особа скрылась за дверью подъезда, а пес, тоже выполнив свой долг, вернулся к хозяину. Будучи склонным к фантазиям, испытывая вечную тягу к многообещаещему «если бы», я представил в своем воображении встречу русского писателя Аксенова с королевой Испании. «Ваше величество, при вашем посещении училища Большого театра, вас у порога приветствовал спаниель по имени Васька», – начал бы Аксенов свой диалог с королевой. «Это был приятный сюрприз: встретить на вашей земле, можно сказать, своего соотечественника, – вспомнила бы София и затем сообразила: – Василий Палыч, как я, наверное, догадываюсь, этот славный пес имел какое-то отношение к вам?» – «Он был сыном нашего Степана!» – торжественно ответил бы Аксенов. Кто знает, может, этот диалог состоится на самом деле, в свое время, конечно, Там!
Незадолго до отъезда Вася и Майя обвенчались в переделкинской церкви, там же, в Переделкино, на дачном участке отметили это событие. Свадьба одновременно стала и прощанием «молодых» с друзьями. В день их отъезда я заболел, простился с ними по телефону. Каждый раз, провожая наших товарищей в эмиграцию, мы испытывали чувства, схожие с теми, что испытывают на похоронах. Единственным утешением служило то, что они были живы. Так было и со мной, когда я говорил с Василием. Прощались мы навсегда. Однако временами между нами восстанавливалась пунктирная связь, мы передавали друг другу приветы через общих товарищей и знакомых, ездивших в Штаты. Однажды Михаил Рощин привез мне от него великолепные часы «Ролекс». Так долгие годы он жил без нас, мы без него. А потом произошло то, что ранее считалось неосуществимым чудом.
Вначале мы увиделись с Майей. Ее одиночный приезд внешне походил на разведку: ну-ну, посмотрим, что на самом деле происходит в стране. Иные из эмигрантов не спешили с приездом – Гладилин в свое первое появление в Москве долго стоял перед входом в ЦДЛ, не решаясь войти, и не вошел, сделал это только на другой день. Но что касается Аксенова, лично его, возможно, не отпускали лекции, семинары, словом, все, связанное с учебной программой. А пока Василия представляла Майя, собравшая нас, друзей, в просторной и вместе с тем по-домашнему гостеприимной мастерской Бориса Мессерера на Воровского.
И все-таки мы его дождались! Я приехал в Шереметьево с Юлиу Эдлисом. Кроме нас, Васю и Майю встречала небольшая команда журналистов и директор не очень-то крупного издательства, сам из писателей, каюсь, его фамилия выпала из памяти. Вот и все «представители общественности». Но, может, сие было и к лучшему – у Аксенова была возможность успокоиться. А вышел он к нам из недр таможни в некотором ошеломлении и от того, что под ногами московская земля, и от встречи с до боли знакомым и, казалось бы, уже забытым, типично советским. Его восторги мешались с возмущением, порой превращаясь в бессистемную речь. Перестройка перестройкой, а таможенники учинили затяжной скрупулезный шмон, перебрав и перерыв все его вещи до каждого шва. Как в старые недобрые времена.
Я вспомнил Васин рассказ из прошлых времен. Он возвращался из зарубежной поездки, на этот раз ехал поездом. Поездка была замечательной, с обилием прекрасных впечатлений. «Забылись все мерзости нашей жизни, но вот состав пересек границу и остановился на первой станции, там, за окном вагона, на стене вокзального здания был растянут красный плакат с призывом: «Решения партии в жизнь!» Меня едва не стошнило», – признался Василий.
Из аэропорта мы поехали к Эдлису, жившему тогда в доме на углу Воровского и Садового кольца. Его многокомнатная квартира на некоторое время и будет пристанищем для Васи и Майи.
В первые годы после его возвращения мы встречались поначалу довольно часто, но постепенно наше общение свелось к телефонным звонкам. В средине девяностых серьезно заболела моя жена, сам я работал в писательском издательстве ПИК, и на встречи у меня практически не было времени. А после смерти Ирины я и вовсе стал затворником. Василий, со своей стороны, жил на две страны. В свои приезды он, по его словам, «попадал на карнавал» – он снова привлекал к себе огромный интерес, его новые книги тотчас выходили к читателям, он был нарасхват у газет и телевидения. Словом, наши дорожки никак не совпадали, его жизнь протекала от меня в стороне. Редкие встречи случались – уходили из жизни наши товарищи, там, посреди печали, мы обнимались, что-то говорили друг другу, намереваясь встречаться, и на этом все кончалось. Поэтому я ограничил свои краткие воспоминания годами шестидесятыми и семидесятыми, когда наша дружба подкреплялась тесным общением. О том, каким Аксенов стал после эмиграции, расскажут друзья, которые были рядом с ним в последние его годы.
Свой рассказ о моем однокласснике Васе хочу закончить так: кому-то в шестидесятые – семидесятые Василий Аксенов представлялся баловнем судьбы, своего рода плейбоем. Да, он любил радости жизни, одевался со вкусом, даже с особым изыском, обожал джаз, казался весельчаком-кутилой. Но только близкие ему люди знали о сложной, часто мучительной работе, не дававшей покоя его душе. Подтверждаю это отрывком из его письма, написанного мне в Паланге 26 августа 1971 года:
«…Очень обрадовался твоему письму, этой весточке с Большой земли, страны конных и пеших стиппль-чезов [16]16
Стиппль-чезы – стипл-чейз (англ. steeple-chase), скачка по пересеченной местности до заранее условленного пункта, например, видной издалека колокольни (англ. steeple).
[Закрыть], столь далекой от нашего песка, где мы от суетных трудов освобождены, учимся в истине блаженство находить, которое было утрачено в стране стиппль-чезов, на Большой земле, откуда прилетело сиречь твое дружеское послание, преподнося тебе это заглавное колечко, я серьезно думаю о том, каким событием порой становится такая элементарная штука, как письмо. В день своего рождения (20 августа 1971 г. – Г.С.) я много думал о непрочности наших человеческих, литературных пьянок и плейбойских связей, о скудости нашей духовной жизни и о полнейшей самоизоляции даже в этой скудости.
Ведь мы же никогда не ведем друг с другом бесед на философские, религиозные, историко– (это слово я не разобрал. – Г.С.) темы. Ведем ли мы такие беседы сами с собой? Мы дико провинциальны, мы спокойно миримся с тем, что нас отрезали Иваны Иванычи от духовной жизни большого мира. Мы боимся стукачей, а надо, чтобы они нас боялись, и не потому, что мы какие-нибудь политики, а потому, что мы свободные люди.
Даже о своем ремесле мы почему-то перестали говорить друг с другом. Когда здесь Стас Красаускас (кстати, человек очень тонкого вкуса и понимания) завел со мной разговор о своей графике и вообще о путях искусства, я невольно поймал себя на мысли «да что это он, всерьез ли?».
Мы слишком легко, Жора, поддаемся капризам погоды и в заморозки спрятались в вонючий угол за печку».
Сам-то Аксенов, как мы знаем, не отсиживался в безопасных местах, потому-то его и выдавили из «страны стиппль-чезов».








