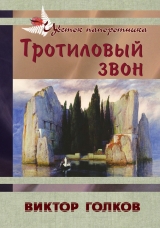
Текст книги "Тротиловый звон"
Автор книги: Виктор Голков
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Виктор Голков
Тротиловый звон
«Пожилые, о чем мы толкуем…»
Пожилые, о чем мы толкуем,
Заводя монотонный рассказ?
Мы о прошлом уже не тоскуем
И не копим его про запас.
Замерзаем под солнцем палящим,
Запиваем таблетки водой
И, как тени, скользим в настоящем,
Даже смерть не считая бедой.
«Как тучи, чувства отползут…»
Как тучи, чувства отползут,
Туман желаний растворится.
В холодном зале Страшный Суд
Не страшно, в общем-то, творится.
Смотрю в лицо моей зиме,
Она – седая совершенно –
Молчит задумчиво во тьме
И улыбается блаженно.
Пришла считать мои грехи,
Копаться в бесполезном хламе,
Трухе, где мертвые стихи
Вповалку с мертвыми делами.
«Если ты есть, отец…»
Если ты есть, отец,
Где-то среди сердец,
живших когда-то здесь,
Словом, если ты есть,
Сквозь эти мрак и тишь,
сможешь? – меня услышь.
Я расскажу тебе
Все о своей судьбе.
Я посылаю весть,
Что мне – пятьдесят шесть.
Вот я, почти старик,
Молча шепчу свой крик.
Я с тобой встречи жду
Где-то в раю, в аду,
Где обитаешь ты
В городе пустоты.
Значит, и мать жива,
Слышит мои слова
В царстве сплошного сна,
Где круглый год – весна.
«Шевельнулся в тебе абсолют…»
Шевельнулся в тебе абсолют,
Сквозь тебя поглядел по-иному,
Проскользнул по пространству сквозному
И рассыпался, словно салют.
Темных клеток таинственный люд
Не сумел починить хромосому.
И тебе, проходимцу босому,
О судьбе телеграмму пришлют.
«Я немного завидую мертвой кошке…»
Я немного завидую мертвой кошке –
Распластанной жертве автомобильного инцидента,
Прижавшейся окровавленной головой к асфальту.
Потому что живые всегда завидуют мертвым,
Чей жизненный цикл завершился так или иначе,
Поскольку им незачем больше бояться смерти,
Старости, болезней, одиночества, разлуки
И других неприятностей,
обусловленных процессом жизни.
«Станешь тонким, мертвым, белым…»
Станешь тонким, мертвым, белым,
Как окончится твой труд.
Жизнь, написанную мелом,
С гладкой досточки сотрут.
Ты искал в правописанье
Смысл, связующий слова.
Смерти тонкое касанье
Лишь предчувствовал едва.
Но познание наощупь,
Откровение вчерне,
Удивительней и проще,
Чем лежащее вовне.
Жизнь – конспект времен грядущих,
Новой эры перегной.
А душа витает в кущах
Над бессмыслицей земной.
«Философия дна – ни излишеств…»
Философия дна – ни излишеств,
Ни красот не приемлет она.
Чуждо напрочь знамение свыше
Философии дна.
Тяжело поводя плавниками,
Молчаливо глядят из окна
И беззубо сверкают очками
Обитатели дна.
Тишина. Только хрипы глухие,
Обжигающий свет.
Философия дна, ты – стихия
И последний ответ.
«Мы живем в невозможное время…»
Мы живем в невозможное время –
В роковой исторический час
Дико взвоет безумное племя,
И посыплются бомбы на нас.
Натурально, ведь мир – передышка
Между войнами. Пули визжат.
И застыла душа, как ледышка,
Только тонкие губы дрожат.
«Когда глаза откроешь ночью…»
Когда глаза откроешь ночью,
Горчат воспоминаний клочья;
Их спутанные многоточья
В мозгу свиваются в клубок.
Ты без толку косишься вбок
На луч, проткнувший потолок,
Желая, чтобы странных строк
Затихла трескотня сорочья.
«Пожалуй, я скобки закрою…»
Пожалуй, я скобки закрою,
Как крошки, смету со стола
Все шелесты и перебои
Той жизни, какая была.
Ведь вряд ли особую ценность
Она представляет собой,
Смешная моя откровенность,
Привычка делиться судьбой.
Послушай-ка – первопроходчик,
В забое глухом, как в гробу,
Иду между угольных строчек
С шахтёрскою лампой на лбу.
Ни звука, лишь только багровый
Мигающий отблеск огня
И грунта слой километровый,
От всех отделивший меня.
«Чувства, куда вы делись?..»
Чувства, куда вы делись?
Радость, любовь, весна ….
Призраки лишь расселись,
Вышедшие из сна.
Лица бледны их жутко,
Я не припомню всех.
Тени из промежутка
Сотни забытых вех.
Сам я не разбираю,
Что я им бормочу.
Только не набираю
Номер – и не кричу.
«Жизнь достаточно длинна…»
Жизнь достаточно длинна –
Только кажется короткой.
Как посмотришь из окна –
Закружит кривой походкой.
С важной миной гордеца,
Непреклонного вовеки.
Но предчувствие конца
Брезжит в каждом человеке.
Как мне быть? Не скажешь, Бог,
Для чего мне торопиться?..
В этот сказочный чертог
Я пришел судьбы напиться.
«Кончается прогулка в Никуда…»
Кончается прогулка в Никуда,
Дряхлеет оболочка понемногу.
А ты глядишь на черную дорогу
И на тупик по имени «беда».
Вела тебя бездумная звезда,
И вот – ты приволакиваешь ногу.
Ты рад любому мелкому предлогу
Забыть о прошлом. Если можно – да.
«Утонуть в этом море несложно…»
Утонуть в этом море несложно,
Где вокруг миллион голосов,
Задыхаясь, хрипит безнадежно,
Словно музыка старых часов.
Поселилась душа в Интернете –
Механическом царстве теней.
Потому что на жаркой планете
Ни один не припомнил о ней.
«Эта легкость старческая в теле…»
Эта легкость старческая в теле…
Ветерком над пропастью скользим.
Неизвестно, знаешь, в самом деле,
Сколько лет осталось или зим.
Застывают вечные вопросы
Тяжело, как гири на весах,
И слабеет гул многоголосый
Наверху, в холодных небесах.
«Я к смерти в Израиле ближе…»
Я к смерти в Израиле ближе
За то только, что еврей.
В Израиле Бога увижу
Сквозь запертых сотню дверей.
Как солнцем спаленные клочья,
Корнями спущусь в глубину,
В подземный Израиль – ко дну,
Оставив вверху многоточья.
«К истокам пора возвращаться…»
К истокам пора возвращаться
Видать, но привычка сильней
По той же орбите вращаться,
Где нет путеводных огней.
Виток за витком, ежечасно.
Опять, как и в те времена,
Слепая душа не согласна,
Что смысла не знает она.
«От удушающей жарищи…»
От удушающей жарищи
Душа спекается в комок.
Нельзя дышать, и трутся тыщи,
Жить вынуждены бок о бок.
Бок о бок – жуткая морока!
И, если ты не азиат,
Сойдешь с дистанции до срока,
Поскольку это вправду – ад.
Но мне порой почти приятно
Идти сквозь эвкалиптов строй,
Чья жизнь застыла, вероятно,
Внутри, под выжженной корой,
Смотреть на кустики кривые
И жарких кипарисов ряд.
Здесь наши корни родовые,
И камни правду говорят.
«Когда, старея понемногу…»
Когда, старея понемногу,
Все те же диспуты ведут:
Кто ярче жил, кто ближе к богу –
Минуты у себя крадут.
Тропа теряется во мраке,
Неважно, как тебя зовут.
Живи как бабочки, как маки,
Как птицы на земле живут.
«Здесь проплывал корабль этрусский…»
Здесь проплывал корабль этрусский,
В песках тонули города.
Бессмысленно писать по-русски,
Но я живу здесь, господа!
Уничтожает души лето,
Слепит песчаная слюда.
Пустое место для поэта,
Но я живу здесь, господа!
«Пятьдесят с небольшим. Все пропало…»
Пятьдесят с небольшим. Все пропало,
Только гладкое светится дно.
Даже слово себя исчерпало –
Не касается смысла оно.
Новый день, что гремит как коробка,
Безразлично в пространстве верчу,
И сама наполняется стопка.
Можно выпить, но я не хочу.
«Вкус тоски узнаю сразу…»
Вкус тоски узнаю сразу, мятный, словно леденец,
И тошнотный привкус страха, что бывает по ночам.
И железный вкус разлуки, черным машущей крылом,
Боли вкус, лишенный вкуса, в мозг вгоняющий иглу.
Все что мимо промелькнуло, все чем я сейчас живу,
Все, что память сохранила, как озерная вода.
В час, когда приходит полдень, и отчетлив каждый блик –
Вереница ощущений, составляющих меня.
«Паучья тень, языковая дрожь…»
Паучья тень, языковая дрожь…
Проснувшись ночью, сердца не найдешь.
Застыла боль в глазах у старика,
но тонкий голос пересек века.
Я знал его, мы говорили с ним,
Дышали долго воздухом одним.
Осталось имя где-нибудь вовне.
В последний раз мы виделись во сне.
«Том забытый пролистал…»
Том забытый пролистал,
Древних слов коснулся взглядом,
Словно ночью пролетал
Я над майским их парадом.
А они ушли, ушли,
Друг на друга не похожи,
И поют из-под земли
Хором – Господи, мой Боже…
«Если ты обитаешь от Азии невдалеке…»
Если ты обитаешь от Азии невдалеке –
Указательный палец почаще держи на курке,
Чтоб верней был прицел, хотя отроду ты – филантроп.
Здесь давно не работает метод ошибок и проб.
Здесь, как в джунглях, приемлют один только древний обряд,
И глаза налитые бессмысленной злобой горят,
Чтобы, тихо подкравшись, вонзить тебе в горло клыки,
И дрожат, как пружины, на черных щеках желваки.
Потому-то, приятель, скорей передерни затвор –
Это первое; дальше – ни с кем не вступай в разговор.
Так как нет в этом смысла, одни только глупость и вздор.
И внимателен будь, когда в черный войдешь коридор.
«Постепенно привык к новым лицам…»
Постепенно привык к новым лицам,
Погрузился в какую-то тьму,
И уже кочевать по больницам
Не казалось ужасным ему.
Тошноту вызывающий йода
Запах мучил лишь в первые дни.
И тогда ж затерялась свобода –
Где-то в складках его простыни.
Может, он и родился на свете,
Чтоб, сойдя с этой койки на пол,
Окунув ноги в шлепанцы эти,
Семь шагов до клозета прошел?
И на мир, пополам разделенный
Поперечиной рамы двойной,
Сквозь квадрат бы косился оконный
Ржавой осенью, летом, весной…
«Мой организм, моя страна…»
Мой организм, моя страна,
Где темные блуждают силы…
Гудит мотор, и вьются жилы,
И сердца тенькает струна.
Моя страна, мой организм,
Хрипящий глухо, как пластинка…
Кто заведет твой механизм,
Когда сломается пружинка?
Никто. И если есть предел,
Тебе положенный судьбою,
И если вдруг водораздел
Пролег меж всеми и тобою,
Хоть сотню ангелов зови
С таблетками и кислородом,
Как кесарь, поплывешь в крови,
низложен собственным народом.
«В эту ночь, когда ещё далеко до рассвета…»
В эту ночь, когда ещё далеко до рассвета,
я лежу и слушаю дробь дождевую.
Дождь шагает, скользя по мокрому парапету,
и срываясь, ударяется о булыжную мостовую.
И я вздрагиваю при каждой короткой вспышке,
после которой темноты становится больше.
И мне кажется, что один я в этом городишке,
где-то неподалёку от Румынии и от Польши.
И душа моя скрывается под оболочкой,
уходит в тень, как за кулисы артистка.
Уснуть, забыться, поставить точку,
покуда рассвет ещё не близко.
«Погасли краски наверху….»
Погасли краски наверху.
За час стемнело, лишь под утро
В окне зашевелился мутный
Огонь – сквозь снежную труху.
А между небом и стеклом
Чернели тощие отрепья
Кустов, носился смерч над степью,
Покрытой белым полотном.
Серебряный водоворот
Ворочался между снегами,
Покуда вьюга сапогами
Весь мир вколачивала в лед.
«Сползает вниз трава с откоса…»
Сползает вниз трава с откоса,
Свалялся клочьями бурьян.
Распарывают грязь колеса –
Скрещенье двух борозд, двух ран.
Возможно, след свой оставляет
Мое дыхание, мой взгляд
И мысль, которая петляет,
Стремясь куда-то наугад.
Ведь есть мучительное чудо
В любом ничтожном пустяке,
И я тоску свою избуду
С дырой, просверленной в виске.
И с новой легкостью нездешней
В цветущем яростно саду
Под белой ласковой черешней
В обнимку с женщиной пройду.
«Неужели когда-нибудь кончится эта зима?…»
Неужели когда-нибудь кончится эта зима?
Дотянуть до весны – для меня не простая задача.
Наклонились стволы, ледяную бессонницу пряча,
И раздувшись как бочки, в снегу утопают дома.
Я, скрипя сапогами, по черной дороге иду.
Мерзнут руки и ноги, как будто все тело промерзло.
Начинает казаться – когда-то, в каком-то году
Я вот так уже брел, намотав себе тряпку на горло.
Так же слабо и холодно звезды светили тогда,
И со свистом прерывисто в ночь вырывалось дыханье,
И мигал светофор, как большая тройная звезда,
Для которой еще не придумано нами названье.
«Не чувствуется близости весны…»
Не чувствуется близости весны…
Растущие к поверхности наклонно,
Деревья видят радужные сны.
Дрожат огни, горящие бессонно.
Под желтой пеной ржавая вода
Покуда не больна рассветом первым.
Забвение, прострация, когда
Не шевелятся ни единым нервом.
Как тяжело прощается зима!
Пласты туманные слипаются все гуще.
Часы исторгнуты, и каждый блик бегущий
Костлявым пальцем выковыривает тьма.
«Нет романтики в помине…»
Нет романтики в помине,
Только страхи, как всегда.
Мысли о семье, о сыне,
О войне – итак, когда?
Ждать, конечно, не заставит,
Жуткая, как в старину.
Важно, кто сейчас возглавит
Нашу смутную страну,
И куда свернет ведущий
За собой свою родню –
В рай, таинственные кущи,
Иль на адскую стерню.
Иосифу Раухвергеру
1
Что-то стали люди исчезать…
Пропадает все, что с нами было.
Мертвый друг не выйдет из могилы,
Чтобы о себе порассказать.
Мой ровесник, старый эмигрант.
Современник – наше поколенье,
Замаячит где-то в отдаленье,
Пустоты таинственный гарант.
Жизнь в конце – желаний дефицит,
В дальней полке желтые бумаги.
Тишина, как заполночь в овраге,
И судьба, черней чем антрацит.
2
Задернулись черные шторы,
Как мог бы сказать Басё…
Исчез человек, который
Знал абсолютно всё.
Отодвинулся на расстоянье,
Какое не преодолеть.
Осталось сплошное зиянье,
И хочется околеть.
Кипарисы персты простерли
Над каменной клеткой его.
Слова застревают в горле,
А более – ничего.
3
Выходит, он приговорен,
А я стою в толпе безликой
И наблюдаю, как сквозь сон,
За процедурой казни дикой.
Но размышляю о себе –
О смысле жизни и старенье.
И пот, ползущий по губе,
Противнее, чем несваренье.
4
Конец поездкам в Абу-Гош
И разговорам задушевным.
Когда ты под гору идешь
И жаром опален полдневным.
Его уводят на допрос,
И объявленье приговора.
И пятна черные вразброс
Рассыпались вдоль коридора.
«Я на старости лет перестал говорить…»
Я на старости лет перестал говорить,
Мной забыто великое слово «творить»,
И смотрю я в оконную щелку,
На земле существуя без толку.
Это дело нелегкое – жить налегке
Без стихов сокровенных в твоем узелке
И смотреть безучастно наружу –
Мир без творчества, стал ли он хуже?
Но по узкой тропинке в ничто уходя,
От природы, от пекла ее и дождя,
Вспоминать о себе перестану,
Потому что в бессмертие кану.
«Смысл разлуки – его не понять…»
Смысл разлуки – его не понять.
Остается на веру принять
В мире случая, боли, греха
Покаянную сущность стиха.
Он шуршит, словно дождь в темноте.
Правда Родины в тонком листе.
От нее оторваться, уйти –
Значит, жизнь к прозябанью свести.
Расставание, бред старика…
И выводит прощально рука
Иероглиф, зажатый в строке…
И прохлада в ночном ветерке.
«Шорох Родины влажный…»
Шорох Родины влажный
И акации в ряд.
Город пятиэтажный,
Где огни не горят.
Только лица другие,
И повадка не та.
И дымок ностальгии
Проплывает у рта.
Я сюда приезжаю
По причине одной:
Чтоб судьба, мне чужая,
Прикоснулась к родной.
«Наша задача – слепить народ…»
Наша задача – слепить народ
Из сотен колен его,
Алчных до дури, слепых как крот,
В угрюмое большинство.
Был он ничтожным и прел в грязи
Африк или Европ.
Станет народом ашкенази,
Сефард и эфиоп.
Черный и желтый, и белый он
Сквозь непроглядный мрак
Шаг свой чеканит, как батальон,
В вечность или в овраг.
Вымарать блеск золотых святынь
Эта судьба должна.
В жаркой молитве, среди пустынь,
Народ и его страна.
«Израиль – форма цвета хаки…»
Израиль – форма цвета хаки,
Клочок прибрежной полосы.
Грузины, русские, поляки,
Йеменцы, турки, индусы.
И лишь знакомой нам пилотки
Здесь не увидишь ни на ком,
И разноцветные красотки
Идут на службу босиком.
И окопавшийся в окопе,
К войне готовится феллах.
Рожают больше, чем в Европе,
И молятся на всех углах.
«Неизвестный Кишинев…»
Неизвестный Кишинев –
Странные, чужие взгляды.
Он воскрес из мертвецов
И восстал после распада.
Ни знакомых, ни родни,
Ни товарищей по школе,
Только тополи одни
Светятся в своем раздолье.
И до глупости близка
Та же ржавая калитка.
И скребется у виска
Счастье – слабая попытка.
«Умолкла музыка, дрожат кусты, раздеты…»
Умолкла музыка, дрожат кусты, раздеты.
Дымок таинственный последней сигареты
Растаял в воздухе и хочется вздохнуть
Об обстоятельствах, которых не вернуть.
О том, что жизнь прошла – пустяк, несчастный случай,
И лист ноябрьский колотится в падучей.
В той старой улочке, нет, в переулке том,
Где только домики, просевшие гуртом.
В пространстве, намертво прикованном к предметам,
Где под акацией прохладно было летом.
Году в каком-нибудь, а впрочем, ни в каком,
Лишь отсвет розовый над ржавым косяком.
«Желание жить на земле…»
Желание жить на земле,
Привычка дышать кислородом.
Молчание вслед за разбродом
И спячка глухая во мгле.
Я лиц не припомню родных –
Все больше случайные даты.
Душа, изнываешь всегда ты,
Без праздников и выходных.
«Это в общем-то, очень приятно…»
Это в общем-то, очень приятно,
Что уже не болит голова.
Только вот – пустота необъятна
И бессмысленны наши слова.
Лишь душа воспарит бессловесно,
Излучая таинственный свет.
В никуда поднимаясь отвесно
И сквозь вечность скользя, как корвет.
«Я смотрю – эвкалипт утомленный…»
Я смотрю – эвкалипт утомленный
Золотистый песчаник пророс.
Как он выжил здесь? – это вопрос.
Но измучился, вечно зеленый.
В обрамлении чахлой листвы
Не способен отбрасывать тени.
Всех ненужней, бессильней, блаженней,
Всех угрюмей в кругу синевы.
«Все так или иначе…»
Все так или иначе
Устроится, ведь так?
Забыв о неудаче,
На пять минут приляг.
Не рассуждать попробуй,
Не создавай проблем.
Твой век высоколобый
Уходит насовсем.
Пробел оставив гулкий
И след на вираже.
Да сон о переулке,
Где не живут уже.
«Я из секты затворников…»
Я из секты затворников.
Ценит все мой мирок
По количеству сборников
И прозрачности строк.
Мир изящной словесности,
Где пророчит любой,
Холодок неизвестности
Замыкая собой.
Слово тоже оружие,
Хоть бесплотный ручей.
А у глаз полукружия
От бессонных ночей.
«Вокруг меня вещи без счета и меры…»
Вокруг меня вещи без счета и меры,
Понятно, ведь я их люблю.
И сам я, по логике смысла и веры,
Немного сродни королю.
Но голос пророческий, звонко-высокий,
Что душу мне рвал на куски,
В ночи перестал диктовать свои строки.
И вот – ни единой строки.
«Если проповедь внезапная донеслась…»
Если проповедь внезапная донеслась
Из окна какого-то этажа,
Ей на милость мгновенно душа сдалась,
По квадратной каморке своей кружа.
Но, скорее всего, позабыл проповедник,
Свой примерив сюртук, подойти к окну.
Нет прозрения. Меж пустотой посредник
И бессоницей, тихо иду ко дну.
«Заставляешь, а не просишь…»
Заставляешь, а не просишь
Смесь горючую вдыхать.
Ты меня под корень косишь –
Ничего не услыхать.
Суетливый и прилежный,
В счастье смысла не ища,
Я ловлю твой взгляд небрежный
Из-под черного плаща.
Я зову судьбу иную
И над крышами лечу.
Повесть горькую земную
Слушать больше не хочу.
Смерти факт опровергая,
Брезжит правда бытия.
Я уверен – жизнь другая
Будет лучше, чем моя.
«Идешь за звездой путеводной…»
Идешь за звездой путеводной,
А мысли построились в ряд.
Они в простоте первородной
О жизни твоей говорят.
В том царстве, где гулко и сине,
И страхи за каждым углом,
Живешь в толчее, как в трясине,
В пространстве меж явью и злом.
Там веруют в силу хамсина
И желтую кривду песка.
И жесткой травы парусина
Погост прикрывает слегка.
«Мой словарь истощился порядком…»
Мой словарь истощился порядком,
Там не не стоит искать новизны.
Расплескались по пыльным тетрадкам
Стихотворно воспетые сны.
Но, возможно, еще пригодятся,
Чтоб какой-нибудь старый дружок,
Чьим талантом в народе гордятся,
Протрубил в свой победный рожок.
Ну а я? Несущественно, впрочем,
Если творчество – суть дубликат.
И оскалился стих многоточьем,
Отдаваясь в бессрочный прокат.
«Есть свобода суицида…»
Есть свобода суицида,
Близкой вечности завет.
Если я на волю выйду,
Я увижу яркий свет.
Воля – тонкая граница,
За которой сон исчез.
Только желтая страница
Да извилистый разрез.
Только шелест яблонь спелых
Ощутимее стократ.
Облаков молочно-белых
Выше перистый парад.
«Время – щелчок и готово…»
Время – щелчок и готово,
Только кивнул головой.
Вместо того, обжитого,
Мир совершенно не твой.
Вряд ли себя распознаешь
В скучном, почти пожилом.
Так для чего вспоминаешь,
Сидя за черным столом?
«Год или неделю…»
Год или неделю
Скучный праздник длится.
От его похмелья
Тянет застрелиться.
Росписью наскальной
На исходе лет
В пустоте фокальной
Вспыхнет Интернет.
Чтобы варвар новый
Освежился знаньем,
А листок кленовый
Стал воспоминаньем.
Формула, иль случай,
Или все едино
Вечности дремучей
Без Отца и Сына.
«Если дна достигаешь, приходится с этим смириться…»
Если дна достигаешь, приходится с этим смириться.
Ты как будто на Марсе – один абсолютно, и вот,
Не вполне понимая, зачем это дело творится,
Пожелтевшие пальцы кладешь на распухший живот.
Как осенняя слякоть, реальность тебя обступила,
И ты понял внезапно, что все твои чувства – вранье.
А вещественна только твой мир захлестнувшая сила,
Тот практический смысл, что вложило в тебя бытие.
Вся вселенская дурь на твоем поместилась диване.
И пополз по предметам прозрачный и пристальный свет.
В разреженном пространстве, как будто в глубокой нирване,
Наизусть ты читаешь пронзительный Ветхий Завет.








