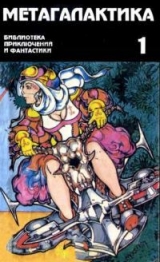
Текст книги "Мой муж был летчик-испытатель"
Автор книги: Виктор Потанин
Жанр:
Повесть
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
Никогда… Какое тяжелое, грустное слово. А небо, наоборот, какое легкое и светлое, какое синее и певучее… Да, видно, оно не про нас… Ах, небо, небо! Я любил это небо даже в самые глухие, в самые беспросветные зимние ночи, когда за окном земля трещит от мороза, когда даже собаки забираются далеко в конуру и не подают признаков жизни… Но я-то! О, Господи… Выбежишь ночью по малой нужде на крылечко и сразу уставишься в вышину и замрешь, не замечая мороза. А звезды там шевелятся, сияют и тают, как будто одна звезда переходит в другую, как будто их гонит по небу чья-то могучая и огромная сила… И ты стоишь в одной нательной рубашке, но нет сил оторваться от этого голубого сияния, которое зовет тебя, приглашает, – а куда, а зачем? Но не нужно ответа, не нужно, ведь тебе все равно хорошо и чудесно, ведь все равно ничто не может сравниться с этим сиянием и никто не может остановить этот таинственный зов… Но может быть, все это от Бога? Ну конечно, от Бога. От него одного… И потому смешны все наши материалисты, которые тысячи лет свергают творца с его трона, да так и не могут свергнуть. Он даже как бы смеется над ними, но не только смеется, но и плачет, страдает за всех за нас, таких грешных и глупых. «О, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими и отвращайтесь от зла и прилепляйтесь к добру…» – говорят нам его ученики, а мы их слушаем, но ничего не исполняем. Да и как прилепляться, как? Вот только что телефон доверия спросил меня – много ли я написал страничек, не дошел ли уже до вершины? А я уклонился от ответа и свернул разговор. А сейчас напишу твердой рукой и признаюсь – нет, я еще не дошел, я не скоро еще дойду. Хотя именно в тот день, в который зашла к нам тетя Тоня, и приехал в деревню Миша Салазкин. Я боюсь описания этой встречи, Николай Николаевич. Я боюсь, потому что с нее и началось мое смятение. Это как вешняя вода, как наводнение, и я барахтаюсь в нем и молю о спасении. Но голос мой никому не нужен, и вскоре он истончается, пропадает. Я начинаю писать, водить ладонью по листу бумаги, но это по какой-то инерции, по привычке. Потому что знаю и понимаю, что если перестану писать, то мне будет еще хуже… Ведь именно в тот день и приехал Миша Салазкин.
Я знал, что он приедет, и потому нисколько не удивился. Правда, мне всегда тяжело, неуютно, когда встречаюсь с друзьями детства. Они к тебе с душой, с разговорами, а ты холоден и безразличен. Как бревно какое-то. И ничем не переломить себя, не настроить. Да и как же иначе, если все уже позади, если в двадцать лет, а тем более в тридцать мы уже совсем другие, а от тебя требуют чего-то прежнего, каких-то детских восторгов – ах, ах, как я счастлив, что наконец-то встретились… Так же и со мной. Я увидел его еще издали и сразу узнал, несмотря на его странную, вызывающую одежду. На нем была ярко-красная рубашка необычного покроя и светлые, почти голубые, джинсы. Ну и ну! – промелькнула ирония, а потом я вспомнил: да он же артист! Модный певец… А через секунду мы уже троекратно облобызались:
– Ну старик! – без конца повторял я. – Дай поглядеть на тебя хорошенько! Такой же красавец, как и был! Душка и щеголь… Служишь где? Дослужился?
– Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год и Станислава имею… – продолжал он в том же духе, и мы еще раз обнялись. И странное дело, у меня вышло это искренне, но первому порыву. Видимо, у меня к нему еще что-то осталось. Все-таки школьные годы – самые хорошие годы. А потом он пошел со мной рядом, и я краем глаза косился на его чисто выбритый подбородок, на его ласково сияющие глаза. Я не мог понять, какого они цвета, да и мешала его улыбка. Темные густые ресницы все время скрывали глаза. Мы ведь ровесники, но он выглядел рядом со мной младшим братом, а может, и сыном. Видно, жизненный тонус у него был все же выше. А он без умолку все говорил, говорил:
– А я ведь у вас на гастролях. Вчера сидел в городской гостинице, а сегодня не вынес – поехал к тетке. Ты ведь знаешь ее?
– Знаю, конечно… У тебя тут и родные могилки остались.
– Остались, старичок, остались, потому и душа к вам просится.
Но тут я не выдержал и перебил:
– Ты почему не меняешься? Мальчишка какой-то, и нет солидности. А я уж думал, что тебе народного дали и до тебя не достучишься, как до Аллы Борисовны. «Лето, ах лето…» – пропел я намеренно дурным, срывающимся фальцетом и вдруг неожиданно спросил у него:
– Послушай, ты завтра здесь еще будешь? Ну, вечером, например?
– Завтра еще буду. А зачем тебе? Помочь какие-нибудь ворота поднять или баньку сложить? Вы что, тут каждое лето живете?
– Угадал. Каждое лето здесь коровушек кормим, а они за это – парное молочко… – неуклюже пошутил я и сразу решил замять свою шутку: – Давай оставайся. Освободим веранду, втащим туда кровать – вот и живи! Чем не Пицунда!
Он ничего не ответил, только рассеянно улыбнулся и напомнил:
– Ты намекнул о какой-то просьбе или раздумал?
– Да, да! – спохватился я. – Но ты ж все равно откажешь.
– Откажу обязательно. Если десять тысяч попросишь – откажу. И еще оскорблять начну – нахал, мол, надо самому зарабатывать…
– Нет, я не о деньгах. О человеке я… Понимаешь, здесь живет одна молодая женщина – инвалид по всем статьям. Ты ее вряд ли знаешь. Тетка знает. Фамилия Черняева. В общем, Вера Черняева…
– А я немного слышал. Тетка рассказывала. Муж, говорит, у нее был летчик-испытатель. – Он хмыкнул и как-то загадочно улыбнулся. И после этой улыбки мне стало больно:
– А ты не смейся. Она совершенно несчастна. Давай побываем у нее, порадуем…
– Ага, влюбился, значит? – Он хлопнул меня по плечу и добродушно засмеялся.
– Нет, Мишенька, я не о том. Ты, кстати, завел семью?
– Уж не в женихи ли прочишь? Так вот: не завел еще и не заведу. Я свободный артист! Я как моряк! «По морям, морям, морям, морям…» – начал напевать он, но я его быстро перебил:
– А ты не уходи от ответа. Давай все-таки побываем у нее, посидим. А ты, может быть, что-то и споешь?
– Благотворительный концерт, что ли?
– Не совсем так, старичок, даже вовсе не так. Надо просто отвлечь человека от будней, от горя.
– И вот ты нашел Робин Гуда, в общем, меня…
– Как хочешь! – Опять во мне поднялась обида, но он возмутился:
– Да ты что – сразу в штопор. Да пойдем мы к твоей Вере, пойдем. И поставим на этом точку, и успокойся.
– Но ты понимаешь… – начал я осторожно и замолчал. Теперь уже он начал смотреть на меня выжидательно. И я продолжил:
– Понимаешь, ты должен знать: эта девушка утверждает, что ее недавно поднимали в небо какие-то существа. Одним словом, я даже боюсь выговаривать, но есть здесь какая-то тайна, потому и боюсь…
– Володька, брось свои хохмочки, а то я никуда не пойду.
– Да нет же, Миша, это правда. Она сидела на крыльце со своей собачкой, и вдруг над ними завис огненный шар, и их потянуло вверх, и они поднялись…
– Ох ты, хороший мой! – Миша захохотал. – Прилетел, значит, огненный змей и унес с собою Верочку, и с тех пора она на небесах!
Я промолчал. И тогда он опять крепко сжал мне плечо:
– Да брось ты дуться. Завтра пойдем к твоей Вере и устроим концерт. Значит, говоришь, она возносилась, значит, так? Я не ослышался? А может, она верующая, эта Черняева?..
– А вот это нас с тобой не касается.
А потом мы еще о чем-то поговорили и разошлись. И всю эту ночь я не спал и думал о Боге… Но надо ли об этом писать… Надо ли, Николай Николаевич? Вот я вспоминаю сейчас про Бога, а сам не имею права. Ведь многие годы я жил совсем без него, а сейчас, когда плохо мне, сразу и вспомнил. Но ведь это тоже грех – вспоминать, когда выгодно… Может быть, самый большой, неизбывный грех. Разве не так?.. Ну разве хорошо, что я решил разгадать тайну той девушки, разве можно в чью-то душу без спроса?.. Ведь это же любопытство – и это великий грех. А разве не грех, Николай Николаевич? Я и друга своего заразил любопытством, – и в этом тоже мой грех… Да, да, я нарушил святая святых, потому что решил без спроса заглянуть в чужую душу, в больную душу с изломом. И в этом боль моя и мое несчастье… Да, да, мой главный грех в том, что я решил заглянуть за грань, за ту грань, за которой может быть смерть, а может и надежда. Я-то сначала и искал эту надежду, этот светлый облегчающий лучик… Ну как вам лучше сказать об этом. Вы помните в детстве, как нам хотелось встать, приподняться на цыпочках и рассмотреть – что же там, за дальним леском, за тем желтым пшеничным полем, за теми белыми перистыми облаками – что же там, что же там? Вот так же и я хотел посмотреть – что же там, на самом донышке души у Веры Черняевой? Я ведь хотел ей дать надежду и радость, а привел к ней смерть. А все потому, что мне показалось, будто намерение делать добро уже есть само добро, но я ошибся… Я ошибся, Николай Николаевич, но я не один такой, я не один. Вон в колхозе все работают коллективно и даже по уставу обязаны помогать друг другу, но из этой помощи выходит только несчастье. Все вроде бы помогают друг другу, а в результате – несчастье. Так в чем же дело? В чем драма этих людей, в чем причина?.. И сейчас я ловлю себя на том, что мне снова хочется позвонить вам, услышать ваш голос, и, чтоб не терзаться, я снимаю телефонную трубку.
– Это вы, Николай Николаевич?
– Да. Только говорите короче – через десять минут заканчивается мое дежурство. Кстати, голос ваш мне знаком. Это Владимир Иванович?
– Да, это я.
– Вот и прекрасно, что позвонили. Кроме вашего письменного сообщения мне нужен и ваш голос Очень нужен.
– А почему? – Я от души рассмеялся. – Голос у меня обыкновенный, а может, вы шутите?
– Нет, нет и нет. В голосах-то часто и вся причина. Не понимаете? Поясню. Только как бы попроще? Ну хорошо: все голоса наши строго индивидуальны, как дактилоскопические узоры на пальцах, как состав крови или волос. И если вы в чем-то виновны, в чем-то, как говорится, согрешили или таите в себе этот грех… Одним словом, все это скажется на вашем голосе. Непременно и обязательно. Появится тот самый оттенок, мазок, полутон, который сразу же будет заметен специалисту. Может быть, мы сделаем так: я наложу ваш голос – он у меня на пленке… Вы слышите меня? Так вот, я наложу голос на ваши письменные записи, и тогда все прояснится. А пока скажу вам, признаюсь, хоть я и не обязан отчитываться, что вы для меня сейчас как бы человек наоборот. И выслушайте меня внимательно: психология считает, что сон – это разгрузка нейронов мозга от излишней информации, а у вас сон – это дополнительная интенсивная нагрузка. Получается так, Владимир Иванович, что я сейчас поставлен в тупик. Я не могу объяснить вас самому себе, в чем и признаюсь. Но я не опускаю руки, и вы должны мне помочь.
– Но я же не виноват, что эта девушка приходит ко мне и во сне. И сразу начинает говорить, и очень явно так, как будто сидит рядом с кроватью.
– Ну это понятно, Владимир Иванович. В период сна в вашем сознании могут появляться не только образы и картины, но может рождаться даже слуховая галлюцинация, приходит решение, отгадка каких-то сложных проблем и задач. И такое бывает с большинством людей, но вы-то слышите меня? – вы-то, может быть, меньшинство. Впрочем, об этом еще рано. Я сам и наш общий консилиум обязательно решим, куда вас все-таки отнести – к большинству или к меньшинству.
После его последних слов я рассмеялся: – И вам это под силу?
– А как же! Наш телефон доверия ничуть не хуже западных аналогов. А в смысле глубины и дотошности мы их, видимо, превосходим. И последнее – хочу задать вам еще вопрос: как выглядит ваша девушка?.. Ну хорошо, уточняю. Скажите, как она вам представляется? Во плоти ли, надеюсь, вы меня понимаете? И эротические сны у вас, конечно, бывали?.. Так вот – она что к вам, пардон, прямо в постельку ныряет или же она неосязаема, бестелесна? Или же парит над вами, как птица? Как чаечка!
– Нет, – сказал я сдавленным голосом и проглотил комок в горле. У меня заболело сердце: ну зачем же он произнес это «чаечка» – мое самое родное, самое близкое слово. Но углубиться в себя он мне не позволил. Трубка ожила, и я вздрогнул. А она напомнила:
– Ваша Вера, значит, погибла? А если так, то позвольте заметить: некоторые источники утверждают, что души умерших выглядят почти как живые, только они очень прозрачны и как бы парят над землей…
– Но при чем тут души умерших?! Я же вам объясняю, что у меня по-другому: эта девушка реально сидит как бы рядом со мной и на ней белое платье. Да, да, я утверждаю, что я помню цвет этого платья, а по рукавам на нем – какие-то цветочки. Они, знаете, очень синие, какие-то детские, как бы нарисованные цветочки.
Цветочки, значит, нарисованные, Владимир Иванович? И если я сейчас спрошу вас, какие-то были цветочки, то ли васильки, то ли незабудки, то ли еще что-нибудь, да, если спрошу… то вы же мне не ответите, потому что эти цветочки как бы без формы, без запаха, ведь так же, так?! Всего лишь символ, идеализм, неземное? Ага, молчите, значит, я угадал? А самое главное, если я спрошу вас, как вы осязаете эту девушку в своем сне, забытьи то есть, чувствуете ли вы ее физически… ну, все запахи ее, веяние, ветерок, который должен, просто обязан идти от ее дыхания, то вы мне, бьюсь об заклад, не ответите.
– Нет, отвечу. И подробно отвечу! – Мой голос отчего-то усилился, я не смог унять раздражение. И он сразу же заметил:
– А вы голос не повышайте. Уменье выслушивать дорого стоит.
– Спасибо, что разъяснили. Но я могу, повторяю вам, я могу точно сейчас описать все эти цвета, эти запахи…
– Нет, нет, не верю! Это вы на себя много берете. Я точно знаю, что наговариваете. – Теперь уж пришла его очередь повышать голос и нервничать. Телефонная трубка кричала: – Логика великих умов на моей стороне! Вам нужны доказательства? Их сотни и тысячи. Книги, статьи, мемуары. И Платон, и Кант… Но что вам Платон, если вы стараетесь показаться мне реалистом, но так же не бывает. Нет, трижды нет! Впрочем, мы с вами вроде бы начинаем ругаться, а это…
– А это недопустимо, – добавил я. – И вы простите меня, я злоупотребляю вашим терпением, у вас же закончилось дежурство.
– Я-то прощу, – вздохнула телефонная трубка. – Но нельзя же всегда ускользать и раздваиваться. Вот вы, например… Я только-только начал что-то нащупывать, а вы бьете себя в грудь и от всего отрекаетесь. Но неужели лучше в пистолетное дуло глядеть или принимать на ночь сорок таблеток снотворного, чем логически, шаг за шагом, с моей помощью разобраться в себе? Говоря проще, покайтесь, Владимир Иванович, и с вас спадут все вериги. Покайтесь, и станете спать спокойно, и сами будете летать во сне, как голубок… Пора понять – любое покаяние приносит свободу. Конечно же, вы увлеклись той девушкой – она в чем-то, наверное, ваш идеал, ваша тайна… И вот погиб идеал – так найдите же поскорее другой. Вы понимаете – идеалов столько же, сколько молекул… – Трубка обдала меня частым, запаленным дыханием. Трубка волновалась и нервничала, но почему? И я спросил напрямик:
– А почему вы-то волнуетесь? У меня такое впечатление, что вы неоднократно уже избавлялись от своих идеалов, иначе бы мне такое не советовали.
– Вам не стыдно? Я еще раз говорю вам – не стыдно ли говорить такое? Я прежде всего – психоаналитик, а потом уже человек. И поймите, зарубите себе на носу: царство божие внутри нас – разве не так? А за другими идеалами я не гоняюсь.
– Вы же в Бога не верите, Николай Николаевич.
– А вот это не ваше дело!.. Ну хорошо, не будем на этих тонах. Я вижу, что вы взволнованы, и я тоже разволновался. А что касается идеалов, то не ловите меня на слове. Сейчас знаете сколько их, перевертышей. Вначале партии клялись, а теперь ту же партию обличают… Но я таких не осуждаю, я их жалею. Только мой идеал другой. Душевное спокойствие – мой идеал. Вот и вам такое советую. Я понимаю, что его нет у вас, но не огорчайтесь, не плачьте в подушку. Этого спокойствия нет и у миллионов людей. Только в данном случае что мне до этих миллионов, если ко мне обратились именно вы. И я выполню свою работу добросовестно. Вы чувствуете, что я даже трачу на вас свое личное время. Я давно должен сдать дежурство, но я психолог, и мое ружье все время заряжено, и взведен курок…
– Простите, Николай Николаевич, я вас задержал.
– Ну что вы все время просите прощения? Может, и прощать-то вас не за что. Вот напишите свои отчеты, а там уж… Впрочем, я уже давно догадался, что происходит с вами, но пока не скажу. Да и вообще, вы правы, мы долго уже держим телефон, а может быть, у кого-то беда.
– Простите меня…
– Ах, ах, снова «простите». Интересный вы человек. Иногда мне даже кажется, что это не я вас, а вы меня изучаете и пытаете. Это так, сознавайтесь?
– Ну что вы!
– «Ах что вы, что вы, мамочка, я не виновата» – так говорили гимназистки-девчонки в прошлом веке, когда их заставали с каким-нибудь поручиком или заезжим актером… Одним словом, Владимир Иванович, давайте бросим все недомолвки, и запомните, что я реалист. Я человек твердых убеждений и этим горжусь… И еще – я знаю, куда надо идти, за что бороться. Ха-ха! Вы думаете, это громкие слова? Нет, дорогой мой, я очень серьезно, и будущее за нами. – В трубке опять самодовольно хмыкнули и через секунду раздался уверенный голосок: – Да-да, дорогой мой, поставьте нас, психологов, во главе общества, и мы легко наведем порядок. Хоть это и нелегко, а? Что молчите? Или согласны? Вот все сейчас стремятся под нашу обивку сделать американскую подошву, а ведь это большая спешка – или не так?.. И опять вы молчите, а я знаю за вас. А я знаю и утверждаю, что вначале нужно подчистить щеточкой наш кондовый идеализм да выбить пыль из наших стареньких полушубков, а потом уж… Но это предварительная работа – тоже на годы. Ну что вы молчите? С вами стало трудно говорить – вы как будто стенографируете меня или записываете на пленку. Запишете, значит, а потом отнесете куда-нибудь, ха-ха…
– Меня пугает ваша уверенность в себе. Вы все знаете, Николай Николаевич, а мы, значит, темные, дети гор… – опять неуклюже пошутил я и замолчал. А он и не думал молчать:
– Что значит «пугает», Владимир Иванович? Это же все чувства, эмоции, пена с волны. А имеем ли мы на это право – вы не подумали? Впрочем, для вас это даже простительно. Я не сложно говорю? Ну вот вы, например, живете все время чувствами, вы даже во сне бредите, слышите какие-то призывы. Для одного человека это простительно, но если так живут тысячи, миллионы – это же кошмар какой-то и хаос! Это какая-то варфоломеевская ночь получается или настоящий Везувий. А вы знаете, кстати, что было после той ночи? Молчите, потому что душа ваша важнее вам всего и дороже жизни этих всех тысяч и миллионов… Ну что же, попробуем сберечь вашу драгоценную душу, по крайней мере почистим дымоход от сажи. Но ведь осиновые дрова понадобятся, Владимир Иванович…
– О чем вы?
– А все о том, что для дымоходов очень полезны осиновые дрова. Да-да, очень хорошо прочищают от сажи.
– У вас плохое настроение, Николай Николаевич? Я чувствую, как гудят ваши нервы, и я, конечно, виновник. Задержал вас, вовлек…
– Да нет же. – Голос его стал усталым, и мне даже показалось, что он подобрел и простил меня. – Вы не виноваты ни в чем и не мучайтесь. Просто я действительно собирался покинуть наш пульт. У меня билеты в кино, и конечно, с женой. И они, конечно, уже пропали… Кстати, про те ваши цветочки на рукаве один знаменитый ученый уже сказал…
Теперь пришла моя очередь его перебить, и я проделал это без сожаления:
– Понял ваши намеки, Николай Николаевич. Я заканчиваю свою болтовню и желаю вам счастливого отдыха.
– А вы не желайте, я не докончил. Так вот, этот ученый сказал, что действительно в жизни существует какая-то хитрая, поразительная субстанция, которая ускользает от нашего сознаний, потому что она более тонка и более текуча, чем даже обыкновенный газ, кислород, например, или азот.
– Моя погибшая девушка – не субстанция…
– Ах, вот оно что. Выходит, вас просто избрали инопланетяне? Что? Угадал? Они ставят на вас какой-то опыт, ха-ха… с помощью этой девушки. – В трубке раздалось что-то похожее на всхлипывание. Я еле-еле догадался, что это злорадный смех, который все время сидел в нем и вот сейчас вырвался наружу. Мне не хотелось уже защищаться, и я сказал слабым, угасающим голосом:
– Как хотите, Николай Николаевич. Можете смеяться, можете иронизировать, мне уже безразлично. Но я уверен…
И в это время он меня перебил:
– Так в чем вы уверены? Продолжайте скорее, не таитесь.
– Так я и не таюсь! – Во мне стала подниматься обида. Откуда она пришла, сам не знаю. – А если хотите знать, то я верю. Да, я верю, что эта девушка посещала недавно какой-то воздушный корабль. Знаете, он очень похож на те, про которые часто пишут, показывают… Ее продержали там часа два вместе с собакой. А потом отпустили. Это как лифт какой-то. Вначале приподняли, а потом спустили…
– О, милый мой! А вы, выходит, серьезно! Но это же мистика какая-то, черная магия. Об этом стрекочут сейчас все сороки на перекрестках.
– Ну вот – я не знаю… Но это правда, честное слово. После этого Вера стала тосковать и сделалась как ненормальная… И наш приход с другом был как бы последней каплей… – Я не мог продолжать, я опять задохнулся. Сердце даже не стучало, а просто дергалось и теснило грудную клетку. Веки были тяжелые, пудовые, как из свинца. Таким же свинцом налилась голова.
– Почему замолчали? Продолжайте!
– А что продолжать, Николай Николаевич? Эта девушка для меня как приговор, а я как смертник и сижу в одиночке. Знаю, ведаю, что скоро зачитают окончательное решение, и потому нет терпения. Да и голос ее все время рядом: «Мой муж был летчик-испытатель…». Да, Николай Николаевич, именно эта фраза и гоняется за мной днем и ночью. Только закрою глаза, и особенно если засну, так сразу – «мой муж был летчик-испытатель…». Конечно, я пытаюсь бороться, уговаривать себя, что это бред, наваждение, но все тщетно, и нет надежды. А самое главное – нет облегчения. Видимо, во мне образовалось какое-то другое нутро, которое все время дрожит и трепещет, как листик, как гитарная струнка, к которой слегка прикоснулись… И этот трепет не заглушить никому, не осилить…
– Опять не те глаголы, Владимир Иванович. Что значит не осилить? Надо привыкать к повелительному наклонению. А вот про второе нутро вы правы. Но только оно в вас не образовалось, а все время было, существовало. Просто вы сейчас прокопали ручеек, и вся талая вода хлынула из вас, и вы тоже захвачены этим потоком.
– Но я же голос ее слышу, я вижу… Я даже могу дотронуться до нее, но только боюсь… Я начал было снова свои странички и сейчас не знаю…
– Вот-вот, ловлю вас на слове. Вы признаетесь, что вы не знаете, но я-то знаю. И в этом вся разница между нами. Я учитель – ваш поводырь, а вы должны идти следом. И обязательно должны закончить свои отчеты, я просто настаиваю. А почему – спросите вы? Да потому, дорогой мой, что я почти поверил, что ваша Вера имела связь с небом, то есть, простите, с космосом, в котором существует какая-то неясная нам энергетическая жизнь. И вот эта жизнь зацепила каким-то боком вашу знакомую, а сейчас эта энергия начинает и вас засасывать в свои сети, и вам нужно мужество, чтобы выстоять, чтобы сберечь себя… Ученые с европейским именем говорят, что существует некий центр всемирной информации, банк мировой памяти, в котором все сплелось: и прошлое, и настоящее, и будущее – в котором сейчас находится, в одной из его клеточек – ваша Вера.
– Но научно ли это, Николай Николаевич?
– Ага, вспомнили о науке, когда уже все поезда ушли. Но допустим, что ненаучно, ну и что из того? Обществоведение доказало, что жить надо в коллективе, но не выходит у людей. Даже хуже того: где коллектив, там и горе, и слезы, и войны. Вы не согласны? И про то люди знают, что нужно любить друг друга, а сами ненавидят, стреляют даже в детей, а на стариков набрасываются удавки. Вы когда-нибудь были в домах старости? Разве это, милый мой, не удавки? Но, наверное, я отклоняюсь. Не взыщите. А вам от души желаю реализма в вашем отчете… Кстати, если бы я был пишущий человек, то непременно создал повесть на вашем материале и назвал простенько так, незаметно – «Отчет об одной командировке». А может быть, даже так, да-да, именно так – «Мой муж был летчик-истребитель»… Ах, испытатель? Какая разница? Итак, закройте глаза, досчитайте до десяти, чтоб расслабить себя, успокоиться, и… продолжайте писать. А пока до свидания. Желаю вам счастливого полета. Вы, конечно, догадались, о каком полете я говорю? Ну конечно, о полете мысли, о полет вашего духа, о полете фантазии… Впрочем, простите, я оговорился – фантазий мне никаких не нужно, а только факты, только события, только реальные лица. Следующий раз я дежурю через два дня. Пока…
Трубка загудела короткими прерывистыми гудками, и это походило на тревожный звук сирены, на крик о несчастье, и я устало откинул голову. И только зажмурился, так сразу увидел Веру. Она смотрела на меня своими синими вспыльчивыми глазами, и такое же нетерпение, а может, презрение запряталось в кончиках губ ее. Говорят, иногда она передвигалась на одних руках. Каким-то немыслимым способом напрягала тело, пружинила, потом отталкивалась коленками от пола и прыгала, как лягушка. О господи!.. Она ведь тоже родилась жить и кого-то любить, быть счастливой. И тогда я тоже думал об этом, когда стоял возле нее рядом с Мишей и смотрел в ее пронзительные глаза, нет, скорей не в глаза, а в очи. И она заметила мое удивление:
– Не смотрите так на меня, не надо. Я знаю, что я такая, но все равно не смотрите. А если не послушаетесь, то я начну грубить. – И она с вызовом взглянула на Мишу. И вдруг с бесстрашием, свойственным только несчастным, сказала громко, нажимая на каждое слово: – Вы думаете, что я всегда была такая? Нет, нет, не всегда! Мой муж был летчик-испытатель, и такой был красивый, не мне чета. – И она опять покосилась на Мишу.
– А где он сейчас? – спросил тихо мой спутник.
– Разбился при испытаниях. Мы жили тогда на юге, на берегу моря…
После этих слов я весь сжался, потому что вспомнил, что в городе, в котором она жила, никогда не было моря. А она продолжала:
– Больше всего на свете люблю море. Муж говорил, оно синее, как мои глаза. – Она неестественно засмеялась, потом тихо спросила: – А вы любите море? – Она смотрела на Мишу.
– Я, представьте, всего дважды приезжал к морю. Вначале учился, потом неудачная любовь, тоска, а после пристрастился к горькому зелью… – признался вдруг Миша, и она как-то облегченно засмеялась.
– Значит, и у вас не все хорошо. Вы одиноки, а значит, несчастны… – Она назвала Мишу на вы, и мать ее согласно покачала головой.
В комнате было грязно и очень глухо, точно форточка никогда не открывалась. Оглядевшись, я обнаружил, что и форточки-то самой не было. А стены давно не белены, на окнах тусклые застиранные занавески. На полу валялись кусочки старой бумаги, скатанные в мелкие шарики. Заметив мой вопросительный взгляд, Вера объяснила:
– Это моя работа. Лежу, знаете, и устану. И станет скучно. Я накатаю этих шариков и бросаю в портрет. Вон в тот портрет, – Она показала ладонью: на противоположной стене висело небольшое изображение белозубого парня. И сам он тоже в белой рубашке, а волосы черные как смола, наверное, подделал ретушью фотограф, потому что в жизни таких волос не бывает.
– За что вы его расстреливаете? – улыбнулся Миша и посмотрел на нее внимательным взглядом.
– Да так. Родня мне какая-то. А вообще-то случайный портретик – мать вон повесила.
Та сокрушенно покачала головой, но ничего не сказала.
– А за границей вы были? Конечно же, были, не отпирайтесь. – Вера улыбнулась, и Миша тоже улыбнулся: понравился, видно, вопрос.
– В Болгарии был. Там впервые и встретился с морем… И еще там много прекрасных лиловых гор. А ночи такие прохладные, звездные, и прохлада особенная… И так хочется жить…
– У вас музыкальное образование? – Лицо у Веры почему-то стало суровое.
– Институт Гнесиных… – ответил Миша и затаенно улыбнулся, ему опять был приятен вопрос.
– Где это? – спросила она рассеянно.
– В Москве же, разве не знаете?
– Знаю, конечно. Я в Москве была раз шесть, и в Ленинграде была, и в Риге, но особенно часто в Ялте… Гурзуф – это такая жемчужина! – У нее загорелись глаза, и она опять стала перечислять с какой-то детской радостью все новые города, но мать ее остановила:
– Дочка, побойся Бога. Я не виновата, что тебя никуда не свозила, – тихонько добавила Катерина и всхлипнула. Этот всхлип поразил меня, и я пожалел, что пришел. А Вера уже выговаривала матери.
– Ты не встревай. Гости мои, не твои… – И после этих слов Катерина приподнялась со стула, хотела, видно, уйти. Потом как-то обреченно махнула рукой и опять села к столу. Мы замолчали, и эта тишина была напряженная, злая, и я чувствовал, как все волнуются, и ничего не мог сделать. Но выручила Вера. Она показала рукой на стену, где висела гитара. И Миша сразу же снял ее с гвоздя и прижал к груди.
– Я буду петь для вас, Вера. Специально для вас.
– Надо же! Осчастливили. – Она сухо скривила губы и притворно закатила глаза. Я ждал ответной выходки, но Миша запел. Его голос, широкий, свободный, зазвучал сразу не в меру призывно, как бы притягивая к себе. Не хочешь, а будешь слушать, и подчинишься, и пойдешь за ним следом. Он пел очень известный романс «Я встретил вас…» – и мне казалось, что это самый чудесный романс на свете. Музыки я, конечно, не знаю, но она смертельно действует на меня, и я не оговорился, Николай Николаевич. Она именно действует на меня смертельно, то есть просто доводит до изнеможения. Иногда мне даже кажется, что люди, сочинившие такие вот звуки, – какие-то совсем другие, особенные люди, с другим сердцем и с другой кровью. И они так же отличаются от нас, как небесно-синие незабудки отличаются от дурной лебеды и крапивы. И вы правы, Николай Николаевич, что голос человека строго индивидуален, что он единственно-неповторимый, как дактилоскопический рисунок. Миша пел, а я вспоминал, как в старших классах мы однажды были с ним на ночной рыбалке, и всю ночь жгли костер, и мой друг, забыв обо мне, смотрел на огонь и пел. Его голос и тогда был таким же прекрасным, и, наверно, не нужен был ему институт Гнесиных, не нужны долгие изнурительные упражнения в музыкальных классах, но я шучу, конечно, шучу… Не мне судить.
А потом пела Вера. И голос ее был обычный, серенький, и мне кажется, она знала об этом, но все равно пела, как бы назло моему другу, назло его отличной академической школе, назло его длинным ресницам, меняющим цвет глаз, назло мне, придумавшему весь этот вечер. А потом они решили спеть на пару. Миша присел к ней на кровать, и я вздрогнул от тяжелого предчувствия, потому что плечи их почти соединились, но он-то не знал об этом или был безразличен. Но Вера-то! Она напряглась вся, даже приподняла локти и плечи. Вы наблюдали когда-нибудь голубенка, который впервые хочет подняться в небо? Он весь взъерошен, взволнован – и вот уж полетел, полетел… Но с Верой было иначе. Она попыталась улыбнуться. Ох, эта улыбка! Так же улыбнулась, наверно, Мария Антуанетта на эшафоте. И Вера улыбнулась и поправила внизу одеяло. Она боялась, я понял – она очень боялась, что как-нибудь неосторожно откроется полог и обнажатся ее ноги. Я однажды их видел: зашел как-то к Катерине в ограду, а та несла свою дочь из бани. Несла так, как мы носим детей – приподняв высоко над землей и прижав к груди, как самое дорогое. Ноги доставали почти до земли. Они доставали до земли и тащились, как плети. Они были синеватые, неживого погибающего цвета, и такие худые, что содрогнулось сердце… И тут обе заметили меня. Я не помню даже, как это было. Помню только ее крик, как будто на нее напали хулиганы: «Мама, быстрее неси, быстрее!!» И Катерина почти побежала… А минут через пять вышла на крыльцо и объяснила мне доверительно: «Горе с девкой, Владимир Иванович. Испугалась тебя дурочка моя. Да и стыдится ведь, что урод…»








