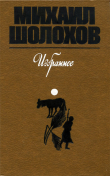Текст книги "Запахи (СИ)"
Автор книги: Виктор Зилов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Annotation
Зилов Виктор Дмитриевич
Зилов Виктор Дмитриевич
Запахи
Ополовиненное крышами закатное солнце устало освещало внутренности двора с бессистемным нагромождением нескольких разноэтажных домов и изъеденными глубокими колдобинами странными асфальтовыми дорожками, некоторые из которых никуда не вели. Когда я подходил к дому, мне послышался слабый запах нарциссов. Оглянувшись по сторонам, я увидел чуть в глубине палисадника, слева по ходу, небольшую клумбу этих чудесных бело-желтых цветов, уже начавших подвядать, но все еще источающих ни с чем не сравнимый аромат. Пройдя дальше по дорожке несколько метров, я оказался под черемухой, по-весеннему тянущей ветви вверх. Пройдет два месяца, и ее ветви бессильно опустятся в неравной борьбе со своей листвой и многочисленными веточками, усеянными черными ягодами, и здесь придется, пригибая голову, проходить под ней. В нескольких метрах от черемухи стояли грязные зеленого цвета баки с мусором. Сразу тошнотворно пахнуло пропастиной. Почему-то не видно мух, хотя их деловитое жужжание наполняет воздух. Тут я понимаю, что ищу не знакомый аромат. Сам не знаю какой, но когда я его найду, то сразу пойму, что это тот самый запах.
Зайдя в подъезд, ощутил запах влажного закрытого помещения, в котором несколько суток на полу перед дверью, зеркально поблескивая тонкой уже пленкой, поджидала лужа с дождевой водой, видимо всякий раз собирающаяся здесь, о чем говорили, как говорят о возрасте годовые кольца деревьев, ее многочисленные высохшие контуры на криво положенной коричневой плитке. Запах мокрого металла, исходящий от холодных батарей отопления, потеющих крупными желтоватыми каплями конденсата, смешивался со слабым запахом терпких, набравших влагу рекламных газет из длинного ряда почтовых ящиков, протянувшегося от входа в подъезд до дверей лифта. Прошел мимо ящиков, и мне в нос сразу ударил, сминая и забивая все остальные запахи, масляный запах краски, которая серым свежо лоснилась на наличниках входа в лифт. Странно, но никаких биологических запахов не чувствовалось совсем. Даже обыкновенного запаха жареной картошки или мяса, или щей в этом застывшем воздухе не было. Мне подумалось, что жители этого дома не только не держали домашних животных, но и сами здесь не жили, приходя только включить на время свет, а затем, его выключив, уходили в настоящие, жилые квартиры, расположенные где-то в другом месте, поддерживая таким образом иллюзию жизни в доме. Двери лифта гостеприимно разъехались в разные стороны. В кабине пахло горячим хлебом, французскими травами и салями. Этот запах в совокупности с хмелем, плотным зеленым одеялом уютно закрывавшим окно напротив лифта, создал мимолетную иллюзию, что я нахожусь где-то на южном морском курорте, с набережной, густо заставленной столиками под большими парусиновыми зонтами, между которыми ловко, почти бесшумно снуют официанты, разносящие белое вино, ледяное пиво, недавно выловленных морских гадов, пиццу и дымящиеся стейки в прожарке "midle", а теплые волны вкрадчиво и прозрачно накатываются раз за разом на мелкую гальку пологого берега, сопротивляясь воле все набирающего силу ночного бриза. Створки закрылись, и меня потянуло вверх в железной с разнообразными скрипами кабинке. Тринадцатый этаж возник незаметно из волн и пены, как Даная, подарив новый запах свежеструганной сосновой доски и олифы. Кто-то поменял раму на площадке, заботливо проолифив все дерево широкой кисточкой, оставив при этом неряшливые желтоватые мазки на стекле. Запах пыли, которая небольшими кучками, едва уловимо реагируя на резкие движения воздуха, плоско и серо лежала в углах площадки, напоминая о бренности всего сущего, пробрался в нос и там решил остаться. И здесь, как и на первом этаже, никакого запаха еды или человеческого присутствия не ощущалось, а только были плоские, односложные запахи неживой искусственной природы. Открывая дверь на площадку с квартирами, я наконец почувствовал присутствие людей – услышал слабый запах духов и ароматизированного табака. Возможно, час большее два, здесь проходила женщина. Когда дверь за мной с лязгом закрылась, я остановился и прислушался. Стояла мертвая тишина. Из-за дверей всех четырех квартир, находящихся на длинной, хорошо освещенной ярким электрическим светом площадке, не доносилось ни звука. Только в воздухе добавился запах блестящих резиновых сапог, тщетно ожидающих на новеньком коврике перед одной из дверей, что кто-то выйдет и наденет их. Весь их вид говорил о желании пройтись. Сапоги, расходясь под углом в тридцать градусов друг к другу, дружно и с надеждой смотрели своими блестящими глянцевыми носам в направлении лифта. Причем один стоял немного впереди, и складывалось впечатление, что они сами, не дожидаясь человека, уже начали шагать к выходу. Еще немного постояв, я вставил ключ в замочную скважину одной из четырех дверей. Механизм с хрустом, показавшимся чрезвычайно громким в тишине дома, провернулся, отпирая чуть скрипнувшую дверь. На меня, как и на площадке перед лифтом, пахнуло сухой пылью, только воздух оказался прогретым недавно веселящимся здесь солнцем. Внутри все также было беззвучно, а начавшие царить тут сумерки округляли и сглаживали очертания предметов. Окна, выходящие на глухую стену дома напротив, в сумеречном свете наползающей ночи чернели прямоугольниками на фоне светлых обоев. Я закрыл за собой дверь, развязал и снял туфли. Шнурки, прямо раскинувшись в разные стороны, будто швартовые канаты заякорили обувь у входа. Осторожно, чтобы не пропустить ни звука, я прошел навстречу окнам. Я все надеялся услышать хотя бы один звук или запах, говорящий о присутствии живых людей, но мертвая тишина и плоские, односложные запахи, говорили о противоположном. В какой-то момент мне показалось, что я очутился в совершенно другом измерении, где существую только я, и все, что происходит, происходит только для меня – единственного зрителя и актера. Я заметил, что в последнее время все события вокруг странным образом так или иначе касались меня. Сюжет в новостях, случайно увиденная книжка, фраза, прозвучавшая в кино, все напоминало о моих собственных мыслях, каких-то событиях, недавних или давно минувших, которые происходили со мной или рядом со мной. Порой складывалось впечатление, что кто-то таким образом хочет мне что-то сказать.
Встав возле окна, я начал наблюдать за улицей в надежде увидеть хотя бы одного человека, но наступившая темнота, лениво отгоняемая единственным сгорбленным фонарем, давно потерявшим смысл своего существования, заливала реальность черным. Я открыл раму, но кроме запаха сирени, принесенного снизу волной остывающего влажного воздуха, ничего не услышал. Как кошка входит в незнакомую комнату, медленно и осторожно, ватная тишина, не останавливаемая и не прерываемая никем и ничем, прокралась в открытое окно и заполнила собой все пространство квартиры. Ощущение, что я погрузился под воду, и теперь кроме тяжелого стука собственного сердца и размеренного дыхания ничего вокруг нет, полностью завладело мной. Неестественности происходящему добавляло еще и то, что, не смотря на отсутствие освещения, все предметы, находящиеся в квартире, просматривались до мельчайших деталей. Это было похоже на взгляд через увеличительную линзу, когда в фокусе все четко и близко, а на периферии размыто и плохо различимо. Диван, покрытый старым скатанным пледом, округло вырисовывался возле стены, резко смотря на меня витиеватым рисунком красно-черного горного пейзажа. Советский хрусталь в стеклянном шкафу вычурно, непонятно от чего, блестел гранеными узорами, а буквы газеты, лежащей на столе, были все до единой различимы, но никак при этом не складывались в слова. Сначала я попытался прочесть предложение, но у меня ничего не вышло, казалось, что кто-то пригоршнями рассыпал буквы по бумаге и так оставил, немало не заботясь о смысле. Немного помучившись, я бросил попытки сложить буквы в слова и сел в глубокое кресло. Плотно закутав в тишину, неподвижность и терпко-влажный запах сирени, дом отключил меня от внешнего мира. На мгновение закрыв глаза, я как будто отключился. Когда же через секунду я открыл их, передо мной в воздухе, зыбко чернея, висел человек в шляпе и что-то записывал в черный блокнот. Отчего-то я твердо знал, что он вписывает мое имя в книгу жильцов этого дома. Сперва мне даже польстило, что я записан и посчитан, но, секунду спустя, страх начал наполнять ноги, поднимаясь все выше, залез в голову и, вспыхнув яркой молнией, переродился в ужас, парализовавший все тело. Этот ледяной ужас кричал в голове, надрываясь, что здесь нет ни одного жильца, потому что их здесь и не должно быть, и если меня записали, то меня тоже не должно уже здесь быть, и должен ли я вообще теперь где-либо быть совершенно непонятно.
– Добрый вечер, – не поднимая глаз от блокнота, произнес человек.
– Здравствуйте, – машинально ответил я, хотя от ужаса ни один мой мускул не двигался.
Оцепенение полностью охватило меня. "Наверное, я поздоровался мысленно". Подумав так, я попробовал пошевелить губами и языком, но у меня ничего из этого не вышло.
– "Здравствуйте" звучит немного легкомысленно в данной ситуации, – произнес он, иронично посмотрев наконец на меня.
От этих слов ужас, наполняющий меня до самых краев, как вода ванну, ледяной волной прошел сверху вниз и, ударившись об пятки, опять пошел к макушке, поднимая по дороге каждый имеющийся у меня на теле волосок.
– Да, легкомысленно и странно. Неужели вы сами этого не понимаете, Павел Петрович?
Очертания мужчины при этих словах обрели резкость, и он твердо уперся черными ботинками в пол так плотно, что у меня создалось впечатление, что он как дерево растет из него. "Возможно, он и есть дом", – пролетела в пустом мозгу шальная испуганная мысль.
– Возможно, но это не самое главное в нашем с Вами разговоре, – не подтверждая, но и не опровергая мою мысль, откликнулся он.
Человек, ни на миллиметр не пошевелив "приросшими" к полу ногами, сел в материализовавшееся под ним красное кресло "а-ля шестидесятые", которое я сразу узнал. Это кресло все детство и отрочество стояло в моей комнате, героически перенося испытания, которым я его подвергал на протяжении шестнадцати лет, а потом бесследно сгинуло в пыли многочисленных переездов.
– Знакомо? – спросил черный человек, постукивая пальцами по побитому молотком полированному подлокотнику.
– Конечно, это мое любимое кресло, – ответил я, сумев наконец выдавить из себя хоть какие-то звуки.
– Не трудитесь говорить, Павел Петрович, я вас и так прекрасно понимаю.
– Вот эти отметины на полировке я сделал отцовским молотком в пятилетнем возрасте, – подумал я и показал глазами на правый подлокотник.
– Знаю, знаю, – ответил он несколько небрежно и продолжил, – вы даже теперь неким образом стыдитесь своего детского необдуманного поступка, что несколько неправильно, я бы сказал.
– Почему? – искренне удивился я. – Побив молотком кресло, я испортил его. Это плохо. Глупо, конечно, стыдиться поступков, которые совершил в пятилетнем возрасте, но это же нормально.
– Нормально стыдиться своих поступков?
– Ну да, не все поступки хорошие, поэтому плохих надо стыдиться.
– Скажите, вы верите в Бога?
– В общем-то да, – чуть помявшись, ответил я.
Я никогда не отвечал на такие вопросы, но в данной ситуации этот принцип был абсолютно неуместен.
– Значит, вы верите, что Он источник всего на свете?
– В общем-то да, – повторился я.
– Значит, вы должны верить в то, что и плохие человеческие поступки – это Его работа?
– Нет. Есть же дьявол-искуситель, падший ангел, вот он и соблазняет нас, а Господь не может заставлять нас поступать плохо. Он наделил нас свободой воли, поэтому мы сами можем выбирать между добром и злом.
– Значит, Он не может заставлять людей совершать плохие, отвратительные поступки, – черный человек покивал головой, записывая что-то в блокнот, – а позволять дьяволу заставлять людей их делать, – продолжил он рассуждать – он может, ergo, – он поднял вверх узловатый указательный палец, который оказался неприятного цвета слоновой кости, – Он не добрый?
Я немного запутался. Ужас отступил перед необходимостью логически разрешить проблему, навязанную Черным человеком без лица. Отсутствие глаз, рта и всего остального меня больше не пугало и не отталкивало. В обстановке этого странного дома он смотрелся почти органично.
– Почему? – отупело спросил я.
– Потому что по Вашему мнению, Он не может чего-то не мочь, значит, либо Он не добрый, как вы все про Него думаете, поскольку вы все-таки совершаете плохие поступки, либо Он не всемогущ. Что предпочитаете: первое или второе? – Черный человек откинулся в кресле назад и пристально посмотрел мне в глаза.
Странно было ощущать пристальный взгляд, но не видеть самих глаз. У меня по спине пробежали мурашки, а ладони покрылись холодным потом.
– Мне кажется ни то, ни другое, – незаметно вытирая ладони о брюки, произнес я. Но свобода воли...
– Правильно, – одобрительно покивал головой черный человек. – Тогда что? – он слегка наклонился вперед, ожидая ответа.
– Что? – автоматически повторил за ним я.
– Тогда оказывается, что "плохих" поступков не существует.
– Это как это? – удивился я. – Плохие поступки существуют. Не убий, не укради, не прелюбодействуй, не чревоугодничай, не жадничай и так далее по Библии, – с ходу процитировал я несколько заповедей. – Борьба добра и зла за душу человека.
– Шаблоны, стереотипы..., – скучающе констатировал он. – Это вы все напридумывали и приписали Ему. Нет, конечно, вас людей понять можно, надо было как-то выживать, вот вы и придумали себе нормы морали. Поделили все на "добро" и "зло". К злу отнесли все, что мешает выживанию, а к добру все, что помогает. Теперь человечество вышло на принципиально другой виток развития, теперь перед вами не стоит задача физического выживания, сегодня надо самосовершенствоваться в направлении интеллектуальном, а для этого людям надо убрать все запреты, блоки и тормоза в виде всевозможных глупых религиозных и гуманистических догм, которыми вы обросли за время развития.
– Перестать верить в Бога что ли? – я с недоумением посмотрел на черного человека.
– Ему оттого, что вы верите или не верите не холодно, не жарко, поверьте.
– Тогда что, зачем?
– Затем, что надо менять свою жизнь и уходить от дурацких моральных правил.
– Что, плюнуть на "не укради"?
– Ну да.
Черный человек слегка посветлел, через его фигуру стало проглядывать кресло. Запах сирени усилился. Моя голова потяжелела, опять наполнившись тупым непониманием. Сознание отказывалось принимать мысль о "дурацкости" морали, по которой человечество жило не одно тысячелетие. Мой мозг закоротило.
– Простите, а Вы кто?
Не найдя решения проблемы морали, я попытался перевести разговор в более понятное для меня русло и выяснить, кто же передо мной сидит, перейти, так сказать, на личности. Его высказывания, вызывающие ступор, были настолько противоестественны, что даже фантастический облик черного человека совершенно не объяснял и не оправдывал их.
– Мои мысли как раз не противоестественны, – ответил он, помолчав. – Вообще, Павел Петрович, можете называть меня Эмиссаром. – Вы давным-давно ушли от естественности. Когда люди придумали понятие греха, тогда человечество отправилось скитаться по пустыне морали, уродуя себя и своих детей чувством вины за желания. Неужели вы думаете, что Он, создав человека, мог наделить вас чем-то плохим? Любое ваше желание есть желание твари Его.
– Разве желание убивать не плохое? – я почувствовал как пот течет по спине. "Блин, куда я попал? Господи, за что мне это?" – взмолился я.
– Нет, – просто ответил мой визави.
– Что "нет"? – спросил я, не поняв его фразы.
– Желание убивать не плохое, – терпеливо объяснил он.
– Если убивать хорошо...
– Я не сказал, что "хорошо", я сказал, что это не плохо. Если быть точным, мы говорили о желании, а не о действии, но на самом деле это без разницы. Хотеть убивать и убивать – это не "плохо" и не "хорошо". Это просто желание убийства или убийство себе подобного. Не более того.
– Правильно ли я понимаю, что если я кого-нибудь убью, это не будет плохим поступком?
– Правильно. Но это не значит, что надо кого бы то ни было убивать. И что надо вообще кого-нибудь убивать. – Черный человек смотрел, скорее просматривал, меня пристальным взглядом и даже, по-моему, улыбался. – Видите ли, – начал он медленно, – все должны жить для того, чтобы развиться и достичь гармонии, называемой людьми счастьем. Этого хочет Он. Свобода воли существует, здесь вы на верном пути, но в людях не живет ни добро, ни зло, так же как хищник не плох, оттого что он хищник, а его жертва не хороша, оттого что она жертва.
– Но если убрать моральные правила, люди уничтожат друг друга.
– Глупости. Убивать заставляет вера в то, что кто-то хуже тебя, поэтому этот другой достоин смерти, а ты вправе лишить его жизни. Все ваши войны, все до единой, велись из-за разделения на "плохих" и "хороших", причем обе воюющие стороны считали себя непременно хорошими. Не кажется ли Вам, дражайший Павел Петрович, что человеческие правила очень, очень относительны и, соответственно, неверны?
Я задумался. Доводы черного человека показались мне разумными, но весь мой здравый смысл восставал против такого рода изменения правил человеческого общежития.
– Но в быту, принцип "не укради" сдерживает людей от анархии и прививает чувство уважения к чужой собственности, и это хорошо. – У меня появилось чувство, что я нашел нужный аргумент против этической системы черного человека.
– Опять глупость. Воровать не "плохо", а не рационально, поскольку вор должен помнить, что также легко могут своровать у него, и поэтому, чтобы не ввергать общество в самоуничтожение и перманентный грабеж, никто не должен этим заниматься.
– Но за воровство, грабеж и убийство должны же наказывать тех, кто все-таки это совершил?
– Наказание предполагает преступление, а где Вы видите преступление, если нечего преступать?
– Извините, но это бред какой-то, – меня начала раздражать это явная глупость. – Убийство – это преступление! Лишение жизни человека – это тягчайшее преступление, которое наказывается смертной казнью. Ни один человек не вправе лишать другого жизни. – Мне даже не пришлось ничего изображать, праведное возмущение переполняло меня.
– Вы только что сказали, что ни один человек не вправе лишать другого жизни, но тут же заявили, что убийца должен быть казнен. На лицо явная логическая неувязка. – Эмиссар спокойно рассматривал меня, явно копаясь в моих мозгах.
– Убийцу приговаривает к смерти суд.
– И что, суд состоит не из людей? Законы пишут не люди? – Мне показалось, что он улыбнулся.
– Но хотя бы так мы упорядочиваем свою жизнь, – почти с негодованием ответил я ему.
– Вы так уродуете себя и свою жизнь, – он удрученно бросил руки на подлокотники. Ручка и блокнот, бесшумно упав на пол, оплыли и растворились. – Жадность, лень, любострастие, любопытство, все это не пороки, за которые надо наказывать, а естественные свойства любого человека, его природа. А вы собственную природу объявили врагом и ведете с ней непримиримую войну. Человечество все время пытается себя загнать в рамки, в то время как надо всего лишь признать, что вы все равнозначные субъекты био-социального бытия, в котором не существует нормы, а, следовательно, и отклонений от нее. Сегодня человечество вышло из детского возраста, когда маленький человек еще не понимает, где заканчивается его личное пространство и начинается чужое, не хуже и не лучше его, просто чужое. Сегодня люди уже готовы вступить во взрослую жизнь, где нет дурацких напридуманных ограничений.
– Эмиссар, Вы поэтому так называетесь, что принесли эту благую весть нам, людям?
– Вы догадливы, поэтому Вас, Павел Петрович, выбрали в числе еще нескольких тысяч людей, для распространения, как Вы изволили сказать, "благой вести", и Ваша ирония в данном случае совершенно излишняя.
– Слушайте, я ведь сейчас сплю? – вытерев о колени опять ══вспотевшие вдруг ладони, спросил я.
Весь разговор меня напрягал до тех пор, пока я не представил, что сплю. Вообще все эти странные мысли, могли быть уместными только во сне, и вся отмена человеческой морали не могла происходить наяву по-настоящему. Я убеждал себя в этом все снова и снова. Эмиссар все время с интересом наблюдал за мной и моими мыслями. Не перебивая, он слушал, пока я не запутался под его пристальным молчаливым вниманием. Так бывает, когда кто-то незнакомый внимательно следит за Вами, и Вы, начав сомневаться в своих действиях, начинаете присматривать за собой как бы со стороны и теряете нить рассуждений или забываете, зачем и куда шли и что делали. Видимо под влиянием моих метаний, а может каких-то других соображений, он прервал мой ставший путанным затянувшийся монолог.
– На самом деле не важно, где Вы, важно то, что я Вам рассказываю, и что Вы вынесете из этого разговора, но сожалению, пока Вы не понимаете о чем я говорю.
Черный человек встал. До того скрытые сиденье и спинка кресла предстали передо мной знакомой продавленной поверхностью. Эмиссар вышел на кухню. Послышался звук зажигаемой газовой конфорки.
– Кофе будете, Павел Петрович?
– Не откажусь, – я тоже встал и прошел на кухню.
Чуть кисловато запахло газом и кофе. Хотя ночь уже давно плющила о стекло окна свою морду, лампу мы не включили. Света синего шипящего пламени хватало, чтобы разглядеть незатейливую обстановку кухни, состоящую из пары навесных и таких же напольных шкафчиков, укрытых одной столешницей, небольшого холодильника, мойки, стола и трех табуретов. На крыле мойки лежала одинокая сковородка, кастрюлька, да пара кружек. Я посмотрел на Эмиссара, помешивающего ложечкой кофе в турке, и подумал, как же он будет его пить. Его гладкое лицо-маска снизу равномерно освещалась гудящим газовым огнем. "Как манекен", – подумалось мне. Черный человек на этот раз ничего не ответил, казалось, он полностью был поглощен приготовлением кофе. Через три минуты он убрал уже начавшую закипать турку с огня, разлил кофе по кружкам. В предвкушении вкусного кофе, я лишился остатков страха и почувствовал некоторую негу. "В конце-концов, все не так уж и страшно", – подумал я расслаблено. Я подошел к плите, но Эмиссар вдруг схватил мою руку и с силой, сравнимой с мощью бульдозера, водрузил ее над пламенем. Нестерпимая боль пронзила меня всего до каждой клеточки. Я пытался вырваться, но рука не двигалась ни на миллиметр, будто ее придавил большой железобетонный блок. К кисловатому запаху кофе добавился отвратительный запах жареного мяса. Я отчетливо слышал, как лопается кожа на руке, но мой беззвучный, истерический крик не мог заглушить этого мерзкого звука. Когда мне сверлят зуб, то осознание, что визг бура происходит от моей кости, повергает меня в жутчайшую панику. Вообще любое вмешательство в организм воспринимается мной, как насилие. Сейчас все мои страхи реализовались в полной мере. Тщетность попыток освободиться закручивала спираль истерики и лишала остатков разума. Несмотря на адскую боль, со мной не случилось болевого шока и я не потерял сознания. Когда я, с подкошенными ногами, уже бессильно и не на что не надеясь, болтался только на зажатой Эмиссаром руке, он разжал пальцы, и я тут же упал на пол, баюкая здоровой левой сгоревшую до мяса правую руку.
– Кто я по Вашему, Павел Петрович? – сев на табурет и взяв кружку с дымящимся кофе, спросил Эмиссар.
– Вы Дьявол, – с ненавистью прокричал я.
Он взял мою руку и вылил на нее дымящийся кофе. Я мог ожидать всего чего угодно, но только не того, что боль мгновенно уйдет, а за секунду до того изуродованная обожженная рука, вдруг станет прежней, как будто ничего и не было.
– Так кто я? – повторил он вопрос, протягивая вторую кружку кофе мне. – Пейте, – он кивнул на кружку.
У меня не осталось даже воспоминаний о пережитой только что боли, поэтому я взял предложенную кружку и, отпивая по маленьким глоточкам горячий кофе, стал обдумывать ответ.
– Теперь не знаю,– задумчиво сказал я.– Скорее всего, все равно дьявол.
– Поставлю вопрос по-другому: что я сделал?
– Сначала зло, затем добро. Но можно было обойтись и без зла, тогда и добро такое не потребовалось бы делать, поскольку в данном случае одно – следствие другого.
– Правильно, – покивал он, как бы подтверждая свои мысли, – Вы опять совершаете свою ошибку. Человечество всю сознательную историю живет в этой дуалистической модели и не может выйти из нее. По этой логике добро и зло уравновешивают друг друга, и между ними постоянно идет борьба, но это не так. Я уже говорил Вам, Павел Петрович, что это абстрактные категории, которых на самом деле нет. Я просто совершил нерациональное действие, перейдя границы личного пространства, причинил Вам боль, а затем совершил рациональный поступок, восстановив статус-кво. Конечно, простой человек не может вернуть все назад, но для этого он как раз и должен помнить о своей ответственности и возможностях, когда собирается совершить тот или иной поступок, предпринять то или иное действие, ведь нерациональный поступок отдаляет его от счастья. Человечеству стоит только захотеть мыслить рационально и начать стремиться к счастью, к по-своему индивидуально чувствуемому счастью, и он обретет смысл жизни. У всех счастье разное, и в этом гарантия того, что каждый сможет его достичь. Счастье не может быть общим, оно сугубо индивидуально.
– А как же душа, любовь, это разве может быть рациональным?
– Душа формулирует представление о счастье, а любовь инструмент для его достижения. Он, – Эмиссар поднял свой указательный палец вверх, – наделил вас всем необходимым. Теперь человечество повзрослело и не нуждается в десяти заповедях, которые уберегали людей от самоуничтожения. Теперь вам надлежит следовать только одной: "ищите и обрящите", но не забывайте одного важного обстоятельства – счастье в вас.
Я проснулся в кресле в своей квартире на третьем этаже с окнами во двор-колодец. В наступивших сумерках предметы потеряли резкость и, немного округлившись, мимикрировали под общую серость. Запах кофе и сирени, перемешиваемый легким весенним ветерком, витал в воздухе. Подойдя к открытому окну, я выглянул наружу. Ни одно соседское окно не светилось. Внизу, утопая в темноте небольшого прямоугольника, кое-как втиснутые в ряд, покоились три машины. Та, что посередине, алела тусклыми габаритными огнями и тарахтела старым изношенным мотором, исторгая из себя, похоже, немыслимые объемы дыма. Вся высота шестиэтажного, непродуваемого столба воздуха была наполнена ядовитыми газами без единого вкрапления запаха зелени, тем более цветов. Закрывая окно, я обдумывал, что же мне сейчас все-таки приснилось. Старая рассохшаяся рама никак не хотела закрываться. Через щель начали просачиваться выхлопные газы, агрессивно вытесняя все остальные запахи и отравляя воздух. Пришлось приподнять провисшую раму и с силой захлопнуть. Зазвенели стекла, но непослушная рама встала на место, отрезав меня от шума и чада. "Вот теперь гораздо лучше, а то угореть можно насмерть от этой чертовой машины".
Не отойдя еще толком ото сна, я хотел сразу засесть за ноутбук и накидать иронично-злой рассказ об Эмиссаре, но, пройдясь по обширному залу несколько раз взад-вперед, я успокоился и решил сначала выпить чаю. В конце-концов, я хотел не спеша еще раз обдумать странный сон, который помнил до мельчайших подробностей, попытаться связать с ним непонятно откуда взявшийся запах сирени в квартире. Только я успел поставить чайник на конфорку, как в дверь позвонили. "Странно, кто бы это мог быть?" – удивился я, ведь жена и дети должны вернуться с дачи только через два дня. К нам никто не приходит без предварительного телефонного звонка, слишком далеко мы живем от друзей и родственников, чтобы просто так "заглянуть к нам на огонек". Я подошел к двери и посмотрел в глазок. Наверное, космическая "черная дыра" выглядит светлее, чем то, что я увидел. "Лампочки что ли перегорели?" – подумалось мне.
– Кто там? – тихо спросил я.
– Я это, – ответил незнакомый мужской голос.
Голоса я не узнал, и в глазок ничего не было видно, но поддавшись на безыскусность ответа, я повернул ручку замка. Дверь тут же распахнулась, и в квартиру ввалились два парня. Несмотря на то, что их лица отчасти скрывали накинутые капюшоны грязных толстовок, я определил возраст парней где-то в двадцать пять лет. Они оба были в засаленных джинсах и кроссовках.
– Закрой дверь, дядя, – походя обратился ко мне тот, что повыше.
Такая наглость меня поразила, я потерял дар речи, кроме того, я испугался. Также послушно, как я открыл дверь, теперь я ее закрыл. Эти двое принесли с собой запах выхлопных газов, застарелого, въевшегося в одежду дыма дешевых сигарет и амбре ацетона. В совокупности все это произвело на меня действие практически полностью подавляющее волю. Второй раз за сутки я переживал сильнейший стресс, который ни разу в жизни мне еще не доводилось испытывать, тем более два раза подряд.
– Ну че, дядя, – повернувшись ко мне своим серо-желтым лицом, с острыми скулами и лихорадочно блестящими глазами, произнес тот, что повыше, – денюжки дашь взаймы? Мы будем тебе очень благодарны. Вот он, – высокий указал на второго оттопыренным мизинцем с длинным грязным ногтем, – сильно нуждается в средствах, и он, дядя, будет сильно благодарен тебе за хороший займ наличными или чем-нибудь еще ценным, что ты нам отдашь.
– Кончай трещать, пи..бол, – прервал его второй.
Этот тоже выглядел изможденным, но все еще вполне крепким и пока не до конца растратившим свои жизненные силы. Речь его была хотя и нервной, но твердой и выдавала в нем жесткого решительного человека, а сбитые кулаки и широко расставленные короткие ноги говорили о спортивном прошлом либо боксера, либо какого-то единоборца.
– Мужик, – медленным движением руки, как будто проведя рукой по волосам, он откинул назад капюшон, под которым обнаружилась почти круглая голова с прямыми сальными светло-русыми волосами, – ты нам по-тихому бабки отдай, и мы уйдем, в натуре базарю.
Он смотрел на меня глазами пустыми, как если бы смотрел на банкомат, в который вставил карточку и теперь с нетерпением ждал, когда же тот выдаст деньги. Деньги конечно у меня были, но отдавать их я совершенно не хотел. Насколько далеко они могут зайти, я не понимал, но отчего-то верил, что они не смогут надолго у меня задержаться. Чтобы как-то потянуть время и подтвердить свою догадку, я задал вопрос: "Это ваша машина стоит внизу с заведенным двигателем?" Невысокий, а именно он был у них за вожака, ответил: "Да, мы торопимся. Отдай по-хорошему все, и мы быренько слиняем, в натуре базарю. Больше повторять не буду". Он подтолкнул меня к входу в зал.