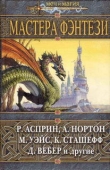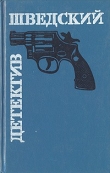Текст книги "Цветы для профессора Плейшнера"
Автор книги: Виктор Шендерович
Жанр:
Прочий юмор
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Annotation
Не имею ни трудодня – Не пахал, не сверлил, не мел... Просыпаюсь – и жизнь меня Бьет лицом о письменный стол.
Виктор Шендерович
Новые времена
Цветы для профессора Плейшнера
Литературный процесс
Новые времена
Как Антошкин и Колобов играли в шахматы
Жизнь масона Циперовича
Автобус
Литература и искусство
Проблемы Паши Пенкина
Тимофеевы
Молодое пополнение
Акт приемки спектакля «Отелло» в драмкружке Дома офицеров Прикордонского военного округа
Как научить соловья петь
И коротко о погоде
Я и Сименон
Диалоги театра абсурда
Жизнеописание
Жизнеописание
Очередь
Аэрофлотное
Оптимистическое
Имярек
Монолог уставшего человека
Признание
О некоторых странностях судьбы
9 сентября 1987 года, среда
Утренний доклад
Таракану
Письмо эпохи перестройки
Виктор Шендерович
Цветы для профессора Плейшнера

Рисунки В. Боковни

Шарж В. Мочалова
Не имею ни трудодня —
Не пахал, не сверлил, не мел...
Просыпаюсь – и жизнь меня
Бьет лицом о письменный стол.
Новые времена

Цветы для профессора Плейшнера
– Куда? – сквозь щель над стеклом спросил таксист.
– В Париж, – ответил Уваров.
– Оплатишь два конца, – предупредил таксист, подумав.
Уваров кивнул и был допущен.
– Как поедем? – спросил таксист, накручивая счетчик.
– Все равно, – ответил Уваров, располагаясь поудобнее.
У светофора таксист закурил и включил транзистор. В эфире зашуршало.
– А чего это тебе в Париж? – спросил он вдруг.
– Эйфелеву башню хочу посмотреть, – объяснил Уваров.
– А-а.
Минуту ехали молча.
– А зачем тебе эта… ну, башня-то? – спросил таксист.
– Просто так, – ответил Уваров. – Говорят, красивая штуковина.
– A-а, – сказал таксист.
Пересекли кольцевую.
– И что, выше Останкинской? – спросил он.
– Почему выше, – ответил Уваров. – Ниже.
– Ну вот, – удовлетворенно сказал таксист и завертел ручку настройки. Передавали погоду. По Европе гуляли циклоны.
– Застрянем – откапывать будешь сам, – честно предупредил таксист.
Ужинали под Смоленском.
– Шурик, – говорил таксист, обнимая Уварова и ковыряя в зубе большим сизым ногтем, – сегодня плачу я!
У большого шлагбаума возле Чопа к машине подошел молодой человек в фуражке, козырнул и попросил предъявить. Уваров предъявил членскую книжечку Общества охраны природы, а таксист – права.
Любознательный молодой человек этим не удовлетворился и попросил написать ему на память, куда они едут.
Уваров написал: «Еду в Париж», а в графе «Цель поездки» – «Посмотреть на Эйфелеву башню».

Таксист написал: «Везу Шурика».
Молодой человек в фуражке прочел оба листочка и спросил:
– А меня возьмете?
– А стрелять не будешь? – встречно спросил таксист, глядя с сомнением.
Молодой человек пообещал не стрелять и вообще вести себя хорошо.
– Ну, садись, – разрешил Уваров.
– Минуточку, – попросил молодой человек, сбегал на пост, нацепил фуражку на шлагбаум, поднял его и оставил под стеклом записку: «Уехал в Париж с Шуриком Уваровым. Не волнуйтесь».
– Может, опустить шлагбаум-то? – спросил таксист, когда отъехали.
– Да черт с ним, пусть торчит, – ответил молодой человек.
Без фуражки его звали Федюня. Федюня был юн, веснушчат и дико озирался по сторонам. Таксист велел ему называть себя просто Никодим Петрович Мальцев и все крутил ручку настройки, пытаясь поймать родную речь. Уваров, зажав уши, изучал путеводитель по Парижу.
В Венском лесу Федюня нарушил обещание и подстрелил из окна оленя.
Чтобы не оставлять следов, пришлось развести костер, зажарить оленя и съесть его.
После ужина Уваров объявил Федюне выговор с занесением рогов в машину. Федюня отпиливал рога и вспоминал маму Никодима Петровича Мальцева. Икая после оленя, они выбрались на шоссе и поехали заправляться.
Там Уваров вышел размять ноги, глядя, как блондинка с большой грудью заливает Никодиму Петровичу бензин. Федюня, запертый после оленя на заднем сиденье, прижавшись всеми веснушками к стеклу, строил ей глазки. Уваров дал блондинке червонец, и, пока выворачивали с заправки, блондинка все смотрела на червонец круглыми, как австрийские марки, глазами.
В Берне Федюня оживился и предложил возложить красные гвоздики к дому, где покончил с собой профессор Плейшнер. Провели тайное голосование, но все проголосовали «за». Распугивая аборигенов, дотемна колесили по Берну, но дома не нашли, отчего Федюня загрустил и повеселел только в Париже.
В Париж приехали весной.
Уваров вылез у Эйфелевой башни, а Никодим Петрович с запертым сзади Федюней поехал искать профсоюз таксистов, чтобы поделиться с ними своим опытом.
Вернувшись с дележа, он увидел, что Федюня исчез вместе с рогами и гвоздиками, и понял, что с юношей случилось самое страшное, что может случиться с человеком за границей.
Искать Федюню было трудно, потому что все улицы назывались как-то не по-русски, но ближе к вечеру Федюню он нашел у очень подозрительного дома с фонарем.
Федюня был с рогами, но без гвоздик.
На суровые вопросы: где был, что делал и куда возложил гвоздики – Федюня только виновато улыбался и краснел.
Уваров сидел у подножия Эйфелевой башни, попивая захваченный из дома лимонад. Никодим Петрович Мальцев нажаловался ему на Федюню, и тут же двумя голосами «за» при одном воздержавшемся было решено больше Федюню в Париж не брать.
– Может, до Мадрида подбросишь, шеф? – спросил Уваров, когда отголосовали. – Там в воскресенье коррида…
– Не, я закончил, – печально покачал головой Никодим Петрович и опустил табличку «В парк».
Прощальный ужин Уваров давал в «Максиме».
– Хороший ресторан… – несмело вздохнул наказанный, вертя бесфуражной головой.
– Это пулемет такой был, – мечтательно вспомнил вдруг Никодим Петрович.
Уваров заказал устриц и антрекот с кровью. Федюня – шоколадку и двести коньяка. Никодим Петрович жестами попросил голубцов.
Принесли все, кроме коньяка: Федюне не было двадцати одного года.
В машине он сидел совсем трезвый, обиженно хрустел шоколадкой. Никодим Петрович вертел ручку настройки, Уваров переваривал устриц. За бампером исчезал город Париж.
Проезжая мимо заправочной станции, они увидели блондинку, рассматривавшую червонец.
В Венском лесу было солнечно, пощелкивали соловьи. Уваров начал насвистывать из Штрауса, а Федюня – из Паулса.
У большого шлагбаума возле Чопа стояла толпа двоенных и читала записку. Никодим Петрович выпустил Федюню и, простив за все, троекратно расцеловал. Тот лупил рыжими ресницами, шмыгал носом и обнимал рога.
– Федя, – сказал на прощание Никодим Петрович, – веди себя хорошо.
Федя часто-часто закивал головой, сбегал на пост, снял со шлагбаума фуражку, надел ее на место, вернулся и попросил предъявить.
– Отвали, Федюня, – миролюбиво ответил Уваров. – А то исключим из комсомола.
– Контрабанды не везете? – моргая, спросил Федюня.
– Ну, Федя… – выдохнул Никодим Петрович.
Машина тронулась, и военные, вздрогнув, прокричали троекратное «ура».
Неподалеку от Калуги Никодим Петрович вздохнул.
– Что такое? – участливо поинтересовался Уваров.
– Федюню жалко. Душевный парень, но пропадет без присмотра.
У кольцевой Никодим Петрович заговорил снова:
– А эта… ну, башня-то твоя… ничего.
– Башня что надо, – отозвался Уваров, жалея о пропущенной корриде.
Прошло еще несколько минут.
– Но Останкинская повыше будет, – отметил таксист.
– Повыше, – согласился Уваров.
Литературный процесс
В литературе я, слава богу, не новичок.
Я ставлю будильник на семь утра; я принимаю контрастный душ и выхожу на кухню. Чайник уже плюется кипятком – два кусочка сахара на чашечку кофе, и можно приступать.
Я пишу повесть. Я стараюсь растянуть это счастье на побольше – полгода, а лучше год.
Поставив точку, я перепечатаю рукопись и дам ей отлежаться недельку-другую. Затем превращу чистовик в черновик, перепечатаю и превращу в черновик снова.
Перебелив рукопись в пятый раз, я подойду к зеркалу, загляну в лицо стоящему там человеку и сострою ему рожу. «Ну что, доволен?» – спрошу я его. Он не ответит. «Дур-рак ты, братец», – скажу я тогда и примусь за рецензирование.
Первым делом, пробежавшись по страницам, я понаставлю на полях всяческих закорючек тупым карандашом. Потом размашисто подчеркну самые удачные, с моей точки зрения, места и нарисую против них возмущенные вопросительные знаки – по одному и целыми стаями. Когда карандаш затупится совсем, я пройдусь по рукописи с парой фломастеров и загажу ее уже окончательно. Свершив сей подвиг, я поставлю наверху жирный минус и на этом прекращу работу над текстом навсегда.
Отложив рукопись в сторонку, я вставлю в машинку чистый лист и в первых же строках сообщу сам себе:
что повесть моя – вовсе не повесть, а так, ни рыба ни мясо;
что надо больше работать над композицией, а лучше не писать вообще;
что главный герой вызывает недоумение, а остальные – отвращение;
что нужно четче проявить авторскую позицию и увидеть свет в конце тоннеля, и пока я его не увижу, не стоит беспокоить редакцию своим пессимизмом.
«Рецензент Имяречкин», – отстучу я внизу и поставлю напротив фамилии размашистую каляку-маляку. Аналогичным образом, не выходя из-за стола, я засобачу еще десяток «отлупов» – слава Богу, не первый год в литературе. Я отстучу их, не останавливаясь, один за другим: холодно-доброжелательный отзыв из журнала «Ближний свет» (рецензент очень симпатизирует автору, но официально заверяет, что автор не Толстой) и полное огнедышащей страсти письмецо из «Российского почвенника» (рецензент убивал бы таких, как я и мои герои, вместе с членами семей); я сам снабжу себя и комсомольским приветом из молодежного органа (рецензент желает мне и моему нераскрывшемуся дарованию всего доброго), и дельным советом из «Оазиса пустыни» (рецензент готов смириться с отдельными огрехами повести, если действие будет перенесено по месту издания журнала, а главный герой станет хлопкоробом и сменит фамилию Гинзбург на Убайдуллаев).
После обеда, пососав валидол, я прикончу повесть еще пятью-шестью ударами, а напоследок, хохмы ради, порекомендую издательству имени первопечатника Федорова как можно быстрее – скажем, в первой половине третьего тысячелетия – поставить ее в план рубрики «Голоса молодых».
Закончив последнюю эпистолу, я аккуратно заверну в нее повесть, поставлю дату и все это закину на шкаф – туда, где давно лежит все написанное мною.
Ночью я, как всегда, буду плакать и метаться, а на следующий день напьюсь, как свинья, но по мне лучше это, чем бегать бобиком по редакциям, всем улыбаться, чего-то ждать, трижды в день совать нос в почтовый ящик и всю жизнь кушать эту бочку дерьма чайной ложечкой.
Через недельку-другую я буду как огурчик и снова смогу писать.
У меня на шкафу еще полно места.
Новые времена
В понедельник с утра Пасечкин решил отдать власть народу. Народ в понедельник оказался хмур и недоверчив, Пасечкину не поверил.
– И что, так прямо всю власть? – переспросил с детства любивший точность бухгалтер Зайгезундер.
– Всю, – радостно подтвердил Пасечкин.
– Ты чего, Олег Петрович? – тихо поинтересовался сидевший тут же, в президиуме, инспектор по кадрам. – Правда, что ль?
– Ага, – сказал Пасечкин, улыбаясь народу.
– Во дает мужик, – выдохнул народ.
– Значит, свобода? – выкрикнул из десятого ряда разнорабочий Фомич.
– Она, – подтвердил Пасечкин.
– С когда? – спросил Фомич.
– С сейчас, – ответил Пасечкин.
– Эх, – крикнул вдруг Фомич и через ползала плюнул точно в бухгалтера Зайгезундера. Зайгезундер, хотя и с детства любил точность, к плевку отнесся отрицательно и попросил президиум, чтобы они там поскорее установили правовое государство. Из президиума ответили, что правовое государство – это они сейчас, ну максимум со среды.
– Подождите, – опомнился вдруг инженер по фамилии Хорьков и, сглотнув, поднялся среди зала. – Это что же, мы теперь сами и будем выбирать?
– Ну, – сказал Пасечкин.
– Кого захотим? – не поверил инженер.
– Кого захотите, – подтвердил Пасечкин. – Кого из нас захотите, того и будете выбирать.
– Ясно, – сказал инженер.
– Еще есть вопросы? – доброжелательно поинтересовался Пасечкин.
– Есть, – доброжелательно ответил инженер. – А что, и буфет теперь будет общий?
Президиум перестал создавать правовое государство и уставился на Хорькова.
– Вы не поняли, товарищ, – мягко сказал Пасечкин, когда вместе с президиумом вышел из столбняка. – Это власть будет общая, а буфет – раздельный.
– Нет, подождите, – сказал любознательный инженер. – А если мы не захотим раздельный? Как тогда? Объясните…
– Я сейчас, – сказал, уходя, инспектор по кадрам. – Мне тут нужно…
Пасечкин поморщился.
– Несолидно как-то получается, – ответил он. – Вам, сукиным детям, власть отдают, а вы – «буфет»…
– Ну хорошо, – сказал любознательный Хорьков, осторожно косясь в сторону разнорабочего Фомича, который с криками «Эх, свобода!»– продолжал плевать на бухгалтера Зайгезундера. – А вот у нас на втором этаже комната большая, там под портретами сидит человек и всем говорит, что он ядро и руководящая роль – можно его убрать куда-нибудь, а то надоел?
– Человека трогать не будем, – веско ответил Пасечкин. – Это исторически сложилось. Без человека вы пойдете не в ту сторону, собьетесь с пути, заблудитесь и пропадете все к чертовой матери. На него при вашей-то власти только вся и надежда.
Выходивший по нужде инспектор по кадрам вернулся и сел на место. Нуждался он, как выяснилось, в личном деле Хорькова, которое и принялся читать, плотоядно шевеля ушами.
– Ну хорошо, – сказал Хорьков.
– Регламент, – напомнили из президиума.
– Я секундочку, – сказал Хорьков. – Я только узнать насчет свободы слова.
– Свободы слова у нас будет много, – ответил Пасечкин. – Но чтобы без мордобоя и опрыскивания ядохимикатами, надо попросить слова за полгода, а потом хорошенько подумать и не прийти.
Тут разнорабочий Фомич не рассчитал силы плевка и вместо намеченного Зайгезундера попал в президиум. Там немедленно было создано правовое государство, и Фомича повели. Оплеванный ранее бухгалтер очень удивился и обратил внимание присутствовавших, что вот сейчас в него как раз не попали. Бухгалтера повели, чтобы Фомич не скучал.
– Ну хорошо, – сказал любознательный Хорьков, когда правовое государство немножко успокоилось. – А вот если кто захочет совсем отдельно…
– Товарищи, – сказал Пасечкин, – по-моему, нас пытаются увести в сторону. Хватит демагогии. Надо же наконец приниматься за дело. Кстати, о деле. В деле выступавшего здесь Хорькова обнаружились интересные факты. Этот, с позволения сказать, борец за права человека еще в пятьдесят пятом году своровал на базаре города Мелитополя пучок редиски и с тех пор в глубине души сочувствует ку-клукс-клану.
…После собрания состоялся праздничный концерт. Власть к этому времени прочно находилась в руках народа, а бывший инженер – в руках дружинников. Вечер удался на славу. Инспектор по кадрам прочел свое любимое стихотворение – «Шестое чувство», Пасечкин с членами президиума прямо на сукне сбацал для народа брейк. В буфете давали мыло.
Как Антошкин и Колобов играли в шахматы
Антошкин всегда играл черными и без ферзя. Когда он просился поиграть белыми и с ферзем, Колобов молча клал ему на лицо волосатую пятерню и сильно толкал.
Когда Антошкин вставал на ноги, Колобов забирал у него обе ладьи – одну правой рукой, а другую левой. Антошкин мучительно думал и ходил. Если ход Антошкина Колобову не нравился, он сразу бил его кулаком в ухо и велел делать другой. Если Антошкин настаивал на своем, Колобов заставлял его стирать свои носки и отжиматься от пола.
Сам Колобов над ходами не думал, а ходил сразу, два раза подряд. Если Антошкин начинал протестовать, из-за кулис выходили два колобовских приятеля, брали Антошкина за руки, за ноги и больно били головой о стенку.
На семнадцатом ходу Колобов предлагал Антошкину сдаваться. Если Антошкин не сдавался, его уничтожали, а Колобов делал ход конем. Конь у Колобова ходил буквой «Г» и другими буквами, и снимать его с доски запрещалось категорически: за это рвали здоровые зубы и унижали морально.
Иногда у Антошкина сдавали нервы, он начинал плакать и звать судью. Судья приходил, признавал его душевнобольным и сажал в психушку. В этом случае Антошкину засчитывалось поражение, потому что по переписке Колобов не играл.
Но проходили годы, Антошкин возвращался и говорил Колобову:
– Ну что, сыграем еще партийку?
– Не надоело? – спрашивал Колобов, разминаясь.
– Да нет еще, – отвечал Антошкин.
И они играли еще. Семьдесят лет подряд. И никак Антошкин не хотел смириться с тем, что Колобов играет сильнее…
Жизнь масона Циперовича
Ефим Абрамович Циперович работал инженером, но среди родных и близких был больше известен как масон.
По дороге с работы домой Ефим Абрамович всегда заходил в «Гастроном». Человеку, желавшему что-нибудь купить, делать в «Гастрономе» было нечего, это знали все, включая Ефима Абрамовича, но каждый вечер он подходил к мясному отделу и спрашивал скучающего детинушку в халате:
– А вырезки что, опять нет?
Он был большой масон, этот Циперович.
Дома он переодевался из чистого в теплое и садился кушать то, что ставила на стол жена, Фрида Моисеевна, масонка. Обычно ставила она вермишель с сыром, которую Ефим Абрамович тут же съедал.
Ужинал Ефим Абрамович без водки. Делал он это специально. Водкой масон Циперович спаивал соседей славянского происхождения. Он специально не покупал водки, чтобы соседям больше досталось. Соседи ничего этого не подозревали и напивались как свиньи. Он был очень коварный масон, этот Циперович.
– Как жизнь, Фима? – спрашивала Фрида Моисеевна, когда глотательные движения мужа переходили от «престо» к «модерато».
– Что ты называешь «жизнью»? – интересовался в ответ Ефим Абрамович. Масоны со стажем, они могли разговаривать вопросами до светлого конца.
После ужина Циперович звонил детям. Дети Циперовича тоже были масонами. Они масонили, как могли, в свободное от работы время, но на жизнь все равно не хватало, потому что один был студент, а в ногах у другого уже ползал маленький масончик по имени Гриша, радость дедушки Циперовича и надежда мирового сионизма.
Иногда из соседнего подъезда приходил к Циперовичу закоренелый масон Гланцман, недавно в целях конспирации от патриотов взявший материнскую фамилию Финкельштейнов. Гланцман пил с Циперовичем чай и жаловался на инсульт и пятый пункт своей жены. Жена была украинка и хотела в Израиль. Гланцман в Израиль не хотел, хотел, чтобы ему дали спокойно помереть здесь, где промасонил всю жизнь.
Они пили чай и играли в шахматы. Они любили эту нерусскую игру больше лапты и хороводов и с трудом скрывали этот постыдный факт даже на людях.
Выиграв две партии, Гланцман-Финкельштейнов, приволакивая ногу, уходил в свое сионистское гнездо, а Ефим Абрамович ложился спать и, чтобы лучше спалось, брал «Вечерку» с кроссвордом. Если попадалось: автор оперы «Демон», десять букв, Циперович не раздумывал.
Отгадав несколько слов, он откладывал газету и гасил свет над собой и Фридой Моисеевной, умасонившейся за день так, что ноги не держали. Он лежал, как маленькое слово по горизонтали, но засыпал не сразу, а о чем-то сначала вздыхал. О чем вздыхал он, никто не знал. Может, о том, что никак не удается ему скрыть свою этническую сущность; а может, просто так вздыхал он – от прожитой жизни.
Кто знает?
Ефим Абрамович Циперович был уже пожилой масон и умел вздыхать про себя.
Автобус
Кукушкин ехал в автобусе и думал о хорошем.
– Тебя расстрелять надо, – услышал он и поднял глаза.
– Расстрелять! – внятно повторила женщина с гладким личиком учительницы начальных классов.
– Меня? – не поверил все-таки ушам Кукушкин.
– Тебя, – подтвердила женщина.
– За что? – спросил Кукушкин.
– Чтобы ты не сидел здесь, – ответила женщина с лицом учительницы.
В автобусе стояла тишина понимания.
– А почему не его? – предложил Кукушкин и тыркнул пальцем в сидевшего впереди мужчину. Мужчина был толст, и, по наблюдениям Кукушкина, попасть в него при расстреле было бы значительно проще.
– И его, – успокоила Кукушкина женщина с лицом учительницы начальных классов.
– Может быть, тогда всех? – предложил Кукушкин.
– А что, и всех, – обрадовалась женщина.
На душе у Кукушкина полегчало.
– За что всех-то? – заорал автобус.
– За что надо, – строго отрезала женщина.
– А вас не будем расстреливать? – спросил Кукушкин.
На чистое лицо женщины легла тень напряженной умственной работы.
– Меня потом, – ответила она, завершив работу. – Меня – после перегибов.
– Замечательно, – сказал Кукушкин. – Когда начнем?
Автобус насторожился.
– Вношу предложение, – сказал Кукушкин. – Давайте прямо сейчас. Кто «за»?
«За» оказалось пол-автобуса.
– Активнее, товарищи, – попросил Кукушкин. – Раньше начнем – раньше кончим.
Проголосовали остальные. Против оказался только толстяк, намеченный к расстрелу непосредственно после Кукушкина.
– В чем дело, товарищ? – нервничая, спросила женщина с лицом учительницы. – Не срывайте мероприятия!
– Позор отщепенцу! – крикнули с первых сидений.
Толстяку было предоставлено последнее слово. Он поднялся и в голос зарыдал.
– Свой я, товарищи, – рыдал толстяк. – Свой! Я не против, чтоб расстреливать, но зачем же сейчас? После остановки давайте, – там вон еще сколько народу войдет!..
Литература и искусство
В воскресенье днем Николаю Бекасову осточертела жизнь. Но не своя, а жены.
Женат он был почти четыре года, из них три с половиной – неудачно. В воскресенье же днем чаша переполнилась, и Бекасов задумал недоброе.
Уже полчаса он лежал на диване и, изводя себя, слушал, как шваркает на кухне крышками его обреченная половина. И все эти полчаса угрюмо шлялась вдоль бекасовских гарнитуров худая тень студента Раскольникова с тяжелым предметом в руках.
«Тварь я дрожащая, – глядя в потолок, спрашивал себя Бекасов, – или право имею?»
И его читательский опыт ответил ему: Коля, ты имеешь право, но тебя поймают. Навалится какой-нибудь худой с дедуктивным методом, не говоря уже об отечественных майорах – эти вообще на метр в землю видят – щелк наручниками, и поведут тебя, Коля, под шелест страниц УК РСФСР… Много за нее, конечно, не дадут, думал Бекасов, хищно пошевеливая в носках пальцами ног, но анкета уже не та…
Нет, решил он, надо действовать интеллигентно! И от собственного коварства у Бекасова приятно заныло в животе.
На следующий день, напевая из «Аиды», Бекасов извлек из портфеля последний том «Анны Карениной» и расписание движения пригородных поездов Ленинградской железной дороги. Обе книжки были любовно положены на спальную тумбочку жены – женщины, по наблюдениям Бекасова, простой, но догадливой.
За следующий день никаких изменений в семейном состоянии Бекасова не произошло – может быть, он переоценил догадливость супруги. Или недооценил простоту.
В последующие несколько суток на тумбочку жены последовательно легли: драма А. Н. Островского «Гроза» с приложением карты «Москва – порт пяти морей» и брошюры «Учитесь плавать!», роман Г. Флобера «Мадам Бовари» с вложенной в него рекламой ядохимикатов и трагедия В. Шекспира «Антоний и Клеопатра» с билетом в террариум.
Но даже пример египетской царицы не пронял чугунного сердца бекасовской супруги.
Через месяц он опустился до периодики.
Через два, уже небритый, тайком вырезал в библиотеках страшные судебные очерки из многотиражек «Таежная правда» и «Вестник пустыни», а через три – запил.
Особенно же сильно запил он через полгода – в день, когда прочел в академическом сборнике статью своей жены, филолога Бекасовой.
Статья называлась «Женская судьба в зеркале мировой литературы».
С полученного гонорара (что совпало с пятилетием супружеской жизни) Бекасову было подарено прекрасное издание гетевского «Вертера» и повешена над кроватью репродукция картины Рембрандта «Юдифь с головой Олоферна».
Проблемы Паши Пенкина
Паша Пенкин давно уже заподозрил неладное. В первый раз еще осенью, когда биологичка изрисовала ему весь дневник «гусями», а в четверти как ни в чем не бывало вывела тройку, хотя Пенкин ничего такого не просил.
Человеком он был неученым, но любознательным и вскорости нашел случай подсмотреть страницу в журнале, где напротив своей фамилии обнаружил совсем не то, что значилось в дневнике. То есть ну совсем другие цифры. Паша Пенкин был совсем еще юн и не знал, что за низкий процент успеваемости учителей на педсовете лишают сладкого.
«Как же так?» – подумал он сначала. «Чего ж я страдал?» – с законным возмущением спросил себя потом и, не найдя ответа, принес на следующий урок жабу и подложил биологичке на стол. Жаба была настоящая, и эффект вышел замечательный: училка кричала: «Уберите это безобразие!» – а безобразие пучило глаза и прыгало по тетрадкам. Все, в общем, было здорово, и только вопросы, мучившие Пенкина, по-прежнему оставались без ответа.
И вот на классном часе, когда эта пигалица Сидорова пропищала, что их показатели по учебе и впредь будут на высоте, Пашу осенило. Он начал связывать явления и в минуту постиг всю механику. Показатели представились ему в виде воздушных змеев, которых учителя вместе с особо одаренными детьми запускают на спор – у кого выше.
Тут почему-то вспомнился Пенкину щенок ирландского сеттера Джим, за которого он отдал летом мамин подарок, транзисторный приемник «Турист». «Турист» перекочевал к угреватому сельскому переростку, а щенок ирландского сеттера вырос и стал удивительно похож на отечественную дворняжку. Мама всплескивала руками, Пенкин, вздохнув, переименовал Джима в Шарика, но от родительских прав не отказался…
Он начал всматриваться в жизнь; он украл из школьного буфета килограммовую гирьку и взвесил ее. Гирька недотягивала тридцати граммов, и Паша гирьку не вернул. В его жизни наступила пора ясности: он понял, что слова вообще не имеют с жизнью ничего общего – вроде гипсовых пионеров с трубами в пионерлагере, где можно кидаться подушками во время тихого часа…
Стояла зима. Уроков Пенкин не учил, получал, что давали, и жил в свое удовольствие, пока однажды на физике не прочел записку следующего содержания: «Пенкин! Идем сегодня в „Неву“ на „Ступени супружеской жизни“?»
Он пошарил взглядом по классу, наткнулся на внимательные темно-серые глаза Анечки Куниной и кивнул.
Сразу после школы Паша помчал в кино, отстоял очередь и на единственный рубль купил два билета на вечер. Дома он понял, что влюбился; бродил как лунатик по квартире, обеда не ел, уроков не учил, полчаса расчесывал у зеркала вихры, а потом еще час простоял, сжимая в красной руке билетики, у входа в кинотеатр и промерз как собака безо всякой пользы – без пользы, потому что Анечка не пришла, а промерз, потому что обещали минус два – четыре, а стукнуло минус десять.
Пенкин брел домой и думал, что больше никогда никому не поверит – ни женщинам, ни радио.
Мама сказала: «О, господи» и, напоив его чаем с малиной, уложила в постель. Малина была сладкая, а чай – горячий, и, засыпая, Пенкин подумал, что, пожалуй, для мамы он сделает исключение.
Утром на перемене Анечка объяснила ему: вчера она пошла с Колькой Орловым на «Экипаж»; если б она знала раньше, что в «Варшаве» идет «Экипаж», пошла бы с ним, с Пашей Пенкиным.
– Ты не сердишься? – спросила Анечка, склонив набок хорошенькую головку, но Пенкин промолчал – из гордости и потому что осип, несмотря на малину. «Никому нельзя верить, – мрачно думал он, рисуя самолеты на промокашке. – Никому».
В глубине души Пенкин уже не понимал, как мог полюбить такую дуру, но было обидно из принципа.
Вечером мама все-таки отвела его в поликлинику, где Пашу посадили к какому-то аппарату, поставив перед носом песочные часы.
– Следи, – строго предупредила тетка в белом халате. – По минуте на ноздрю, понял?
– Угу, – сказал Паша, глядя, как сыплется песочек из прозрачного конуса. Когда тетка в белом ушла за занавеску, Паша вынул трубку из ноздри, поводил носом туда-сюда и, подождав, пока верхний конус опустеет, перевернул часы и засек время.
– Посмотрим, посмотрим… – возбужденно шептал он, глядя то на струйку песка, то на циферблат.
Последняя песчинка упала вниз на пятьдесят второй секунде.
Пенкин сидел и ошалело смотрел на неподвижную горку в нижнем конусе часов. «Вот это да! – сказал он, когда к нему возвратился дар речи. – Вот это я понимаю!»
Но он уже ничего не понимал.
До дому было недалеко.
– Знаешь, мам, больше я в эту поликлинику не пойду, – помолчав, сообщил Пенкин.
– Вот еще новости, – сказала мама. – Пойдешь как миленький.
– Нет, – мрачно ответил Пенкин. – Вот увидишь.
Они подходили к своему подъезду, оставив позади вечерние огни улицы и стройку жилого дома, в котором по всем бумагам уже три года как жили люди.
Дома их, повизгивая от радости, встретил ирландский сеттер Шарик.
Тимофеевы
Тимофеев работает в одном серьезном учреждении.
Каждое утро, позвякивая ключами, он сходит по лестнице, чуть кивнув вахтеру, открывает тяжелую дверь и попадает на улицу. Там опускается снег, там льет дождь, там печет солнце, но все это беспокоит Тимофеева не более полуминуты. Потом он включает зажигание и, помигивая левым поворотом, выезжает в переулок.
Елозят по стеклу «дворники», мурлычет кассета, Тимофеев едет на работу, и никто в целом мире не знает его тайны. Кроме меня. А я никому не расскажу. Кроме вас.
Дело в том, что – только вы не пугайтесь! – внутри Тимофеева, под отличным финским плащом и костюмом, живет другой Тимофеев, такой же, но поменьше.
Тот, другой, похож на первого, но длинноволос, любит запах стружки и табака и песни «Битлов». Для хорошего настроения ему достаточно обнаружить за подкладкой мелочь серебром или пройти метров сто позади женщины, если женщина стройная. Он запросто влезает в набитые автобусы и чуть-чуть презирает владельцев автомашин, включая и этого, в финском плаще. И когда серая тимофеевская «Лада» катит по осеннему проспекту или пробивается сквозь месиво вечерних пешеходов, тот, второй, всегда хмыкает где-то там, внутри: надо же, мол, буржуй, машину завел…
Друг друга они раздражают.
То длинноволосый поворачивает ответственное тимофеевское лицо за ножками и при этом гурмански вытягивает в трубочку тимофеевские губы – Тимофеев, чуть заметит это, всегда спохватывается, ругает длинноволосого, краснеет и ставит все на место. То, стоит Тимофееву отвлечься, исподтишка ослабляет пальцем узел галстука – не нравятся длинноволосому галстуки, и все тут!
Но хуже всего на собраниях. Тут Тимофеев только знай присматривает, чтобы тот, который внутри, не корчил рож начальству и не смеялся в голос. «Кончай хулиганить», – шипит он, изо всех сил борясь с выражением лица, а длинноволосый, стервец, непременно норовит зевнуть, так что сидит Тимофеев в президиуме с постоянно сведенными скулами.