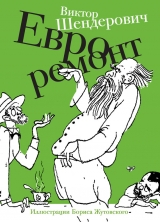
Текст книги "Евроремонт (сборник)"
Автор книги: Виктор Шендерович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
А в Почесалове тем временем наступил порядок. Поначалу ничто этого не предвещало, и многим даже казалось, что все обойдется. Но – не обошлось.
Новая эпоха началась невзрачно. Ближе к сроку городской голова вывел с собой за ручку из палаты небольшого человека незапоминающейся внешности. Этого, сказал, оставляю за себя.
– Этого? – переспросили почесаловцы, не поверив то ли ушам, то ли глазам.
– Этого, этого, – заверил городской голова.
– А это кто? – осторожно уточнили почесаловцы.
– А вот увидите, – пообещал голова.
– Так ить выборы. – напомнили почесаловцы.
– А вот его и выберете, – успокоил голова, видевший будущее насквозь.
– Может, не надо? – ляпнул один бестактный почесаловец. Человек незапоминающейся внешности повернул голову и ласково на него посмотрел, запоминая. Позже выяснилось, что память ему тренировали в специальном месте – там же учили пить не пьянея, поддерживать приятную беседу и пускать иглы под ногти.
Наутро на дом к сомневающемуся пришли восемнадцать человек, частично в масках. Первые восемь были из прокуратуры, остальные из налоговой полиции, пожарной инспекции, наркоконтроля и общества защиты животных. Последним подоспел чувачок из санэпидемстанции со своими тараканами.
Сомневающегося с заломленными руками провели через город, и с тех пор в Почесалове никто ни в чем не сомневался.
Лицо человека с незапоминающейся внешностью почесаловцам пришлось впоследствии запомнить очень хорошо – восемь лет напролет, дрожа от счастья, они вышивали это лицо крестиком, отливали в чугуне и лепили из пластилина. Малые дети писали по его имени прописи, ткачихи прилюдно кончали от звука негромкого голоса, художественная интеллигенция занимала очередь, чтобы постирать благодетелю носки после отбоя.
Как это все получилось, никто потом объяснить не мог. Психиатры склонялись к гипнозу, философы кивали на недоступную уму почесаловскую ментальность, историки привычно валили все на татаро-монголов.
Но сверх того – при новом начальнике завелась в луже говорящая щука, умевшая повышать цену за баррель. А баррель-батюшка был в тех широтах единственным источником жизни (ничем рукодельным почесаловцы мир порадовать не могли по некоторым особенностям телосложения: руки у них росли не из того места).
А щука разговорилась: сегодня сорок долларов выкрикнет, завтра все восемьдесят. Короче, поперло. Года не прошло – наполнились почесаловские закрома золотом по самый верх. Новый начальник, ходя по трудовым коллективам, горстями раздавал излишки и бойко шутил; население отвечало обмороками благодарности.
Насчет лужи начальник оказался строг необычайно: сейчас, сказал, мы положим этой мерзости конец! Вот прямо сейчас. И выйдя на берег, посмотрел на лужу холодным внимательным взглядом. Лужа сразу усохла на полметра – по крайней мере, об этом сообщило почесаловское телевидение, а почесаловское телевидение – это вам не Си-эн-эн какое-нибудь: эти ежели чего сказали – умри, но поверь!
Очень скоро почесаловцам открыли окончательную правду – это, оказывается, демократы во всем виноваты! Это они совратили народ с пути истинного, начальстволюбивого и в лихую годину безвластия ссали в лужу по заданию ЦРУ..
Демократов в Почесалове было много, человек пять. Уже несколько веков они начинали утро с покаяния, а тут, по высочайшей отмашке, болезных начали гонять по пейзажу, с улюлюканьем и посвистом. Дегтя и перьев истрачено было немерено, но уж и радости населению случилось – давно такой не было!

На глазах у перепуганного мира Почесалов вставал с коленей.
Излишек средств пробудил в горожанах фантазии доселе невиданные. Всякий честный почесаловец сделал себе карпатский евроремонт, элита перешла с онучей на версачей и взяла в кредит по джипу с кенгурятником. Каждый третий с Лазуркой, каждый второй с мигалкой, и все стали такие гламурные, что хоть не мойся.
Про элиту следует уточнить отдельно. Раньше, в лихие годы безвластия, почесаловской элитой были всякие бесчестные абрамычи, чуть не погубившие Среднерусскую возвышенность – теперь к власти пришли наконец настоящие патриоты: свояки и двоюродные нового начальника, друзья его юности, товарищи по кооперативу и коллеги по пыточной. Все они переехали в Почесалов и переделили промеж себя все, что лежало плохо или просто неправильно.
Отныне почесаловцы могли вздохнуть с облегчением: на Родине все теперь было под полным контролем; приступили к окрестностям.
Окрестности эти давно и настоятельно требовали мордобоя. Замечено было, что те, которые живут вокруг, Почесалов не любят. То есть буквально в кого ни плюнь – не рады встрече, уроды неблагодарные! Ну что сказать? – не повезло почесаловцам с человечеством.
Мордобой так мордобой. Это дело почесаловцы любили, имея в запасе на всякую дипломатическую ноту по паре ядреных боеголовок. С холодных времен в большом бункере под лужей пупырилась взаперти большая красная кнопка – рядом с картой мира, иконой и надписью старославянской вязью “Так не доставайся же ты никому”.
Завели, короче, под Пасху такой православный обычай: чуть кто плохо про Почесалов отзовется – сразу ему в рыло! И, пока лежит без сознания, отрезать, чтобы не выросло. Начальник во вкус вошел, раздухарился, по глобусу разъезжать начал, козью морду делать. Старожилы удивлялись: как он, такой крутой-беспощадный, полвека прожил тише воды, ниже травы?
Борьба с лужей тем временем вошла в решающую фазу – фазу освоения бюджета. Череда блестящих национальных проектов по осушению позволила передовой группе родных и близких лидера нации решительно войти в первую сотню списка “Форбс”, выбросив оттуда два десятка зазевавшихся старожилов. В честь этой победы в Почесалове был объявлен дополнительный выходной.
Чистая формальность был тот выходной – не затем они вообще вставали с коленей, чтобы работать! Для этого теперь были азиаты.

На краю лужи пришвартовалась белоснежная яхта патриотического олигарха – на ней и гуляли, пока не выпал снег. Начальник же, в чьем организме скручена была пружина, не позволявшая подолгу сидеть на одном месте, слетал мухой на экватор и подарил каждому туземцу по набору матрешек, фаршированных черной икрой. Благодарные туземцы постановили за это провести в Почесалове зимние игры на деньги ООН.
В предвкушении новых спортивных побед, совмещенных с халявой, почесаловцы чуть не умерли от гордости и перепоя. Голые, разрисовав себя кольцами, они прыгали в лужу и, сколько могли, праздновали там.
Когда, прямо посреди праздника, грянуло время выбирать нового начальника, начались суициды – никого другого над собой почесаловцы представить уже не могли. А тот, по личной скромности, кочевряжиться начал: закон есть закон, говорит. Я, говорит, немею перед законом. Уйду, говорит, вот прямо сейчас уйду, держите меня семеро.
Еле уговорили.
Специально обученная ткачиха рыдала на плече, деятели культуры привычно ели землю, группа ученых вышла к общественности с чертежами и доказала, что, ежели начальник уйдет, оная земля сей же час разверзнется и поглотит Почесалов.
В общем, как ни измучен служением народу был лидер нации, а раз такое дело – пообещал мучиться дальше, не бросил несчастных на произвол судьбы! А чтобы враги закулисные языки свои поганые прикусили, пересел понарошку из главного кресла на соседнее, а в свое посадил одного совсем маленького, без цвета, запаха и биографии, – чисто подержать место.
На инаугурацию в луже соорудили фонтаны, причем назло Женеве, из принципа, дали струю на метр выше.
Гулянья были в самом разгаре, когда специальный человек на яхте отозвал в сторонку другого специального человека и что-то ему шепнул в самое ухо.
– Не может быть, – сказал тот.
– Может, – ответил первый.
Второй помрачнел и, подойдя к банкетному столу, долго глядел в мертвые глаза рыбе, лежащей на блюде. Тут и остальные помаленьку перестали бродить по периметру и собрались наконец вокруг рыбьего костяка с головой. И шепот пролетел по зале.
Да, это была щука.
Задние две трети ее были уже съедены благодарными почесаловцами, и ничего хорошего сказать им она больше не могла.
Наутро цена за баррель стала какая была до щучьего веления.
Кризис почесаловцы вынесли стойко: в список “Форбс” вошли напоследок еще несколько родных и близких лидера нации. Остальные почесаловцы закочумали своими силами. Яхта ушла на Антибы, а лужа осталась. По весне она всякий раз выходила из берегов, затапливая пустынные огороды и замершие строительные площадки; несколько раз бесследно смывало окрестные деревеньки, но население при вести об этом душевного равновесия не теряло, а продолжало стоически кочумать, не моргнув глазом.
А чего зря моргать! – жизнь в здешних широтах всегда стоила копейку. Твердо ориентируясь на эту цену, почесаловцы считали себя потомками римлян и всем видам дорог предпочитали аппиеву.
Рим Римом – однако ж на третью осень без халявы в Почесалове начался разброд. Заговорили! Сначала те, которые подальше, и шепотом, а потом вслух, среди бела дня да на каждом углу. Почесаловцы и сами ушам не поверили: с тех пор как через город провели с заломленными руками того сомневающегося, никто тут сам по себе не разговаривал. Спросит чего начальство – отвечали по утвержденному сценарию; не спросит – молчат в тряпочку.
А тут зашелестело по городу и про то, и про се, причем особенно про се! И насчет блестящих нацпроектов все вдруг разом заметили, что бюджет исчез, а лужа осталась. Хотя первоначально планировалось ровно наоборот.
И незнакомым тревожным взглядом почесаловцы стали поглядывать на лидера нации, в ногах у которого еще давеча ели грунт.
Лидер, уже заметно постаревший на своих галерах, из последних сил делал для нации все что мог: ездил на драндулете, пел под караоке, доставал со дна лужи древнегреческие амфоры, кормил с руки белочек, целовал в пузико детей и фотографировался голым в бандане и черных очках.
В прошлые годы все это очень помогало, но на восьмой раз фотографа наконец стошнило, и хотя его, конечно, казнили, но выводы сделали и благодетелю мягко заметили, что с топлесом пора завязывать. И детей прочь убрали, от греха подальше.
Белочки в звании лейтенантов тоже получили полное атанде.
А чиновный почесаловский люд, отличавшийся невероятной метеорологической чувствительностью (в смысле понимания, откуда ветер дует), зачастил к маленькому, которого пару лет назад, для отвода глаз, в руководящее стуло посадили.
А маленький расти стал не по-детски. Еще, кажется, вчера до пола ножками не доставал, а тут вдруг доел тертое яблочко и самостоятельно проковылял от стула до кроватки, что-то гулькая.
Что он там гулькает, охрана сначала не расслышала, а расслышав, чуть не врезала коллективного дуба по месту службы.
– Свобода лучше, чем несвобода! – щебетал маленький и сам смеялся этой милой глупости. – Свобода лучше, чем несвобода!
Когда слух об этой речи пролетел по Почесалову, из щелей полезли наружу демократы, все пять человек. Им дежурным образом поломали руки-ноги, вываляли в дегте и перьях и оштрафовали за нарушение общественного порядка.
Новый гарант тем временем продолжал есть тертое яблочко и гулькать приятные слова – на звуки снаружи он вообще не отвлекался. Рос новенький хорошо, кушал замечательно и гулькал все громче и демократичнее, что привело к появлению международной доктрины о скорой перемене политического курса в Почесалове.

Откуда взялась сия доктрина, какой переломанной рукой была написана, так и осталось неизвестным. Жизнь текла по пейзажу своим чередом: отпетые римляне пробавлялись подножным кормом, летом выгорали дома, зимой замерзали несгоревшие. тому отбивали почки в околотке, этого ухайдакивали в казарме бравы ребятушки, иного поджидала костлявая в тюремном лазарете, – но все, включая покойных, понимали теперь, что это только частность, пылинка на сияющем пути прогресса!
Прогресса почесаловцы ждали, как ждут автобуса: придет – поедем. А не придет, так и ладно. Всегда готовы были они пойти пешком, а скажут – так лечь плашмя. Татаро-монголы действительно помогли прибрать из генов излишки гордости – спасибо товарищу Батыю за наше счастливое детство!
И затикало в Почесалове странное время. Непонятно было: то ли в самом деле прогресс, то ли просто дали подышать напоследок. Улицы несколько опустели – кто спился, кто съехал по-тихому; иные учили впрок китайский. Начальники ходили теперь везде вдвоем, старенький да маленький, каждый со своим репертуаром. Старенький мочил по сортирам, маленький про свободу гулькал. Бедные почесаловцы не знали, что и думать. А на вопрос “что делаете?” отвечали, озираясь: ждем двенадцатого года.
Отчего-то казалось им, что в двенадцатом году что-то такое решится само. Французов, что ли, ждали? Я, признаться, так и не понял. Пока писалась сия новейшая история, лето прошло; поднявши голову от рукописи, автор обнаружил за рамами осень.
Лужа, что твой айвазовский, шла бурунами, заплескивая во дворы, небо привычной овчинкой покрывало родной пейзаж; но иногда вдруг что-то наверху расступалось – светлело, солнышко пригревало облупленные стены и насиженные завалинки, и котяра на ступеньках бывшего горкома нежился так сладко, что казалось – все еще будет хорошо!
И то сказать – не может же быть, чтобы вовсе сгинул Почесалов, давший миру столько красоты, простора и недоумения! Нет, нет, кривая вывезет. Всегда вывозила.
Зайду-ка я сюда лет еще через двадцать.
Не раньше.

Октябрь 2010
Из последней щели (подлинные мемуары фомы обойного)

I
В тяжелые времена начинаю я, старый Фома Обойный, эти записки. Кто знает, что готовит нам слепая судьба за поворотом вентиляционной трубы?
Жизнь тараканья до нелепости коротка. Это, можно сказать, жестокая насмешка природы: люди и те живут дольше! Люди, которые неспособны ни на что, кроме телевизора и своих садистских развлечений. А таракан, венец сущего, горько писать об этом.

В минуты отчаяния я часто вспоминаю строки великого Хитина Плинтусного:
...
Так и живем, подбирая случайные крошки,
Вечные данники чьих-то коварных сандалий…
Кстати, о крошках. Чудовище, враг рода тараканьего, узурпатор Семенов сегодня опять ничего не оставил на столе. Все вытер, подмел пол и тут же вынес мусорное ведро. Негодяй хочет нашей погибели, в этом нет сомнения. Жизнь его не имеет другого смысла; даже глядя в телевизор, он только ищет рекламы какой-нибудь очередной дряни, чтобы ускорить наш конец. Ужас, ужас!
Но надо собраться с мыслями; не должно мне, подобно безусому юнцу, перебегать от предмета к предмету. Может статься, некий любознательный потомок, шаря по щелям, наткнется на мой манускрипт – пусть же узнает обо всем! Итак, узурпатор Семенов появился на свет наутро после того, как Еремей совершил Большой Переход.
О, великие страницы истории исчезают бесследно; этих-то, нынешних, ничего не интересует – лишь бы побалдеть у газовой конфорки. И потом – эта привычка спариваться у всех на глазах… А спроси у любого: кто такой Еремей? – дернет усиком и похиляет дальше. Стыд! Ведь это имя гремело по щелям, одна так и называлась – щель Любознательного Еремея, но ее переименовали во Вторую Бачковую…
Было так: Еремей пропал без всякого следа, и мы уже думали, что его смыло в раковину – в те времена мы и гибли только от стихийных бедствий. Однако он объявился вечерком, веселый, но какой-то нервный. Ночью мы сбежались по этому поводу на дружескую вечеринку. На столе было несчетно еды – в то благословенное время вообще не было перебоев с продуктами, их оставляли на блюдцах и ставили в шкафы, не имея дурной привычки все совать в целлофановые пакеты; в мире царила любовь; права личности еще не были пустым звуком. Да что говорить!
Так вот, в тот последний вечер, когда Иосиф с Тимошей раздавили на двоих каплю отменного ликера и пошли под плинтус колбасить с девками, а Степан Игнатьич, попив из раковины, в ней уснул, мы, интеллигентные тараканы, заморив червячка за негромкой беседой, собрались на столе слушать вернувшегося Еремея.
То, что мы услышали, было поразительно.
Еремей говорил, что там, где кончается мир – у щитка за унитазом, – мир не кончается.
Он говорил, что если обогнуть трубу и взять левее, то можно сквозь щель выйти из нашего измерения и войти в другое, и там тоже унитаз! Сегодня любому недомерку двух дней от роду известно, что мир не кончается у щитка – он кончается аж метров на пять дальше, у ржавого вентиля. Но тогда!..

Еще Еремей утверждал: там, где он был, тоже живут тараканы – и неплохо живут! Он божился, что тамошние совсем не похожи на нас, что они другого цвета и гораздо лучше питаются.
Сначала Еремею не поверили: все знали, что мир кончается у щитка за унитазом, – но Еремей стоял на своем и брался показать.
– А чего тебя вообще понесло в эту щель? – в упор спросил у Еремея нервный Альберт (он жил в одной щели с тещей). Тут Еремей, покраснев, признался, что искал проход на кухню, но заблудился.
И тогда мы поняли, что Еремей не врет. Побежав за унитазный бачок, мы сразу нашли эту щель и остановились возле нее, шевеля усами.
– Хорошая щелочка, – напомнил о себе первооткрыватель.
– Офигеть, – сказал Альберт.
Он первым заглянул внутрь и уже скрылся до половины, когда раздался голос Кузьмы Востроногого, немолодого таракана строгих правил.
– Не знаю, не знаю. – проскрипел он. – Может, и хорошая. Только не надо бы нам туда.
– Почему? – удивился я.
– Почему? – удивились все.
– Потому что, – закрыл тему Кузьма.
Но этого разъяснения хватило не всем, и он напомнил:
– Наша кухня лучше всех!
С младых усов слышу я эту фразу. И мама говорила, и в школе, и сам сколько раз, и все это тем более удивительно, что никаких других кухонь до Еремея никто из нас не видел.
– Наша кухня лучше всех, – немедленно согласились с Кузьмой тараканы; с Кузьмой затруднительно было не соглашаться.
– Но почему нам нельзя посмотреть, что там, за щитком? – крикнул настырный Альберт. Жизнь в одной щели с тещей сильно испортила его характер.
Кузьма внимательно посмотрел на говорившего:
– Нас могут неправильно понять.
– Кто? – крикнул склочный Альберт.
– Откуда мне знать, – многозначительно ответил Кузьма, и оглядел присутствующих. Тут, непонятно отчего, я почувствовал тоскливое нытье в животе – и, видимо, не я один, потому что все, включая Альберта, немедленно снялись и пошли обратно на кухню.

Вернувшись, мы дожевали крошки и, разбудив в раковине Степана Игнатьича, которого опять чуть не смыло, разошлись по щелям, размышляя о преимуществах нашей кухни. А наутро и началось несчастье, которому до сих пор не видно конца.
Ход вещей, нормы цивилизованной жизни – все пошло прахом. Огромный мир, мир теплых местечек и хлебных крошек, мир, мир, просторно раскинувшийся от антресолей аж до ржавого вентиля, был за день узурпирован тупым существом, горой мяса с длинными ручищами и глубоким убеждением, что все, до чего эти ручищи дотягиваются, принадлежит исключительно ему!
Первыми врага рода тараканьего увидели Иосиф и Тимоша. Поколбасив под плинтусом, они выползли под утро подкрепиться чем Бог послал, но Бог послал Семенова. Иосиф, отсидевшись за ножкой, подкрепился позже, а Тимоше не довелось больше есть никогда.
Семенов зверски убил его.
Дрожащей лапкой пишу об этом, но что ж! – тараканья история кишит жестокостями. Сколько живем, столько терпим от людей. Нехитрое дело – убить таракана; летописи переполнены свидетельствами о смытых, раздавленных и затоптанных собратьях наших. Человек – что с него взять. Бессмысленное существо, которому хочется как-то заполнить время, когда оно не ест, не спит и не смотрит в телевизор, – а разума, чтобы плодотворно пошебуршиться, нет!
Да и откуда в них взяться разуму? Когда Бог создал кухню, ванную и туалет, провел свет и пустил воду, он создал, по подобию своему, таракана – и уже перед тем, как пойти поспать, наскоро слепил из отходов человека. Лучше бы он налепил мусорных ведер на голодное время! Но видно, Бог сильно утомился, творя таракана, и на него нашло затмение.
Это Господне недоразумение, человек, сразу начал плодиться и размножаться, а так как весь разум, повторяю, ушел на нас, то нет ничего удивительного в том, что дело кончилось телевизором и этим тупым чудовищем Семеновым.
…Иосиф, сидя за ножкой видел, как узурпатор взял Тимошу за ус и унес в туалет, вслед за чем раздался звук спускаемой воды. Враг рода тараканьего даже не оставил тела родным и близким покойного.
Когда шаги узурпатора стихли, Иосиф быстренько поел и побежал по щелям рассказывать о Семенове.
Рассказ произвел сильное впечатление. Особенно удались Иосифу последние секунды покойника Тимоши. Иосиф смахивал скупую мужскую слезу и бегал вдоль плинтуса, отмеряя размер семеновской ладони.
Размер этот никому из присутствующих не понравился. Мне он не понравился настолько, что я попросил Иосифа пройтись еще разок. Я надеялся, что давешный ликер не кончил еще своего действия и рассказчик, отмеряя семеновскую ладонь, сделал десяток-другой лишних шагов.
Иосиф обиделся. Он побледнел. Он сказал, что, если кто-то ему не верит, этот кто-то может выползти на середину стола и во всем убедиться сам. Иосиф выразил готовность залечь у вентиляционной решетки с группой компетентных тараканов, а по окончании эксперимента возьмет на себя доставку скептика родным и близким – если, конечно, Семенов предварительно не спустит того в унитаз, как покойника Тимошу.
Иосифу принесли воды, и он успокоился.
Так началась наша жизнь при Семенове, если вообще называть жизнью то, что при нем началось.
II
Первым делом узурпатор заклеил все вентиляционные решетки. Он заклеил их марлей, и с тех пор из ванной на кухню пришлось ходить в обход, через двери, с риском для жизни, потому что в коридоре патрулировал этот изувер.
Впрочем, спустя совсем короткое время, риск путешествия на кухню стал совершенно бессмысленным: Семенов начал вытирать со стола объедки и выносить ведра, причем с расчетливым садизмом особенно тщательно делал это поздно вечером, когда у всякого уважающего себя таракана только-только разгуливается аппетит и начинается настоящая жизнь.
Конечно, у интеллектуалов вроде меня имелось на такой случай несколько загашников, но уже через пару недель призрак дистрофии навис над нашим непритязательным сообществом. Иногда я засыпал в буквальном смысле слова без крошки хлеба, перебиваясь капелькой воды из подтекающего крана (чего, слава богу, изувер не замечал); иногда, не в силах сомкнуть глаз, выходил ночью из щели и в тоске глядел на сородичей, уныло бродивших по пустынной клеенке. Случались обмороки; Степан Игнатьич дважды срывался с карниза, Альберт начал галлюцинировать вслух, чем регулярно создавал давку под раковиной: чудилось Альберту бесследное исчезновение тещи, возвращение Шаркуна и набитое доверху мусорное ведро.
Ах, Шаркун, Шаркун! Вспоминая о нем, я всегда переживаю странное чувство приязни к человеку, вполне, впрочем, простительное моему сентиментальному возрасту.
Конечно, ничто человеческое не было ему чуждо – увы, он тоже не любил тараканов, жаловался своей прыщавой дочке, что мы его замучили, и все время пытался кого-нибудь прихлопнуть. Но дочка, хотя и обещала нас куда-то вывести, обещания своего не выполнила (так и живем где жили, без новых впечатлений), а погибнуть от руки Шаркуна мог только закоренелый самоубийца. Он носил на носу стекляшки, без которых не видел дальше носа, а когда терял их, мы могли вообще столоваться с ним из одной тарелки. Милое было время, что говорить!
Но я опять отвлекся.
Вскоре после начала семеновского террора случилось важное. Братья Геннадий и Никодим, чуть не погибнув во время утренней пробежки, успели улизнуть от семеновского тапка – и с перепугу сочинили исторический документ, известный как “Воззвание из-под плинтуса”. В нем братья обличали Семенова и призывали тараканов к единству.

Увы, тараканы и в самом деле очень разобщены – отчасти из-за того, что венцом творения считают не таракана вообще (как идею в развитии), а каждый сам себя, отчасти же по неуравновешенности натуры и привычке питаться каждый своей, отдельно взятой крошкой.
Один раз, впрочем, нам уже пытались привить коллективизм. Было это задолго до Семенова, в эпоху Большой Тетки. Эпоха была смутная, а Тетка – коварная: она специально оставляла на клеенке лужи портвейна и закуску, а сама уходила со своим мужиком за стенку, из-за которой потом полночи доносились песни и отвратительный смех.
Тайный смысл этого смеха дошел до нас не сразу, но когда от рези в животе начали околевать тараканы самого цветущего здоровья; когда жившие в ванной стали терять координацию, срываться со стен и тонуть в корытах с мыльной водой; когда, наконец, начали рождаться таракашки с нечетным количеством лапок – тогда только замысел Большой Тетки открылся во всей черноте: Тетка, в тайном сговоре со своим мужиком, хотела споить наш целомудренный, наивный, доверчивый народ.

Едва слух о заговоре пронесся по щелям, простой таракан по имени Григорий Зашкафный ушел от жены, пошел в народ, развил там агитацию и всех перебудил. Не прошло и двух ночей, как он добился созыва Первого всетараканьего съезда.
Повестка ночи была самолично разнесена им по щелям и звучала так:
п. 7. Наблюдение за столом в дообеденное время.
п. 12. Меры безопасности в обеденное.
п. 34. Оказание помощи в послеобеденное.
п. 101. Всякое разное.
Впоследствии (под личной редакцией бывшего Величайшего Таракана, Друга Всех Тараканов и Основателя Мусоропровода Памфила Щелястого) историки неоднократно описывали Первый всетараканий съезд, и всякий раз выходило что-нибудь новенькое, поэтому, чтобы никого не обидеть, буду полагаться на рассказы своего собственного прадедушки.
Помнилось прадедушке вот что. Утверждение повестки ночи стало первой и последней победой Григория. Тараканы согласились на съезд при условии, что будет буфет, причем подраковинные заявили, что если придет хоть один плинтусный, то они за себя не ручаются, а антресольные первым делом создали фракцию и потребовали автономии.
Подробностей прадедушка не помнил, но, в общем, дело кончилось банальной обжираловкой с лужами теткиного портвейна и мордобоем, то есть, минуя п.п. 7, 12 и 34, сразу перешли к п. 101.
Григорий, не вынеся стыда, наутро сжег себя на задней конфорке.
Остальных участников съезда спасло как отсутствие вышеозначенного стыда, так и то счастливое обстоятельство, что эпоха Большой Тетки скоро кончилась сама собой: однажды она спела дуэтом со своим мужиком такую отвратительную песню, что под утро пришли люди в сапогах и обоих увели, причем Тетка продолжала петь.
Напоследок мерзкая дрянь оставила в углу четыре пустые бутылки, в которых тут же сгинуло полтора десятка так и не организовавших наблюдения тараканов.
…Дух Григория, витавший над задней конфоркой, осенил Никодима и Геннадия: спасшись от семеновского тапка, братья потребовали немедленного созыва Второго всетараканьего съезда.
В полночь “Воззвание из-под плинтуса” было прочитано по всем щелям с таким выражением, что тараканы немедленно поползли на стол, уже не требуя буфета. (Тараканы – существа чрезвычайно тонкие и очень чувствительные к интонации, причем наиболее чувствительны к ней малограмотные, а из этих последних – косноязычные).
Выползши на стол, антресольные по привычке организовали фракцию и потребовали автономии, но им пооткусывали задние ноги, и они сняли вопрос.
Слово для открытия взял Никодим. Забравшись на солонку и вкратце обрисовав положение, сложившееся с приходом Семенова, а также размеры его тапка, он передал слово Геннадию для внесения предложений по ходу работы съезда.

Взяв слово и тоже вскарабкавшись на солонку, Геннадий предложил избрать президиум и передал слово обратно Никодиму, который тут же достал список и его зачитал. В списке были только он и его брат Геннадий. В процессе голосования выяснилось, что большинство – за, меньшинство – не против, а двое умерли за время работы съезда.
Перебравшись вслед за братом на крышку хлебницы, избранный в президиум Геннадий снова дал слово Никодиму. Никодим слово взял и, свесившись с крышки, предложил повестку ночи:
п. 6. Хочется ли нам поесть? (шебуршение на столе).
п. 17. Как бы нам поесть? (оживленное шебуршение, частичный обморок).
п. 0,75. Буфет – в случае принятия решений по п.п. 6 и 17 (бурные продолжительные аплодисменты, скандирование).
В процессе скандирования умерло еще четверо.
При голосовании повестки подраковинные попытались протащить пунктом плюс-минус 90 объявление всетараканьего бойкота плинтусным, но им было указано на несвоевременность, и тем же пунктом пошло осуждение самих подраковинных за подрыв единства.
После перерыва, связанного с поеданием усопших, съезд продолжил свою работу.
По п. 6 с докладом с крышки хлебницы выступил Никодим. Выступление его было исполнено большой силы. Не зная устали, он бегал по крышке, разводил усами и в исступлении тряс лапками, отчего свалился на стол, где, полежав немного, продолжил речь – прямо в гуще народа.
Никодим говорил о том, что так больше жить нельзя, потому что очень хочется есть. Он подробно остановился на отдельных продуктах, которых хотел бы поесть. Это место вызвало особенный энтузиазм на столе – председательствующий Геннадий, свесившись с солонки и стуча по ней усами, был вынужден призвать к порядку и напомнить, что за стенкой спит Семенов, будить которого не входит в сценарий работы съезда.
Единогласно проголосовав за то, что так больше жить нельзя и надо поесть, развязались с пунктом шесть; изможденный Никодим начал карабкаться обратно на хлебницу, а председательствующий Геннадий предоставил слово себе.
Его речь и события, развернувшиеся следом, стали кульминацией съезда. Геннадий начал с того, что раз больше так жить нельзя, то надо жить по-другому. Искусный оратор, он сделал паузу, давая несокрушимой логике сказанного дойти до каждого.
В паузе, иллюстрируя печальную альтернативу, умер один подраковинный.
– Но что мы можем? – спросил далее Геннадий.
Тут мнения разделились, народ зашебуршился.
– Мы можем все! – крикнул кто-то.
Собрание зааплодировало, кто-то запел.
– Да, – перекрывая шум, согласился Геннадий, – мы можем все. Но! – Тут он поднял усы, прося тишины, а когда она настала, усы опустил и начал ползать по солонке, формулируя мысль, зарождавшуюся в его немыслимой голове.
И все поняли, что присутствуют при историческом моменте, то есть таком моменте, о котором уцелевшие будут рассказывать внукам.
Мысль Геннадия отлилась в безукоризненную форму.
– Мы не можем спустить Семенова в унитаз, – сказал он.
Образ Семенова, спускаемого в унитаз, поразил съезд. В столбняке, осенившем собрание, стало слышно, как сопит за стенкою узурпатор, и ни с чем не сравнимая тишина повисла над столом. Одна и та же светлая мысль пронизала всех.








