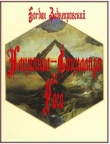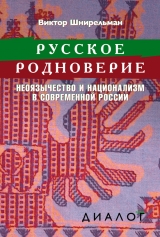
Текст книги "Русское родноверие. Неоязычество и национализм в современной России"
Автор книги: Виктор Шнирельман
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Мало того, они используются для оправдания некоторых политических проектов, которые активно предлагаются обществу, переживающему кризис. Как справедливо писал Н. Гудрик-Кларк, «фантазии могут достигать силы причин, если закрепляются в убеждениях, предрассудках и ценностях социальных групп. Фантазии также являются важным симптомом надвигающихся изменений в политике и культуре» (Гудрик-Кларк 1995: 9). Именно об этом и пойдет речь в данной книге.
Неоязычников отличает неутолимое стремление к поиску некоей «русской предыстории», уходящей глубоко за рамки известной письменной истории. В этом и состоит своеобразие русского неоязычества, которое во многих других отношениях типологически сближается с консервативными течениями, отражающими достаточно распространенную реакцию на процессы модернизации и демократизации. Между тем, ностальгические чувства как европейских, так и русских консервативных направлений (например, евразийства) довоенного времени, как правило, были обращены к местному средневековому прошлому; попыток копать глубже их сторонники не предпринимали (Nisbet 1986: 18–19, 35 ff.). Единственным, но весьма показательным исключением был германский нацизм, сознательно опиравшийся на «славные деяния» первобытных германцев («чистокровных арийцев», «потомков атлантов») в своей пропаганде милитаризма и территориальной экспансии (Hermand 1992: 111, 183–208, 213; Blackburn 1985). Как мы увидим, это сходство с русским неоязычеством оказывается далеко не случайным. И хотя отдельные авторы сомневаются в возможности перенесения германского расового подхода на русскую почву (Новиков 1998: 230), определенная часть русских неоязычников демонстрируют, что им такие идеи отнюдь не чужды.
Неоязычники нередко тесно кооперируются с перекрасившимися в национальные цвета коммунистами, да и среди неоязычников немало бывших партийных и советских функционеров. На первый взгляд это выглядит нелепо и нарушает все законы жанра. Однако внутренняя логика в этом есть. Подобно советским марксистам, многие неоязычники верят, прежде всего, в силу разума и признают жесткий детерминизм исторического и культурного процесса. Различия состоят лишь в том, где они ищут корни такого детерминизма. Здесь уместно повторить то, что я писал в свое время о евразийцах (Шнирельман 1996: 4), так как те же особенности историософского и мировоззренческого подхода отличают и русских неоязычников. Кстати, в литературе уже отмечалось, что евразийцы искали православие, а пришли к неоязычеству (Гиренок 1992: 37), и это далеко не случайно.
Если марксизм делал упор на социально-экономические факторы в развитии человечества, то неоязычество и евразийство настаивают на приоритете культуры. Марксизм видел движущую силу истории в классовой борьбе, а неоязычники и евразийцы заменяют ее борьбой народов-этносов или цивилизаций. Марксизм исходил из универсальной теории прогресса, а неоязычество и евразийство демонстративно придерживаются партикуляристского подхода, подчеркивавшего уникальность исторического развития локальных культур; культура в их построениях обретает мистическое содержание, а ее развитие происходит циклически (отсюда такой повышенный интерес к теории циклизма). Марксизм рассматривал общество как политическое и социально-экономическое единство. В свою очередь неоязычники и евразийцы видят в нем, прежде всего, «личность», «культурный организм», и это проецируется и на систему власти, обретающую в их построениях тотальный характер. Вряд ли, может вызвать удивление тот факт, что такие установки ведут к рецидивам расовой теории и расизма, возникновению которых они весьма благоприятствуют[8]8
Не случайно и в нацистской идеологии расовый подход сочетался с неоязычеством. См.: (Blackburn 1985).
[Закрыть].
Рубеж 1960-1970-х годов стал переломным моментом в развитии русского национализма. Именно тогда между ним и российским демократическим движением наметился раскол (Dunlop 1983: 43 ff.), ибо стало ясно, что демократическое «западническое» движение ведет к европеизации России. А в этом русские националисты видели абсолютное зло, чреватое «засильем антирусских сил». Поэтому они предпочли союз с существующим тогда режимом, уповая на его постепенную идеологическую трансформацию под влиянием «русской идеи» (Шиманов 1992: 160; Критические заметки… 1979: 451–452) при сохранении авторитарной политической власти, как это явствует из рассмотренного выше «Слова Нации».
Сверхзадача русского национализма заключалась, во-первых, в объяснении причин относительно низкого уровня жизни русского, в особенности, сельского населения в бывшем СССР, во-вторых, в выработке программы преодоления кризиса, в котором оказалась «русская нация», наконец, в-третьих, в сплочении последней перед угрозой «упадка и вымирания». Универсальным способом к осуществлению этой задачи все без исключения русские националисты считают разработку новой могущественной идеологии, способной консолидировать нацию в едином порыве к «светлому будущему». Эту идеологию они сплошь и рядом пытаются строить на основе мифа о великих древних предках, причем делают это вполне осознанно. По признанию одного из бывших национал-демократических идеологов, «мифы дают возможность для целеполагания, жизнь вне мифов – Хаос». Предрекая крушение «мифа о прогрессе», эти идеологи пытаются заменить его мифом о сверхустойчивой примордиальной Традиции (Колосов 1995: 6).
По словам национал-социалиста А. Елисеева, речь идет об «особой форме организованно-идеологического комплекса, призванной создать в глазах масс некий идеальный образ, работающий в режиме социокодирования». Он предлагает воздействовать на воображение масс с помощью экстравагантной идеологии «Третьего пути», соединяющей несоединимое – «холод тотального консерватизма с жаром радикального отрицания». Он убежден в том, что массы можно пробудить от спячки только путем эпатажа, только апелляцией к сверхчеловеческой героике, и стержнем «героического стиля» он называет «арийскую составляющую». По его мнению, русский традиционалист невозможен без идеи «древней Гипербореи» и «Золотого века». Но при этом он должен быть устремлен в будущее. «Хватит плакать о березках и лошадках, – пишет Елисеев, – пришло время воспевать заводы и рабочих». Его идеалом служит «древний воин Гиперборейской традиции, гордо шагающий по цехам мрачных заводов» (Елисеев 1995)[9]9
Нетрудно заметить всю вторичность этих призывов, возрождающих лозунги, с одной стороны, времен первых пятилеток и Пролеткульта, а с другой – эпохи нацизма.
[Закрыть].
В своем манифесте русские новые правые, или национал-социалисты, вслед за Р. Геноном призывают начать с выращивания элиты. Этому и должна служить «новая позитивная идеология», основанная на идеях «арийства» и «нордических ценностей» (Сообщение Оргкомитета 1995). Ключевыми словами всех такого рода концепций служат «исконная традиция», «примордиальный миропорядок», «коллективное бессознательное», «архетипы», «империя», «вождь», «священные Веды», и т. д. Их авторы не видят вокруг себя ничего, кроме толпы, чье «коллективное бессознательное», тоскующее по исконному «варварству», постоянно требует эмоциональной встряски. Имея дело со всеми этими клише, трудно избавиться от мысли, что они как будто возвращают нас в мрачные годы нацистского тоталитаризма.
Вариантом такого рода идеологии и являются многие (хотя и далеко не все) учения, вырабатывающиеся в рамках русского политического неоязычества. Последнее ставит перед собой две кардинальные задачи, во-первых, спасение русской национальной культуры от нивелирующего влияния модернизации и, во-вторых, защиту природной среды от губительного воздействия современной индустриальной цивилизации (Сперанский 1996: 9-14, 20–24; Доброслав 1996). В этом, кстати, язычество иной раз вызывает симпатии даже у демократов (см., напр.: Гранин 1989: 126). В-третьих, речь нередко идет о построении русского мононационального государства, в котором не будет места «инородцам» и «иностранцам».
Вот как формулировались задачи неоязыческого движения на Вече, состоявшемся 7 августа 2004 г. в г. Кобрин (Беларусь). «В условиях глобальной цивилизационной, идеологической и информационной войны против наших народов Родная Вера становится реальной духовной альтернативой чужеродным космополитическим системам. Противники используют старые и новые, все более изощренные формы агрессии против наших народов. В духовной сфере – это навязывание авраамических религий, насильственная евангелизация общества, подмена этнических религий искусственно созданными псевдоучениями, зомбирующими людей. В связи с этим мы считаем, что необходимо поставить вопрос перед правозащитными организациями о неправомерности монополии авраамических религий, ведущей к сращиванию церкви и государства, а также принудительной христианизации населения в государственном масштабе через СМИ, систему дошкольного и среднего образования»[10]10
www.rodnovery.ru/veche2.htm
[Закрыть].
Иногда Русь противопоставляется Японии, где принятие буддизма не привело к полному отказу от прежних верований. Некоторые авторы считают, что с тех пор буддизм и синтоизм развивались в Японии параллельно без особых конфликтов и даже дополняли друг друга (Светлов 1994: 84–85)[11]11
На самом деле ситуация складывалась гораздо более драматично, и были времена, когда буддизм в Японии преследовался. См.: (Holtom 1963: 124–152).
[Закрыть]. На Руси события развивались иначе. Здесь христианство веками боролось за чистоту веры, и первой жертвой этого стало славянское язычество. Поэтому для современного русского неоязычества характерно, прежде всего, отрицание русского православия (в христианском его понимании) как непреходящей национальной ценности, ядра русской национальной идеологии, на чем всегда зиждилась «русская идея». Вместе с тем, одними старыми обидами дело не обходится. Наша эпоха рождает новые проблемы, которые и заставляют неоязычников с удвоенной энергией нападать на христианство.
В чем же дело? Откуда такая нелюбовь к православию и христианству в целом, доходящая порой до открытой ненависти? Прежде чем перейти к обсуждению этих вопросов, необходимо иметь четкое представление о том, что русский национализм понимает под «русскими». Все его концепции, как бы они ни разнились между собой, принимают как безусловную данность то, что «русский народ» состоит из трех подразделений – великороссов, украинцев (малороссов) и белорусов. Иначе говоря, «русский народ» в этом понимании тождествен восточному славянству, и не случайно именно такой подход обнаруживается у автора «Слова Нации». Мнение самих украинцев и белорусов, решающих этот важный вопрос иначе, во внимание не принимается. Так как неоязычники придают первостепенную важность идеологии, а идеологию понимают как вероисповедание, то для них немаловажен тот факт, что единый восточнославянский ареал в последние столетия оказался разорванным на несколько частей, подчиненных Русской Православной Церкви, Греко-Католической (Униатской) Церкви и просто Католической Церкви, не говоря уже о различных протестантских общинах. С этой точки зрения, одним из способов нового достижения идейного единения является возвращение к славянскому язычеству, которое неоязычники представляют как целостную непротиворечивую систему.
Другой причиной нелюбви неоязычников к христианству служит антропоцентризм последнего, его сознательное стремление возвысить человека над окружающим его природным миром, пренебрежение радостями жизни на Земле и установка на посмертное воздаяние. В этом неоязычники не без оснований видят корни бездумного хищнического отношения современного человека к природе, способного ее окончательно погубить и, тем самым, поставить точку в истории человечества. Но и это еще не все.
Многие неоязычники видят в христианстве ядовитую разрушительную идеологию, якобы специально созданную евреями для установления мирового господства (об этом см.: Yanov 1987: 141–144), что полностью воспроизводит известные нацистские установки (Об этом см.: Blackburn 1985). Они утверждают, что переход к христианству повсюду подрывал живительную силу местной духовности и ввергал христианизировавшиеся народы в хаос, в кризис, вел к их порабощению иноземной кастой и к упадку. Вот почему, с этой точки зрения вполне логично, неоязычники связывают самые славные страницы русский истории с дохристианской эпохой. Они рассматривают русское язычество как наиболее значительное интеллектуальное достижение человечества (см., напр.: Гусев 1993) и обвиняют христианство в злостных преступлениях против человеческого рода, в особенности, против русских (см., напр.: Оберег… 1990; Ведомысл 1993; Барабаш 1993; Суров 2001: 237, 239, 289, 353, 408). Впрочем, здраво оценивая расстановку сил в движениях национально-патриотической ориентации, где православие продолжает рассматриваться как нетленная ценность, некоторые из неоязыческих течений оставляют себе лазейку для компромисса и пытаются смягчить имеющиеся противоречия.
Отсюда, как мы видели, попытки переосмыслить понятие «православие». Иной раз неоязычники провозглашают православие высшим проявлением «ведизма», т. е. русского язычества, и, по словам одного исследователя, смотрят на него «как волхвы на младенца Христа» (Мороз 1992: 73). При этом многие используют сведения, почерпнутые у Мэри Бойс (1987), доказывавшей, что иудаизм и другие авраамические религии вобрали в себя некоторые положения зороастризма. Связывая славян с арийцами и считая зороастризм общеарийской религией, такие идеологи считают себя вправе обильно заимствовать из Ветхого и Нового Завета, утверждая, что речь идет о священных знаниях, которые иудеи якобы когда-то «похитили» у арийцев.
Глава 3. Неоязычество, наука и образ древности
Как бы то ни было, все неоязычники зачарованы таинственным образом дохристианской Руси. Один из них заявляет даже, что упадок истинно русской культуры начался еще в эпоху Киевской Руси, т. е. в X в. Он призывает к восстановлению языческой Руси и ее империи, которая, на его взгляд, процветала задолго до IX в. (Гусев 1993: 14). Другой автор-почвенник объявляет, что истинный расцвет славянской цивилизации наблюдался в некоем «царстве Руксолань» в I тысячелетии до н. э. и что после его разгрома гуннами в IV в. н. э. настало время «разрушения и гибели Древней Руси» (Асов 1996). Примечательно, что, хорошо зная о сарматах-роксоланах, Асов сознательно превращает их сначала в «руксоланов», а затем и в «русколанов», чтобы сделать их «славянами», создателями «царства Русколань» (Асов 1999: 137, 156). Короче говоря, неоязыческая концепция исходит из того, что наиболее блестящие страницы в русской истории были написаны до X в., т. е. в эпоху, которая не оставила почти никаких письменных свидетельств об истории славян, не говоря уже о «руси». Это-то и открывает значительный простор для самых изощренных фантазий, для «изобретения прошлого».
Надо с самого начала оговорить, что неоязыческая этногенетическая мифология не имеет никакого отношения ни к современному научному мышлению, ни к сколько-нибудь серьезным научным методам, отвечающим нынешнему уровню развития науки. Поэтому научные дискуссии с неоязычниками мало плодотворны. В методическом плане неоязыческие идеологи остаются на уровне XVIII–XIX в., когда, покончив с монархией, националисты Западной Европы изобретали для своих народов генеалогии, восходившие к легендарным предкам, донесенным до нас Библией, античной мифологией или средневековыми хронистами (Поляков 1996: 17-116). Впрочем, они заимствуют устраивающие их данные и из более поздних как научных, так и, по большей части, популярных изданий, включая и самые новейшие. При этом многие из их немудреных построений устрашающе напоминают концепции, популярные в Третьем Рейхе, интеллектуальный багаж которого служит многим неоязычникам неисчерпаемым источником вдохновения. Профессиональных ученых-гуманитариев среди русских неоязычников почти нет, и их не устраивает «узость научного подхода» (Сперанский 1996: 8) и «безнравственность методов» «иудео-материалистической науки» (Добровольский 1994: 6, 9). Между тем, отстаивая свои позиции, сами неоязычники не перестают ссылаться на несуществующих академиков и таких же, как они, дилетантов, безуспешно доказывая, что они опираются на научные знания (см., напр.: Асов 2001).
Вообще это идеологическое течение, подобно его германскому предшественнику (Левада 1993: 125), отличают воинствующий антиинтеллектуализм и научный популизм, хотя оно и заявляет о том, что «сегодня, как никогда, человечеству нужна помощь науки» (Волхв 1995: 1), и пытается утвердить «культ человеческого разума и знаний» (В твердыне 1995: 2). Однако наука понимается здесь весьма своеобразно. Например, всячески пропагандируются «русские народные мудрецы, не увешенные научными званиями» (и знаниями, добавим мы от себя), и экспертами служат, скажем, слесарь, предложивший новый «великолепный» перевод «Слова о полку Игореве», токарь, коротающий часы досуга в философских раздумьях, или инженер-электрик, с необычайной легкостью читающий этрусские тексты (см., напр., Предтеченский 1997). Воображающий себя специалистом по истории свастики вологодский коллекционер даже гордится тем, что, в отличие от ученых, полагается на «интуитивный метод исследования» (Тарунин 2009: 33). Работы специалистов-археологов неоязычников не устраивают, и они отдают предпочтение, например, школьному учителю из Балашихи И. В. Чернышу и его питомцам, которые будто бы нашли на плато Устюрт следы «русов-арийцев», шедших в Индию (Доманский 1997: 73–75), или же тульскому писателю И. Афремову, якобы обнаружившему обсерваторию каменного века на Куликовом поле (Трехлебов 1998: 8–9). Утверждается, что «только коллективное народное научное творчество поможет нам восстановить Ведические Знания» (Интеллигенция… 1995).
В частности, в защите сфабрикованной «языческой» летописи «Влесовой книги», неоязычники уповали, главным образом, на помощь «простых читателей», неспециалистов, которым патриотический энтузиазм должен был заменить специальную подготовку (Лесной 1966: 5–6; Осокин 1981: 73). Один из вождей неоязыческого движения, волхв Доброслав (А. А. Добровольский), гордится тем, что сам он не обременен высшим образованием, и полагает, что «образование калечит человека» (Так же считал и Гитлер. В. Ш.). По его мнению, наука сейчас находится в тупике и «от нее одни несчастья». Это не мешает ему писать «книги и брошюры» и объявлять себя и своих последователей носителями света и «здоровых сил нации» (Доброслав 1995а).
На помощь этим энтузиастам устремляются и некоторые интеллектуалы, пытающиеся более тонкими методами дискредитировать науку для того, чтобы расчистить поле для дилетантских построений. На эту скользкую тропу вступил, например, писатель Ю. Д. Петухов (1951–2009), бывший инженер-электротехник, выдававший себя за историка[12]12
Петухов получил высшее образование в Московском электротехническом институте связи и Московском институте радиотехники, электроники и автоматики. За его плечами были служба в Советской Армии и работа в ведомственном НИИ, связанном с оборонной промышленностью. Свою литературную карьеру он начал, печатаясь в газетах и журналах военно-патриотического направления типа «Советская армия», «Советский патриот», «Военное знамя» и др. Ни специального исторического образования, ни даже гуманитарного в целом у него не было. Тем не менее, он утверждал, что уже в начале 1980-х гг. сделал важнейшие открытия в области этногенеза. В 1993 г. он основал свое издательство «Метагалактика», где и публиковал свои произведения как в жанре фэнтези, так и в жанре альтернативной истории.
[Закрыть]. Спекулируя на том, что в советское время историческая наука испытывала определенное идеологическое давление (но, во-первых, сила этого давления в разных ее областях была очень разной, а во-вторых, и в те годы находилось немало добросовестных ученых, что никак не желают признавать люди типа Петухова), Петухов рисовал всю советскую историческую науку жалким подобием западной «норманистской школы», писал о ее удручающем состоянии, отрицал за ней какие-либо достижения и противопоставлял ей симпатичные ему взгляды представителей, так называемой, «славянской школы» XIX в. (Петухов 1990: 13, 64–70, 116; 1998б: 7-12, 23, 54–55, 96–97, 249–251; 1998в: 35)[13]13
Примечательно, что, обвиняя западных ученых в искажении научной истины по причине якобы патологической нелюбви к славянам, Петухов нисколько не брезговал опираться на разработки ряда ведущих западных ученых, например, Ж. Дюмезиля, А. Мейе, Х. Коте и др. См.: (Петухов 1998б).
[Закрыть], уже давно и прочно отвергнутой серьезными специалистами по причине их полной научной несостоятельности.
В частности, он безоговорочно называл скифов предками славян, что иначе как курьезом назвать трудно. И все это делалось под демагогическими лозунгами отделения «подлинных знаний» от «умозрительных конструкций» и «ложных стереотипов» и возвращения «многомерности и полифоничности» в школьные учебники. Петухов утверждал, что он один знал «подлинную историю», которую «жрецы» якобы скрывали от толпы (Петухов 1990: 10–12, 1998а: 476). При этом всю историю он сводил к механическим переселениям людей с места на место и фактически не признавал глубинных внутренних изменений – ведь «при естественных условиях развития крупные смешанные культурно-этнические сообщества практически неистребимы, они могут существовать, внешне изменяясь, но сохраняя первичные формы внутренне, десятки тысячелетий» (Петухов 1998б: 229–230). Тем самым, вопреки всем представлениям современной науки о сложных процессах этнокультурной динамики, он фактически изображал русский этнос вечным и неизменным, сложившимся много десятков тысяч лет назад. Как это совмещалось с его собственным утверждением о том, что славяне и, в частности, русский народ в своем развитии многократно смешивались с другими группами (Петухов 1998б: 229), остается только догадываться.
Надо ли говорить, что посвященная истории древних индоевропейцев книга Петухова, выдержавшая два издания, была перенасыщена такого рода столь же безапелляционными, сколь и сомнительными утверждениями. Ведь обвиняя ученых в игнорировании фактических материалов и первоисточников (Петухов 1998б: 249), сам автор, очевидно, представлял себе исследовательскую работу исключительно как туристическую поездку по музеям Европы и Ближнего Востока и фотографирование на фоне древних развалин, чем он активно занимался во второй половине 1990-х гг.
Впрочем, надо отдать ему должное, он сознавал свой дилетантизм и фантастичность своих построений. Поэтому он опасался представлять свои «ученые теории» на суд специалистов. По его собственным словам, «в нынешних условиях они обречены на полное замалчивание или, в лучшем случае, на сокрушительную, но не аргументированную критику в узких кругах». Поэтому он предпочитал писать романы и именно в них давать русским людям представление об их «подлинной истории». Впрочем, двигала им вовсе не любовь к науке, а патриотическое чувство – «сейчас, когда наша страна разрушена, расчленена, разграблена, когда она утратила свою независимость, да, именно сейчас писать нашу подлинную историю необходимо…» (Петухов 1998в: 28; 2001: 251). Однако вместо того, чтобы сообщать о реальных славных страницах русской истории, – а их в ней немало, – Петухов создавал фантастические вымыслы и занимался приписыванием русским чужой славы, чужих достижений, и этим скорее унижал, чем возвышал русскую историю.
К тем же сомнительным приемам научной критики прибегал и философ В. Н. Демин (1942–2006). Правильно отмечая, что существуют различия между объективным миром и тем, какой образ он принимает в человеческом сознании, этот автор тут же делал вывод об отсутствии сколько-нибудь существенных границ между научными построениями и мифологическими. Свои рассуждения он облекал в типичную наукообразную форму, сознательно нарушая законы логики, которые он как философ, безусловно, знал. Он утверждал, что «каналы символизации и алгоритмы кодировки глубинного смысла бытия и его закономерностей одинаковы как для науки, так и для мифологии». Из этого он напрямую делал вывод о том, что у мифа имеются такие же реальные основания, как и у научного факта, и что в обоих случаях результатом являются «спекулятивные конструкции, далеко отступающие от реальности». Автор рассуждал о смене научных парадигм и напоминал, что сегодня уже никто не учится по учебникам прошлого века (Демин 1997: 48–49; 1999: 87–88). В итоге он, по сути, реабилитировал мифологию и уравнивал ее в правах с наукой[14]14
Примечательно, что за сто лет до него, критикуя научное знание, к тем же аргументам прибегал расист Х. Чемберлен. См.: (Field 1981: 296). Опора на иррационализм, интуицию и «зов крови» лежала в основе методологии нацистских историков. См.: (Blackburn 1985; Schleier 1999: 178–179).
[Закрыть].
Любопытно, что при этом он не задавался вопросом о том, почему в течение последних столетий люди отказались от прежнего исключительно мифопоэтического взгляда на мир и создали науку. Конечно, Демин был прав в том, что мифологическое мышление не ушло в прошлое; мифов хватает и в наше время (Демин 1999: 88). Но совершенно очевидно, что современного образованного человека они уже не удовлетворяют. Его интересы требуют более глубокого проникновения в суть окружающих процессов, перед чем мифологическое мышление бессильно. Достаточно задать простой вопрос о том, можно ли было создать современную индустриальную цивилизацию на основе мифологического мышления, и все становится предельно ясным. Демин сознательно уводил читателя в сторону, не рассматривая качественных различий между мифологией и наукой. А такие различия имеются, и они весьма существенны. В основе научных подходов лежат тонкие детально разработанные методы, позволяющие разным специалистам независимо друг от друга получать один и тот же результат. В этом и состоит процедура верификации, полностью отсутствующая в любой мифологии, потому что мифология, в конечном счете, базируется на вере, тогда как наука основана на знании, добытом опытным путем.
Но если вера предполагает наличие исконной незыблемой истины, то знание бесконечно расширяет свои пределы – устаревшие теории и подходы отбрасываются и заменяются более адекватными действительности. Означает ли это, что наука, как хотел убедить читателя Демин, тоже занимается созданием мифа? Вовсе нет. Закон Ньютона столь же действенен и теперь, как и во времена великого англичанина. Теория относительности Эйнштейна вовсе не отменила его, а лишь показала, что он действует в определенных пределах и не способен описать более многоплановую действительность. Иное мы видим в мифологии, где два мифа, объясняющие одно и то же явление, не могут ужиться друг с другом – приходится выбирать либо то, либо другое. Соответственно люди делятся на враждующие лагери, и дело иной раз доходит до кровавых разборок (вплоть до религиозных войн). Этого никогда не происходит в науке (если только она не является ангажированной), что бы ни писал Демин о борьбе между научными школами. Ведь в научном мире царит королева доказательства: побеждает та школа, которая представляет свое видение проблемы более аргументировано. Ничего подобного в мифологии и быть не может. Там царит вера, которая отметает все иные подходы только на том основании, что они в нее не укладываются.
Именно этим принципам и следовал сам Демин. Ему надо было дискредитировать и отвергнуть современные научные данные вовсе не потому, что он нашел более правдоподобное решение, а для того, чтобы оживить давно отвергнутые наукой и основательно подзабытые гипотезы XVIII–XIX вв., выдвигавшиеся, как правило, дилетантами. Примечательно, что поддержку своей центральной идеи о древней арктической цивилизации автор находил не у ученых, а в популярной, псевдонаучной и эзотерической литературе (Демин 1997: 57–58, 79, 541; 1999; 2003: 327–330).
Отвергая научное знание, Демин всячески прославлял «знание эзотерическое» и «русский космизм» (Демин 1997: 8–9, 53), опираясь на «достижения» оккультных учений XIX и начала XX веков[15]15
О ранней истории русской теософии и ее оккультных идеях см.: (Carlson 1993, Нефедьев 2001–2002); об их популярности в предсоветское и советское время см.: (Rosenthal, ed., 1997; Богомолов 1999).
[Закрыть]. Всецело полагаясь на эзотериков, Демин писал, что «получаемое ими знание – ноосферного происхождения, которое не поддается опытной или источниковедческой проверке» (Демин 2003: 375). Для него такое знание лежало вне всякой критики. Вспоминал ли он при этом свою многозначительную фразу о том, что сегодня никто уже не учится по учебникам прошлого века? Сам Демин нарушал все методические требования современной науки, и именно поэтому ему импонировал подход такого же, как он, фантазера Л. Н. Гумилева (Демин 1997: 39; 1999: 456–457), обвинявшего профессиональных историков в том, что они слишком много внимания уделяют критике источников.
Демину тоже не нравились «ползучий эмпиризм» и «нудные транскрипции», он предпочитал смотреть на историю «с птичьего полета», не понимая, что история не может писаться без исторических источников, а любой такой источник представляет собой сложный текст, требующий предварительного анализа. Его эта «нудная» работа не устраивала, и он предпочитал опираться не на современных профессиональных историков, фольклористов, археологов или лингвистов[16]16
Он их обвинял в снобизме. См.: (Демин 1997: 24).
[Закрыть], а на мыслителей XVIII, XIX и начала XX вв. – писателей (В. Г. Тредиаковский, В. Капнист или В. Розанов), дилетантов (Ж.-С. Байи, З. Доленга-Ходаковский, А. Д. Чертков, А. Ф. Вельтман, генерал А. Нечволодов и др.) или эзотериков (Е. Блаватская, Р. Генон, Ю. Эвола). Не занимаясь профессиональным анализом первичных источников, он либо полностью их отвергал по примеру Гумилева (он фактически отбрасывал все накопленные ныне археологические материалы), либо, напротив, абсолютно им доверял (как, скажем, заимствованной из «Синопсиса» книжной версии, восходящей к ранней русской летописи, о происхождении русских якобы от Яфета (Иафета), который жил на Крайнем Севере. См.: Демин 1997: 23, 51–52, 77, 83).
Мало того, в погоне за занимательностью он принимал на веру и без всякой критики воспроизводил сообщения, к которым специалист отнесся бы с большим сомнением. Вот весьма показательный пример. Демин утверждал, что его герой, журналист А. В. Барченко (1881–1938), получил тайные знания от отшельника, с которым он якобы столкнулся в глухих костромских лесах. Демин приводил содержание письма Барченко, повествующего об этом событии. В письме же говорилось о том, что отшельник сам нашел Барченко в Москве; ни о какой встрече в лесах не было и речи. Демин доказывал, что Барченко будто бы владел древнейшим «идеографическим письмом». На самом деле эти данные снова взяты из письма Барченко, где рассказывается о некоем сумасшедшем, который в 1920-х годах демонстрировал «загадочные идеограммы» (Демин 1997: 9-10; 1999: 440–441). Проверить, что это были за знаки, невозможно. Сам Демин их не видел, никакой экспертизы над ними не производилось. Почему их следует считать знаками древнейшей письменности, остается загадкой.
Между тем, Демин умалчивал о том, что ученик известного эзотерика Г. Гурджиева (1877–1949), мистик-экспериментатор Барченко, был связан с масонским орденом мартинистов и в 1920-е годы руководил оккультным «Единым трудовым братством». Опираясь на поддержку петроградского ЧК, а затем начальника Особого отдела ВЧК-ОГПУ Г. И. Бокия (1879–1937), тоже увлекавшегося мистикой, Барченко сумел стать экспертом по парапсихологии и читал лекции сотрудникам ОГПУ. В 1924 г. он был взят на работу в ОГПУ, где создал лабораторию, разрабатывавшую методы телепатического воздействия на противника и чтения его мыслей. Для этого к сотрудничеству привлекались колдуны, знахари, шаманы, гипнотизеры. С 1930 г. Барченко заведовал биофизической лабораторией Московского политехнического института, финансировавшегося ОГПУ и служившего ему центром по изучению «аномальных явлений». Эта лаборатория занималась, в частности, разработкой методов контроля над массовым сознанием (Шишкин 1995; Брачев 1998: 361–362; 2006: 161–184, 205–220; Шошков 2000: 70–71; Елисеев 2001). Вскользь упоминая о связях Барченко с масонами и с ОГПУ, Демин не скрывал, что источник безудержной страсти Барченко к допотопной северной цивилизации уходит своими корнями к масонскому оккультному «знанию» (Демин 1999: 137–140, 441; 2003: 340). Учитывая все это, вряд ли следует относиться к фантазиям Барченко с полным доверием. Действительно, имеется предположение о том, что фантазии о Гиперборее были призваны скрыть истинные цели поездки Барченко на Кольский п-ов, связанные с изучением тайн саамской магии (Токарев 2006: 21). Между тем, Демин, очевидно, полагал, что именно такие люди способны дать более глубокие знания о древнейшей истории человечества, чем современная профессиональная наука.