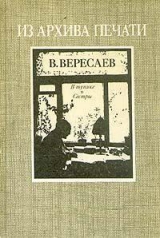
Текст книги "В тупике. Сестры"
Автор книги: Викентий Вересаев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 27 страниц)
– Товарищи, все это, конечно, хорошо, но ведь цифры запоминать – дело памяти. А главная задача политбоя – выявить политическое понимание участников, уяснение ими себе задач пятилетки, ее путей. Не будет ли вопросов пошире?
Лелька перешепнулась с Лизой Бровкиной. Лиза задала вопрос:
– Какой основной смысл пятилетнего плана? Оська взглянул на Ведерникова.
– Афонька, отвечай!
Ведерников смутился и сказал сурово:
– Не понимаю вопроса.
Лелька мягко и предупредительно стала объяснять:
– Что будет от осуществления пятилетки, – просто, скажем, получится увеличение продукции во столько-то раз, или ее осуществление будет иметь более широкое значение?
– Ага! – Ведерников откашлялся, – Значит, первое: из аграр-но-индустриальной страны – в индустриально-аграрную переделается. Вот! А потом еще. Главный смысл, понимашь, – мы тогда докажем капиталистическим странам, какая у нас силища, – значит, у государства, так сказать, которое есть социалистическое.
Ребята из вражеского взвода засмеялись.
– Что за «силища»?.. Ха-ха! Уби-ит!
Ведерников самолюбиво вспыхнул. Черновалов сказал веско:
– Остался в строю… Следующий вопрос.
Следующий вопрос Лелькину взводу был: какие трудности встретятся нам при осуществлении пятилетки? Лелька сказала:
– Юрка!
Юрка подумал, потом, путаясь, начал:
– Несознательность рабочих, если будут, значит, мало помогать. Это одно.
– Второе?
Юрка сверкнул улыбкой.
– Подождите, подождите, дайте подумать! Да! Главное, значит, что трудно будет с орудиями производства, капиталистические страны будут мало помогать, то есть, значит, мало будут стараться прийти на помощь. А у нас у самих, – он сморщился, припоминая трудное слово, – у нас… технико-экономическая отсталость страны.
Черновалов спросил:
– Всё?
Юрка подумал и ответил:
– Всё.
Ведерников нетерпеливо вмешался:
– А внутри партии правые – не дают, что ли, трудностей?
– Товарищ, не вмешивайтесь… Ранен.
– Ага!
– Ступай на перевязку! – засмеялся Шурка Щуров и за ноги потащил лежащего Юрку в кусты к Камышову. Оська, хитро улыбаясь, задал вопрос:
– Какие изменения в план пятилетки внесли Совнарком и ВЦИК?
Черновалов сурово оборвал:
– Холостой выстрел.
– А-а, кружковод! А еще начальник взвода!
– Эй, холостой! Надо тебя женить!
Бой разгорался. Падали убитые и раненые. Лелька руководила своим взводом, назначала отвечать тому, кто, думала, лучше ответит. А украдкою все время наблюдала за Ведерниковым во вражеском взводе. Она было позвала его в свой отряд, но Ведерников холодно ответил, что пойдет к Оське, и сейчас же от нее отвернулся. И теперь, с сосущей болью, Лелька поглядывала на его профиль с тонкими, поджатыми губами и ревниво отмечала себе, что вот с другими девчатами он шутит, пересмеивается…
Из Лелькина отряда задал вопрос татарин Гассан в зеленой тюбетейке:
– Что будет с кулаками, когда колхозы охватят все сельское хозяйство?
Оська кивнул беловолосой дивчине с наивно поднятыми бровками. Она сказала:
– Повтори вопрос.
Гассан смешался, потом засмеялся. Вытащил из кармана бумажку, которую было спрятал, и стал читать. Захохотали.
– Э, брат! Не в голове вопрос носишь, а в кармане!
– Значит, что будет с кулаками, когда колхозы охватят все сельское хозяйство?
Девушка еще выше подняла брови.
– Кулаки… ну, умрут.
– Как же это они умрут, интересно!
– Ну, расслоятся. То есть – рассосутся. Гассан протянул:
– Рассосись сама… Угробил я тебя!
Бой подходил к концу. Задал вопрос Ведерников:
– На осуществление пятилетнего плана требуется, понимашь, по расчету пятнадцать миллиардов рублей. Откуда, так сказать, мы можем добыть эти средства?
Лелька взялась ответить сама. Она над этим вопросом думала и проработала его. Ее охватил хорошо уж ей знакомый сладкий страх, когда нужно сказать что-нибудь ответственное. И она начала:
– Конечно, нельзя рассчитывать добыть такие огромные вложения из налогов и вообще из бюджета. Эти вложения может дать только сама промышленность. Каким образом? Путем накопления средств в ней же самой. Для этого нужно прежде всего понизить себестоимость промышленной продукции, по крайней мере, на тридцать процентов, а для этого необходимо повысить производительность труда в невиданном размере. Знаете, на сколько? На с-т-о д-е-с-я-т-ь процентов! Ребятки, вы понимаете, что это значит? Это значит: социалистический строй к нам не придет н-и-к-о-г-д-а, если сами мы, рабочие, если сами мы не станем гигантами, если не поднимем на плечи тяжесть, которая изумит весь мир!
Положительно, из Лельки вырабатывался очень неплохой агитатор. Школьный ответ превратился у нее в зажигающую речь, и ее с растущим одушевлением слушали не только участники боя, но и рабочая публика, остановившаяся поглядеть на бой. Сила речей Лельки была в том, что никто не воспринимал ее речь как речь, а как будто Лелька просто высказывала порывом то, чем глубоко жила ее душа.
– Вопрос стоит прямо и ясно: только напряженность и добросовестность нашего труда сделают возможным построение социалистического общества. А между тем в нынешнем, в первом году пятилетки мы уже имеем недовыполнение: заработная плата выросла больше, чем предполагалось по плану, а производительность труда не достигает намеченной степени… Какой позор! Какой позор! Мы рабочие – из-за нас план может не осуществиться! Рабочие всего мира с замирающим сердцем следят, сумеем ли мы создать новую жизнь, сумеем ли проложить путь туда, куда до сих пор путь считался совершенно невозможным. И вдруг окажется: нет, не сумели! Были такие возможности, каких ни у кого никогда не было, и – не сумели! Вы понимаете, какой это позор и какой ужас! И как в такое время могут находиться товарищи – р-а-б-о-ч-и-е! – которые думают только о рубле, которые боятся только одного, – как бы им не накрутили нормы!
И Лелька быстро села. Этого тут не полагалось, но все неистово захлопали, – сначала публика, потом бойцы, потом и сам Чернова-лов. Хлопали оба взвода одинаково. И вдруг среди приветственно улыбающихся, дружеских лиц Лелька заметила бледное лицо Ведерникова. Он один среди всех не хлопал. Сидел, скучливо глядел в сторону. Лелька закусила губу и низко опустила голову.
Бой был окончен. Благодаря Лелькиной речи он закончился ярко, крепким аккордом. Штаб сидел кружком под большим дубом и подводил итоги боя. Солнце садилось, широкие лучи пронизывали сбоку чащу леса. Ребята сидели, ходили, оживленно обсуждали результаты боя. Лелька увидела: Юрка о чем-то горячо спорил с Ведерниковым и Оськой. Ведерников как будто нападал, Юрка защищался.
Штаб вышел на опушку. Ребята столпились вокруг него. Первый приз получил Лелькин взвод. Черновалов в заключительном слове сказал, что в общем политбой прошел достаточно удачно, что это – очень многообещающая новая форма массового политического воспитания. Но один был недостаток очень существенный.
– Не было совершенно вопросов, касающихся правого уклона, и вообще о нем совсем не говорилось. Только один товарищ, Ведерников, попытался вам напомнить о нем. Это делает ему большую честь. Забывать сейчас о правом уклоне – это значит показать полное отсутствие классового чутья. То, что предлагают правые, – это не поправки к пятилетке, а отрицание ее. Поэтому изучение пятилетки необходимо неразрывно связывать с разоблачением идей правого уклона.
Кончили. Стали расходиться. Черновалов отыскивал глазами Лельку. Отыскал, подошел с протянутой рукою, хорошо улыбаясь. Хвалил ее за речь, сказал:
– Молодец, девка! Ты здорово продвинулась вперед. Твоя речь скрасила и углубила весь бой.
Смотрел с дружескою приветливостью, расспрашивал про ее работу на заводе. Но даже в самой глубине его глаз не было уже той внимательной, тайно страдающей ласки, какую Лелька привыкла видеть. И она знала: он сейчас живет с одной красавицей беллет-ристкой, – конечно, коммунисткой: Володька никогда бы не унизился до любви к беспартийной.
Кончилась их любовь. Совсем. Для него это пережитая болезнь. А уже давно сказано: раз любовь прошла по-настоящему, она уже не воротится н-и-к-о-г-д-а.
Никогда.
Лелька приветливо улыбнулась, протянула Черновалову руку.
– Меня ждут ребята! Пока. Рада была тебя видеть.
И убежала.
Приз победителя был – бесплатное катанье этим вечером на лодках. Ребята шумною толпою шли к лодочной пристани у Яузского моста, кликали Лельку. Она их догнала. Юрка очутился возле.
Лелька незаметно отстала с ним и, как будто мельком, с полным безразличием спросила:
– О чем это ты, я видела, так горячо спорил с Афонькой и Оськой?
Юрка смешался.
– Э, так! Бузили они. Говорили незнамо что. Лелька насторожилась.
– Ну, а что же все-таки говорили? Он извиняюще улыбнулся.
– Черт с них спросит! Не стоит обижаться. Ну уж скажу. Только ты не обращай внимания. Говорили мне: зачем путаюсь с тобою? «Путаюсь»! Вовсе я и не путаюсь. «Зачем, – говорят, – ты путаешься с интеллигенткой этой? Разве не чуешь, что она не наша, что она чуждый элемент?» Я говорю: «Куда к черту – чуждый! Не слышал сейчас, что ли, речь ее?» – «Что ж – речь! Подучимся в вузе и сами не хуже скажем. Чего они к нам лезут, в рабочую среду? Образованием своим покозырять? Вырвать у них нужно образование, отнять. Чем они заинтересованы в победе рабочего класса?» Лелька слушала с неподвижным лицом.
– Это кто же из них именно говорил?
– Ну, Ведерников, ясно. Афонька. Оська только поддакивал. Пришли к пристани. Рассаживались по лодкам. Лелька бешено оживилась.
Очень удачное вышло катанье. И веселое. Перегонялись, обливались водою, бузили. Во всем зачиналкой была Лелька.
Гасла заря. Стояли зеленоватые майские сумерки. Тихо плыли назад, близко лодка за лодкой, и пели все вместе:
Ты моряк, красивый сам собою,
Тебе от роду двадцать лет.
Полюби меня, моряк, душою!
Что ты скажешь мне в ответ?
И потом одни пели:
По морям!
Другие откликались:
По волнам!
Первые:
Нынче здесь!
Вторые:
Завтра там!
Все вместе:
Ах!!!
По морям, морям, морям!
Нынче здесь, а завтра там!
А как только вышли на берег, Лелька быстро ушла одна. В тоске бродила по лесу. Долго бродила, зашла далеко, чтоб ни с кем не встречаться. Потом воротилась к себе, в одинокую свою комнату. Села с ногами на подоконник, охватив колени руками. Ночь томила теплынью и тайными зовами. Открыла Лелька тетрадку с выписками из газет (для занятий в кружке текущей политики) и, после выписки о большой стачке портовых рабочих в Марселе, написала:
Очень большой успех на политбое. Моя речь «скрасила и углубила весь бой». Хха-ха! Головокружительный успех, а я не знаю, куда деваться от тоски. Он стоял властный, крепкий, такой изменившийся. Я равнодушно говорила с ним, а в душе обрывалась одна струна за другой. Да, ясно: кончено все. А ведь в его объятьях я перестала быть девушкой, его полюбила я горячо и крепко. И никто никогда уже не узнает про глупую любовь комсомолки Лельки, и как сама она, играя, разбила собственными руками большое свое счастье. А ведь я молода, мне всего двадцать два года, – почему же? Почему не могу я, как другие девчата в моем возрасте, насладиться лаской, почувствовать горячий поцелуй и иметь хорошего друга-товарища? Да, еще сегодня я думала, что найду такого товарища, что я просто не умею как-то подойти к нему. Но как проклятие лежит на мне клеймо интеллигентки. Парень, настоящий пролетарий, с глубоким классовым чутьем, – он не пойдет ко мне. Да и не стою я. Разве не оказываюсь я способной вот на такие, например, ерундовские дневники с размазыванием личных чувств и с упадочными переживаниями, когда в Союзе нашем идет такая великая стройка?..
Перечитала Лелька написанное, вырвала страницу вместе с выпискою о марсельской стачке, разорвала на мелкие кусочки и выбросила в окошко. Край неба над соснами сиял неугасным светом. Лелька в колебании постояла у окна и вышла из комнаты.
Быстро шла по пустынной улице, опустив голову. Навстречу шагал Юрка. Узнал в темноте.
– Лелька, ты? Куда это ты смоталась? А мы до сих пор по лесу гуляли. Хорошо!
Лелька оглядела его странно блестевшими глазами, сказала:
– А я за тобою шла, – думала, ты дома. Паршиво как-то на душе. Пойдем ко мне, будем чай пить.
Пили чай. Потом сидели у окна. Лелька прислонилась плечом к плечу Юрки. Он несмело обнял ее за плечи. Так сидели они, хорошо разговаривали. Замолчали. Лелька сделала плечами еле уловимое призывное движение. Юрка крепче обнял ее. Она потянулась к нему лицом. И когда он горячо стал целовать ее в губы, она, с запрокинутой головой и полузакрытыми глазами, сказала коротко и строго:
– Хочу быть твоей.
* * *
Юрка упоенно переживал восторги своего медового месяца. Но горек-горек был этот мед. Когда он назавтра свободно, как близкий человек, подошел к Лельке, то получил такой отпор, как будто это не он был перед нею, а Спирька или кто другой. Никогда он не знал, когда она взглянет на него зовущим взглядом. И каждая ее ласка была для него нежданною радостью. Но именно поэтому ласка была мучительно-сладка.
* * *
Состязание конвейеров продолжалось.
Пришла наконец сводка за две недели. Только по прогулам молодежь стояла выше старых работниц: у молодежи прогулов совсем не было, не было и опозданий. Во всем же остальном старые работницы совершенно забили молодежь. Продукция галош была у них в среднем на пятьдесят пар больше, а процент брака – один и три десятых против трех с лишним у молодежи.
Было общее уныние и конфуз. Более малодушные говорили.
– Что ж дивиться, ясно! Лучшие работницы, – где же нам против них.
Бася сказала Щурову:
– Шурка, рисуй плакат, что они нас одолели.
– Вот еще! Чего нам срамиться. И другие подхватили:
– Зачем? Не нужно плакат. Так просто, на маленькой бумажке объявим.
Ведерников строго возразил:
– Это, товарищи, не подход. У нас не футбольный какой-нибудь матч. Мы, понимашь, должны только радоваться, что и старых работниц взбодрили. У нас установка такая и была, чтоб других поджечь.
Со стыдом вывесили яркий плакат о победе старых работниц. Однако внизу было написано очень крупно:
НО МЫ, МОЛОДЕЖЬ-КОМСОМОЛЬЦЫ, НЕ СДАЕМСЯ СОСТЯЗАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Старые работницы бахвалились и смеялись над девчатами:
– Что? Мало мы вам в загорбок наложили? Ну, ну, ждите еще! Наложим покрепче.
Состязание продолжалось.
* * *
В перерыве Лелька остановилась с Лизой Бровкиной у конторки профцехбюро перед доскою объявлений. Сбоку был пришпилен кнопками лист серой бумаги с полуслепыми лиловыми буквами – распоряжения по заводу. Равнодушно пробегали сообщения о взысканиях, перемещениях и увольнениях. Вдруг Лелька вцепилась в руку Лизы.
Лизка! Что это!? Смотри! Они прочли:
«Выключается из списков за смертью галошница Зинаида Хуторецкая, № 2763»
– Зина-на-резине! Смотри, умерла!
Они вспомнили, что уже три недели Зины не было видно. Кто-то, помнилось, говорил, что она захворала. Но никто даже не удосужился узнать – чем. Захворала – и захворала. Ее заменили другою работницею.
Лелька и Лиза кинулись к Басе.
– Как Хуторецкая умерла, когда? В чем дело?
Никто не знал.
Назавтра Лиза Бровкина все разузнала и принесла вести, – справилась в больнице. Умерла Зина от резко обострившегося туберкулезного процесса. Могло это быть от переутомления? Доктор ответил: «Ну конечно. Самая вероятная причина».
Все тяжело молчали. Лелька сказала:
– Да. Погибла. Как боец в бою. Среди нас, товарищей. А мы… Погибал среди нас человек, а мы…
Она припала головой к столу и разрыдалась. И многие девчата плакали.
Бася сурово хмурила брови.
– Короткую ей надгробную речь можно сказать: подлецы мы все с вами, девчата, больше ничего!
И, закусив губу, быстро пошла прочь. Зазвенел звонок, побежала лента. Все схватились за работу.
* * *
Новая сводка через две недели.
Опять по всем почти пунктам победили старые работницы. Опыт и сноровка одолели энтузиазм и задор. Особенно всех повергал в уныние брак: как ни стараются, не могут его изжить. Допрашивались у мастерицы Матюхиной, – в чем дело? Она, убитая и сконфуженная больше всех, только разводила руками. Причины брака в галошном производстве часто были совершенно неуловимы, сами инженеры не могли их выяснить. Но вот – все-таки у старых работниц брака было много меньше. Была у них сноровка, чутьем каким-то они выработали себе особые приемы. И у самой Матюхиной, если бы она работала, браку было бы меньше, но объяснить другим, как это сделать, она не могла, как не смогла бы и ни одна из старых работниц.
Уныние полное охватило комсомолию. Напрасно Ведерников, Бася и Лелька убеждали девчат, что дело вовсе не в их победе, что если заразились соревнованием и старые работницы, то это великолепно. Девчата вяло соглашались, но энтузиазм остыл, руки опустились. Работа пошла по-всегдашнему. Странно было, как вдруг изменились девчата. Раньше, если у одной получался завал, другие спешили на помощь. А теперь: одна растерянно билась над завалом, а соседки продолжали спокойно делать свою работу. Никому до общего преуспеяния не было дела.
Состязание молодежного конвейера со старыми работницами живою струею пронизало обычную жизнь завода, всколыхнуло ее, привело в движение. Струя иссякла, и жизнь заводская опять застыла будничным болотом.
Наружно это было как будто не так. Под потолком цехов, по стенам клуба и столовки тянулись красные ленты с белыми призывами:
ВЫДВИНЕМ НОВЫЕ КАДРЫ СТРОИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИЗМА!
ВОЙНА – РАСХЛЯБАННОСТИ И БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ'
ЗА ВСЕМЕРНОЕ СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ!
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РАЦИОНАЛИЗАЦИЮ И ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДИСЦИПЛИНУ!
Образовалось немало инициативных троек и ударных бригад. Но нужной подготовки проведено не было, тройки и бригады не родились органически от рабочей массы, а назначены были сверху, во исполнение приказа Куйбышева. И болтались они в заводской жизни мертвыми, нерожденными младенцами.
Лелька растерянно смотрела на происходившее и спрашивала Басю:
– Что же это такое?
Бася сердито хмурила брови и кусала губы.
В конце мая было общее производственное совещание. Оно тоже дало мало утешительного.
Председатель совещания, рабочий Жданов, больше говорил о том, что должно быть; о том же, что есть, мало можно было сказать хорошего: прогулы не уменьшаются, брак растет, снижение себестоимости незначительное. И он горячо взывал к собранию:
– Товарищи! Договор на соревнование – это не пустяки. Дело идет не на-живо, а на-смерть. Нужно на этом заострить внимание. И будем стараться, товарищи, чтобы нам выйтить на хороший путь.
Потом с докладом выступил инженер Сердюков, высокий старик с острой бородкой и с умными, тайно насмешливыми глазами. Говорил серьезно, медленно и веско.
– Мы с вами, товарищи, за первый квартал недовыработали 600 тысяч пар галош… Сейчас вырабатываем по 53 тысячи пар в день; после отпуска мы должны вырабатывать в день по 57 тысяч, иначе не выполним задание… А, судя по теперешней производительности, выполнить задание мы никак не сможем.
И все время говорил: «мы с вами». Даже так сказал: «Мы с вами за этот квартал прогуляли больше тысячи рабочих дней».
И закончил:
– На днях вы все уходите в отпуск. Общераспространенное явление – очень многие задерживаются в деревне на полевых работах и опаздывают к сроку. Это, товарищи, сильно вредит производству. Нужно принять все меры, чтобы не было опозданий из отпуска.
В конце произошел маленький инцидент. В прениях выступил товарищ Буераков и заговорил резко, глядя острыми глазками:
– Я красноречия так много не знаю, как другие здесь развивают. Но все-таки хочу сказать категорически. Этого вот инженера, который тут выступал с докладом, я его давно заприметил. И замечаю по глазам, что он не любит нас, рабочий класс. Ему нет дела до грандиозного плана строительства, он сам не хочет выполнять задания и нам говорит, чтоб не выполняли. Должно быть, ему важно только жалованье спецовское получать, а на нас, рабочий класс, он плюет. Этого дозволять ему нельзя.
Инженер Сердюков в президиуме удивленно пожал плечами. Председатель поглядел, помолчал и продолжал вести заседание.
* * *
Однажды поздно ночью, упоенный счастьем, Юрка робко спросил Лельку:
– Лелька, вышла бы ты за меня? Лелька изумленно вытаращила глаза.
– Выйти за тебя. Что за слово нелепое: выйти за тебя… Тогда уж лучше ты выйди за меня. А я от своей самостоятельности отказываться не хочу.
Она рассмеялась.
– Пойти в загс? И потом поселиться вместе в одной комнате? И чтобы штопать тебе носки? Какой ты, Юрка, дурак!
* * *
8 июня работы закончились, всем был месячный отпуск.
Завод закрылся на месяц для общего ремонта. Деревенские с радостными лицами и с тяжелым багажом ехали к себе в деревню, здешние отправлялись в дома отдыха, молодежь – на экскурсии или на общественную работу. Юрка предложил Лельке проехаться вместе на пароходе по Волге. Лелька только рассмеялась. Она ехала в Нижегородскую губернию, политруком в лагерь к осоавиахимовцам.
* * *
8 июля, через месяц, съехались все обратно. Лелька, как в родной уже дом, вошла в бюро ячейки, где толкались и оживленно делились впечатлениями густо за месяц загоревшие девчата и парни. Лельку, тоже загоревшую, в защитного цвета юнгштур-мовке, встретили:
– А, война и сила!
Катя Чистякова рассказывала, какой чудный парк был в их доме отдыха, бывшем графском поместье.
Шурка Щуров, технический секретарь, засмеялся:
– Ха-ха! «Чудный». Как будто в поэзии!
– Ну да. Это так говорят, когда очень хорошо. Смех, шутки. Ах, милая комсомолия!
Вошли Бася и Ведерников, оба сердитые и взволнованные. Бася говорила:
– Второй уж день сегодня работаем, – и триста восемьдесят человек еще не явилось из отпуска. Четыре конвейера из-за этого расформировано… А, Лелька! Приехала?
Лелька с болью ждала, поздоровается ли с нею Ведерников первым. Не поздоровался, как будто даже не заметил.
Бася продолжала возмущаться:
– Принято с биржи сто новых галошниц, и все-таки из-за нехватки работниц дневная выработка – только 53 тысячи вместо намеченных планом 57… Что же это делается? Как мы сможем выполнить план с такою публикой?
– Все деревня! – сурово отозвался Ведерников. – Сейчас ругался с ребятами в курилке. Вы для деревни забываете завод, для вас ваше хозяйство дороже завода. А они: «Ну да! А то как же! Самое страдное время, мы рожь косили. Пусть штрафуют». – «Дело не в штрафе, а это заводу вредит, понимаете вы это дело?» – «Э! – говорят, – на каком месте стоял, на том и будет стоять». Во-от! Что это за рабочие? Это чужаки, только оделись в рабочие блузы. Гнать нужно таких с завода.
– Гнать! Безусловно! – согласилась Бася. – И таких мало – рассчитывать, нужно, чтобы в их трудовых книжках было помечено, что они сбежали с трудового фронта и, значит, не нуждаются в работе. Ни один из этих предателей не должен быть принят обратно на завод. Ступай на биржу! И работу этому – в последнюю очередь!
Ведерников широко открыл глаза от восторга.
– Правильно! Баська, садись, пиши об этом статейку в нашу газетину. Будем на этом настаивать.
– Обязательно нужно писать. Шурка, дай-ка бумаги. Лелька, иди помогай!
Они втроем – Бася, Лелька и Ведерников – сели писать статью.
* * *
Творилось что-то невероятное. Как будто мухи какие-то ядовитые всех покусали. Съезжались из отпуска медленно-медленно. Брак рос, прогулы были чудовищные, трудовая дисциплина сильно падала. Получалось ужасное впечатление: как будто таков был ответ широкой рабочей массы на пятилетний план и на повышенные задания, предъявленные к заводу. О «Красном витязе» говорили по всему району.
Тогда сверху был направлен на завод сокрушительный удар. Смещен был за выявившийся оппортунизм на практике директор завода, назначены перевыборы завкома, в партком назначен новый секретарь. Снят был с секретарства в комсомольском комитете вялый фразер Дорофеев. Заводская комсомолия дружно выдвинула на его место секретаря вальцовочной цеховой ячейки Гришу Камышова. В райкоме его утвердили.
С изумлением и восторгом следила Лелька за искусной, тонкой работой, которая началась. Это была чудеснейшая, ничем не заменимая организация, – партийная рядом с государственной. Государство могло только предписывать и приказывать снаружи. Оно наметило пятилетку, дало определенные задания. Партия же тысячами щупалец вбуравливалась отовсюду в самую толщу рабочей массы, будила ее, шевелила, раззадоривала и поднимала на исполнение задач, которые ставило перед классом государство.
* * *
Закрытое собрание комсомольского актива. Выступил с энергичным словом новый секретарь заводского партийного комитета Алехин (летом партийная и комсомольская ячейки завода были преобразованы в комитеты). Он был краток; охарактеризовал положение на заводе и дал общие директивы.
– А вы, комсомол, должны подхватить эти директивы, осознать их и развить всю свою творческую энергию, партия же вас не оставит и все время будет идти с вами рука об руку.
Потом говорил новый секретарь заводского комсомольского комитета, Гриша Камышов. Узкое лицо и ясные глаза, по губам быстро проносится насмешливая улыбка, и опять серьезен Он жестоко крыл весенних ударниц, участниц молодежного конвейера:
– Весною вы разыгрались, весело было на вас глядеть, да только недолго получал я это веселье. Сейчас же вы и скисли. А когда теперь гляжу, как вы работаете, то откровенно скажу: не чувствую я, что вы ударницы. Вот когда талоны на материю получать, тогда – да! Тогда сразу я чувствую, что в этом деле вы ударницы. Вопрос теперь становится перед вами всерьез. Весною мы больше резвились, спички жгли для забавы, а теперь нам нужно зачинать большой пожар на весь завод. Вот вам истина, от которой не уйдете.
Выступила еще агитпроп комитета Бася Броннер.
– Задним числом глядя, наша весенняя ударная бригада была просто позор. Мы как будто не делом занимались, не решали важную политическую задачу, а матч какой-то устроили волейбольный, веселую для себя забаву!
Говорили много и горячо. В защиту комсомола выступил Ромка Акишин, машинист с прижимной машины, в большой кепке с огромным квадратным козырьком.
– Товарищи! Я коснусь о комсомоле. Как в резину прибавляется ускоритель, чтобы скорее шла вулканизация, так мы, молодежь, впускаем ускоритель в пятилетку. Наша молодежь доказала, что идет впереди. Нас обвиняют, по-моему, неправильно, я сейчас администрацию и завком тоже буду крыть. Есть товарищи, которые смотрят на это не в достаточной степени..
Он подробно рассказывал, как администрация, завком и партийные организации равнодушно отнеслись к весеннему начинанию комсомола и как великолепно работал комсомол, на удивление всему заводу. У Ромки были маленькие, наивные глазки и восхищенное лицо.
– Очень много говоришь, – вдруг кто-то сказал из публики. Хохот.
Ромка еще непривычен был к выступлениям. Смутился и кончил, все время сбиваясь:
– И мы, товарищи, будем бороться против всяких недостатков! Против бюрократизма! Против зажима иныцыативы! Мы, товарищи, за международную революцию!
Жидкие рукоплескания были заглушены смехом. Встала за столом президиума толстошеяя Ногаева с выпученными глазами, – новый партприкрепленный к комсомольскому комитету. И, ломая обычное вначале нерасположение к себе, заговорила спокойно-уверенным, подчиняющим голосом.
– Товарищ Акишин выступал, что все у нас благополучно и что молодежь на первом плане. Так ставить вопрос, Акишин, значит, смазывать наши прорехи. Нельзя усыплять деятельность молодежи, нельзя ей голову кружить самохвальством. Ты подожди, пусть вас похвалят другие, а не вы сами. И нужно вам, ребята, не выхвалять свои прежние заслуги, а браться за дело. Дела много, и дело очень серьезное. Весь район сейчас смотрит на нас, сможем ли мы выйти из того позорного упадка, в который впали. Давайте не давать клятв, давайте не писать торжественных резолюций, которые мы привыкли и умеем писать. А вот давайте все, кто тут есть, – вступим в ударные бригады завтра же!
Бурные рукоплескания. Ромка вскочил:
– Я хочу!
Гриша Камышов спросил с легкой усмешкой:
– Ты что? Будешь оправдываться? Не надо! Крики:
– Не надо!
Оживленно выходили все. Настроение было другое, чем тогда, зимою, когда замыслили молодежный конвейер. И не играя, не с удалым задором, как весною, брался теперь комсомол за боевую работу, а с сознанием большой ответственности и серьезности дела.
Камышов на прощанье сказал:
– Ну, ребята, теперь не шуточки шутить, теперь вы должны доказать ту истину, что комсомол недаром заслужил право носить звание ленинского комсомола.
* * *
И правда, зачался большой пожар. Через две-три недели узнать нельзя было завода' весь он забурлил жизнью. Конвейеры и группы вызывали друг друга на социалистическое соревнование. Ударные бригады быстро росли в числе. Повысился темп работы, снижался брак, уменьшались прогулы. И сделалось это вдруг так как-то, – словно само собой. Какой-то беспричинный стихийный порыв, неизвестно откуда взявшийся.
Но было, конечно, не так. Все подготовлялось заранее самым тщательным образом, намечались для начала более надежные конвейеры и группы, распределялись роли между партийцами и комсомольцами.
Когда звенел звонок к окончанию работы, вскакивал на табуретку оратор, говорил о пятилетке, о великих задачах, стоящих перед рабочим классом, и о позорном прорыве, который допустил завод. И предлагал группе объявить себя ударной. Если предварительная подготовка была крепкая, группа единодушно откликалась на призыв. Но часто бывало, что предложение вызывало взрыв негодования. Работницы кричали:
– И так нагрузка черт те какая, больше не можем!
– Мы не резиновые, нельзя человека без конца растягивать.
– Не хочем мы ударяться, ударяйся сам! Им давали выкричаться. Потом с разных концов начинали подавать голоса партийки и комсомолки:
– Ведь семь часов работаем, не десять-двенадцать, как в царские времена. Можно и понатужиться.
– Что ж мы, на хозяина, что ли, работаем? На себя же, на свое, рабочее государство.
– Товарищи, неужели мы будем терпеть, что по всему району на наш завод пальцами указывают?
– Что разговаривать! Записывай всех в ударные!
Голосовали и принимали предложение. Тут же утверждали заранее приготовленный устав ударной бригады. И появлялись плакаты в цехах и заявления в заводской газете «Проснувшийся витязь»:
Для успешного проведения строительства социализма в условиях обострения классовой борьбы на всех участках этого строительства требуется напряжение всех сил пролетариата. Учитывая трудности строительства и желая прийти к нему на помощь, мы, работницы такого-то конвейера, объявляем себя ударным конвейером.
И дальше шли параграфы устава бригады: каждый ударник должен следить за работой своего соседа, и каждый отвечает за бригаду, также бригада за него… Ударник должен бережно относиться к заводскому имуществу, не допуская порчи такового хотя бы и другими рабочими. Должен быть примером на заводе по дисциплинированности и усердию работы на производстве.




