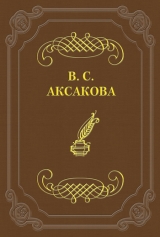
Текст книги "Последние дни жизни Н. В. Гоголя (СИ)"
Автор книги: Вера Аксакова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Annotation
«…30 января 1853 года. Ровно год тому назад вечером приехал Гоголь к нам в маленький дом, в котором мы жили. Мы сидели в отесенькиных комнатах. Гоголь взошел и на наш вопрос о его здоровье сказал:
– Я теперь успокоился, сегодня я служил один в своем приходе панихиду по Катерине Михайловне; помянул и всех прежних друзей, и она как бы в благодарность привела их так живо всех передо мной. Мне стало легче…»
Аксакова Вера Сергеевна
Аксакова Вера Сергеевна
Последние дни жизни Н. В. Гоголя Из записной книжки В. С. Аксаковой
…30 января 1853 года. Ровно год тому назад вечером приехал Гоголь к нам в маленький дом, в котором мы жили. Мы сидели в отесенькиных комнатах. Гоголь взошел и на наш вопрос о его здоровье сказал:
– Я теперь успокоился, сегодня я служил один в своем приходе панихиду по Катерине Михайловне; помянул и всех прежних друзей, и она как бы в благодарность привела их так живо всех передо мной. Мне стало легче.
На наши слова, что он не был на вчерашней церемонии, он отвечал: «Я не был в состоянии». Вполне помню, он тут же сказал, что в это время ездил далеко.
– Куда же?
– В Сокольники.
– Зачем? – спросили мы с удивлением.
– Я отыскивал своего знакомого, которого, однако же, не видал.
Разговор, разумеется, касался большею частью Хомякова. Гоголь спрашивал, сколько его жене было лет, и вдруг, обратясь ко мне, сказал:
– А вам сколько?
– Тридцать три, – сказала я.
– А, так вы ровесница.
Гоголь в самом деле как-то был спокойнее. 1 февраля – это была пятница 1852 года – принесли нам поутру корректуру «Ревизора», но, так как братья уехали в деревню, я не знала, что с ней делать, и послала ее с запиской к Гоголю. В 12 часов утра он пришел сам:
– Что это значит, – я получил вашу записку, но не получил корректуру! Меня дома не было: я был у обедни; возвратившись, нашел записку, но без корректуры.
Нас это очень удивило, и я боялась, чтобы не пропала корректура. Гоголь сказал, что сам пойдет в типографию и спросит. Сказал, что был в церкви, потому что в этот день совершалась поминальная служба (вместо субботы, так как в субботу приходился праздник Сретения), хвалил очень свой приход, священника и всю службу. Я сказала, что сама была у ранней обедни, видела в первый раз Хомякова после его горя, что не решилась к нему подойти.
– Отчего же, напрасно, – сказал Гоголь, – это не могло ему быть неприятно. Напрасно, – прибавил он, – Хомяков выезжает, был в Опекунском совете и т. д.
– Да, – сказала я, – конечно, напрасно, многие скажут, что он не любил жены своей.
– Нет, не потому, – возразил Гоголь, – а потому, что эти дни он должен был бы употребить на другое; это говорю не я, а люди опытные. Он должен был бы читать теперь псалтирь, это было бы утешением для него и для души жены его. Чтение псалтири имеет значение, когда читают его близкие, это не то, что раздавать читать его другим.
Говорили о М. А., о которой он очень жалел, что такая старая женщина не возбуждает ни в ком к себе расположения, а всех раздражает. Много говорили о впечатлении, производимом смертью на окружающих; возможно ли было бы с малых лет воспитать так ребенка, чтоб он всегда понимал настоящее значение жизни, чтоб смерть не была для него нечаянностью и т. д. Гоголь сказал, что думает, что возможно. Тут я сказала, как ужасно меня поразило это впечатление и как все тогда перевернулось у меня перед глазами. – Гоголь вдруг переменил разговор.
В это время приезжал Овер, я пошла его провожать к Оленьке, он оттуда прошел прямо и сказал мне: «Несчастный!»
– Кто несчастный? – спросила я, не понимая, – да ведь это Гоголь!
– Да, вот несчастный!
– Отчего же несчастный?
– Ипохондрик, не приведи Бог его лечить, это ужасно!
– У него есть утешение, – сказала я, – он истинно верующий человек.
– Все же несчастный, – повторил Овер.
Я возвратилась к Гоголю, он в это время сидел с Наденькой, мы продолжали кой о чем говорить, предложили ему завтракать, он отказался. Он был постоянно весел, или скорее, светел как-то и душой и лицом, нам было отрадно его видеть таким, и ни тени беспокойства на его счет не входило к нам на ум. День был ясный, солнечный, провожая его, я сказала ему шутя:
– Вы сегодня не работали?
– Нет.
– Ну, – сказала я, – вы погуляли, теперь вам надобно поработать.
Он так светло улыбнулся на эти слова.
– Да, надобно бы, но не знаю, как удастся, моя работа такого рода, – продолжал он говорить, уходя и надевая шубу, – что не всегда дается, когда хочешь.
Мы проводили его до передней и простились дружески. 3 февраля 1852 года в воскресенье утром я была дома, когда пришел Николай Васильевич.
– Я пришел к вам пешком прямо от обедни, – сказал он, – и устал.
В его лице точно было видно утомление, хотя и светлое, почти веселое выражение. Он сел тут же в первой комнате на диване. Опять хвалил очень священника приходского и всю службу. Я сказала, что в этой церкви венчались отесенька и маменька.
– В самом деле? Ну так скажите вашей маменьке, ей будет приятно знать, что там совершается так хорошо служба.
Я сообщила ему известие из деревни, что на другой день должен был приехать брат.
– Ваши братья скачут, как английские курьеры в чужих краях, только и знают, что ездят взад и вперед (сколько лишних хлопот). Вчера, – прибавил он, – получил я записку от Ольги Федоровны. Какая-то бестолковая, она звала меня обедать, у ней должен был быть М. М. Нарышкин, только написала так, что я не вдруг догадался, когда она меня звала, и уже было поздно, я обедать бы и без того не мог идти, но после пришел бы повидаться с Нарышкиным.
– Что вы делали эти дни? – спросила я его.
– Зачем вам? – сказал он.
– Были ли вы у Хомякова?
– Нет еще, не был.
Мне кажется, ему слишком было тяжело к нему ходить; опять говорили мы о значении чтения псалтири. Я спросила его о корректуре; он сказал, что сам был в типографии и все устроил; говорили о печатанье «Охотничьих записок». Я сказала, что очень тихо идет.
– Вы бы сами держали корректуру, – сказал он. – Не умею.
– Да это вовсе нетрудно, стоит только выучиться этим знакам, я вам сейчас покажу, дайте мне какую-нибудь книгу.
Я подала ему «Москвитянин»; он достал свою карманную книжку, вынул оттуда карандаш, развернул журнал и показал примерно несколько знаков. В это время воротилась Наденька, я ей сообщила полученные известия и что ей предстоит скоро ехать в деревню.
– Да, – прибавил Гоголь, – вы и не знаете, а вам уже назначен маршрут.
Я сказала, нельзя ли устроить как-нибудь нам песни, а Гоголь сказал:
– Когда же? уже лучше на Масленице.
– На Масленице Наденька, может быть, уедет.
– Да, в самом деле – прибавил Гоголь, но тем разговор об этом кончился. Я попросила перейти в другую комнату, сообщила Наденьке корректурные знаки, которым учил меня Николай Васильевич. Он же сам прибавил, что советовал бы нам заняться этим, что за это можно даже деньги получать, что он нанимает теперь корректора и платит ему за один том 100 руб. (кажется, за вторую корректуру). Мы расспрашивали его о печатании его сочинений, как оно идет; он говорит, что он роздал в разные типографии что идет довольно медленно, что ему мешают. Мы звали его приходить к нам с корректурой и у нас ее поправлять, он обещал, и так мы простились.
4 февраля (1853 года) я сидела в нашей маленькой гостиной с Митей Карташевским (брат Константин, Митя и Любенька только что приехали из деревни, самовар был на столе). Мы говорили, очень живо, о Карташевских. Передняя комната была темна, портьерка в нее поднята, я услышала чьи-то шаги, но не обратила в первую минуту на то внимания, думая, что это брат. Шаги приблизились, я обернулась – то был Гоголь; я ему обрадовалась чрезвычайно: вовсе его не ожидала. Он спросил, приехал ли брат, и, узнав, что он у Хомякова, сказал, что сам туда зайдет; спросил меня о здоровье, так как накануне я была нездорова, уселся в углу дивана, расспрашивал о том, о другом, в лице его видно было какое-то утомление и сонливость. Кошелева прислала звать нас с Наденькой к ней, я ему предложила ехать туда же.
– Нет, – сказал он, – я не могу, мне надобно зайти еще к Хомякову, а там домой, я хочу пораньше лечь. Сегодня ночью я чувствовал озноб, впрочем, он мне особенно спать не мешал.
– Это, верно, нервный, – сказала я.
– Да, нервное, – подтвердил он совершенно спокойным тоном.
– Что же вы не пришли к нам с корректурой? – спросила я.
– Забыл, а сейчас просидел над ней около часу.
– Ну в другой раз принесете.
Но этому другому разу не суждено было повториться! Гоголь просидел не долго, простился, по обыкновению подавши нам руку на прощанье, и ушел. Это было последнее свидание. Как нарочно, я не пошла его провожать далее, потому что собиралась ехать. Ничто не сказало мне, что более его не увижу.
Мы все были поражены его ужасной худобой. «Ах, как он худ, как он худ страшно», – говорили мы…








