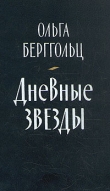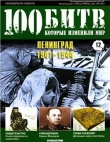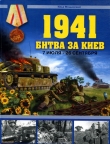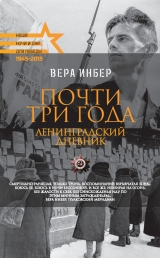
Текст книги "Почти три года. Ленинградский дневник"
Автор книги: Вера Инбер
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
1942 год
1 января 1942 года
Новый год встречали вчера дважды. Первый раз – в пять часов вечера, в Союзе писателей, где был сначала «устный альманах», а потом ужин за счет талонов, вырезанных из наших продовольственных карточек.
Мы пошли в Союз по ледяным пустынным улицам, мимо трамвайного парка, откуда не выходит ни один трамвай, мимо хлебозавода, который дает нам так мало хлеба, мимо пробитого осколками и засугробленного автобуса. По набережной, где стоят два недостроенных корабля, трагических, безмолвных. Перед ними ледяная громада города и за ними покрытая льдом Нева.
В Союзе писателей «устный альманах» происходил в красной гостиной. В камине горели полешки, на столе – свеча, было очень холодно.
Дошла до меня очередь. Я села поближе к свече и стала по рукописи читать первую главу поэмы (название у меня точно еще не решено). Я читала ее на людях впервые. В том месте, где я проклинаю гитлеровскую Германию, у меня перехватило дыхание. Трижды я останавливалась и начинала снова.
После «ужина» пошли домой, снова тем же путем. Было почти совсем темно.
Вечером И. Д. отправился в булочную. Тревога застигла его на обратном пути. Бомбы падали снова возле площади. И. Д. укрылся с хлебом в чужой подворотне. А я дома очень боялась за него.
К двенадцати часам сошли вниз, в кабинет главврача, с последней нашей бутылкой прокисшего рислинга. Розлили по бокалам и выпили молча. Хотели было еще посидеть, но позвонили по внутреннему телефону. Дежурный врач приемного покоя сообщал, что у него сорок покойников лежат в коридорах и в ванной. Не знает, что дальше делать. Главврач ушел туда. Мы поднялись к себе и легли.
2 января 1942 года
Умирают в больнице, главным образом в приемном покое. На кладбищах вырыты длинные траншеи, куда складывают покойников. Отдельные могилы кладбищенские сторожа роют только за хлеб.
Гробов на улицах все больше. Их везут на салазках.
Если гроб пуст, он легко раскатывается из стороны в сторону: его заносит. Однажды один такой задел меня по ногам. Гроб с покойником везут обычно две женщины. Веревки глубоко врезаются им в плечи, но не потому, что покойник тяжел, а потому, что женщины слабы.
Недавно видела труп без гроба, у которого на груди под свивальными пеленами были подложены стружки, видимо для благообразия. Во всем этом чувствовалась опытная, не дилетантская рука. Страшнее всего была именно эта техническая оснащенность. Очень может быть, что за все это пришлось расплатиться хлебом.
В другой раз две пары салазок сцепились полозьями. На одних к крышке гроба были аккуратно привязаны лопата и лом. На других – лежали дрова. Это встретились Смерть и Жизнь.
Часто на салазках везут и живых. У Аничкова моста (откуда, спасая от снарядов и бомб, давно уже вывезли бронзовых коней Клодта) две женщины с трудом влекли салазки, на которых сидела третья с мертвым ребенком в одеяльце.
Видела я также, как истощенная женщина, молодая, с напряжением управлялась с салазками, на которых лежал большой платяной шкаф стиля «модерн» из комиссионного магазина: для гроба.
В одно из воскресений мы шли от наших ворот к площади Льва Толстого. И на этом небольшом пространстве встретили восемь больших и малых гробов и несколько трупов в одеялах. И тут же две женщины вели третью к нам в больницу рожать. Она шла, выпятив живот, желтая, с цынготными кровавыми мешками под глазами, худая, как скелет, еле передвигая ноги.
В другой раз две женщины, по виду учительницы, библиотекарши или что-нибудь в этом роде, везли на салазках пожилого человека в пальто, в меховой шапке и в очках. Он неудобно лежал на боку на коротких салазках, опираясь на локоть. Ноги волочились по земле. На каждой выбоине человек стонал:
– Осторожнее! Осторожнее же!
А те две были в поту, несмотря на сорокаградусный мороз.
Две женщины (снова женщины) ведут под руки дистрофика (мы только здесь узнали это слово). Он переставляет ноги в валенках, как протезы. Глаза устремлены вперед, точно у одержимого. Кожа лица туго натянута. Губы полуоткрыты, и видны зубы, ставшие как бы длиннее от голода. Нос заострился, точно истаял, весь в язвочках, кончик несколько загнут набок. Теперь я знаю, что значит «обглодан голодом».
Лица на улицах или неестественно обтянуты и глянцевиты (это отеки), или зеленоваты и бугристы. Под кожей ни капли жира. И мороз гложет эти сухие остовы. (Я пишу это и слышу, как у моих ног, в корзине для бумаги, куда мы раньше сбрасывали хлебные крошки, роется обезумевшая от голода мышь, – мы зовем ее «княжна Мышкина». Она даже не в силах радоваться тому, что съедены все кошки…)
Не могу выносить на улицах резкой струи соснового экстракта. Это значит – или провезли на грузовике трупы, залитые этой жидкостью, или прошел пустой грузовик (чаще всего газогенератор), недавно перевозивший трупы. Так и стоит в морозном воздухе этот убийственный запах.
Вечер
Заведующая кафедрой иностранных языков в Мединституте И. совершенно одна на свете.
У нашей И. единственное близкое существо – собака, эрдель-терьер, по имени Карма. Я всегда их видела вместе: они не расставались.
Во время одного из налетов бомба попала в квартиру И. на улице Маяковского. Все лицо И. было засыпано осколками. Карма где-то пряталась несколько часов, потом явилась.
До 1 декабря всем служебным собакам выдавали паек. После 1-го паек прекратился, и начали есть самих собак.
Не так давно в ледяном коридоре, внизу, я встретила И. с Кармой. И. говорит мне: «Вот. Иду на кафедру токсикологии, где собаку усыпят. Я буду при этом, дам ей вкусно поесть в последний раз, у меня еще есть для нее сырные корки. А что будет с ней потом, я не хочу знать, хотя знаю наверно: ее съедят. Ее давно уже ждут сотрудники». И она ушла с собакой на кафедру токсикологии.
Сегодня снова видела И. на лестнице, без собаки. Она мне рассказала, что укол Карме был сделан неудачно. Ослабевший токсиколог не мог попасть сразу в сердце. И собака кричала перед смертью, как человек.
Сегодня же утром, когда мы шли завтракать вниз в нашу обледенелую столовую, навстречу нам несли человека. Это был знакомый Бориса Яковлевича, – чуть ли не врач caм. Он пришел просить, чтобы его голодавшую жену положили в больницу. И, прося за нее, потерял сознание от голода. Его-то и пронесли мимо нас в приемный покой.
А вчера вечером в углу за дверью, под шкафчиком с ключами, на стуле, где сидит дежурная, мы увидели незнакомого человека. Он сидел, свесив голову, опустив безжизненные руки. Все мышцы ослабели. Одна калоша валялась вблизи стула.
Б. Я. тронул его за висок, там, где бьется жилка, и сказал: «Слабые признаки жизни еще есть». После многочисленных звонков пришли изнемогающие санитары и унесли человека в приемный покой. Жив ли, никто не знает.
Это был рабочий ближней фабрики. Ему был дан бюллетень, он шел в больницу. Вошел в главное здание через парадную дверь, которая теперь так слабо охраняется, добрался до этого стула и стал тихо умирать, как умирают сейчас тысячи дистрофиков. Погрузился в ледяную бездну.
3 января 1942 года. Вечер
Человек, виденный нами вчера в коридоре на носилках, не врач, а физик. Он умер в приемном покое через полчаса. Человек, сидевший в углу под ключами, тоже умер.
Под Москвой наши дела на фронте превосходны. Ленинград живет последними остатками сил. Это предельное напряжение сил чувствуется во всем: трамваев нет, истощенные люди делают в день по многу километров, иногда больше десяти. Они тратят на это последние калории.
В очень многих районах (в нашем тоже) совсем нет радио: экономят энергию. Вода только в нижних этажах, а то и вовсе нет. Что это будет весной, когда стает снег?
Сегодня в город должны были привезти цистерны с бензином, но не привезли. Не было угля для паровоза. Говорят (и это правда), что повсюду – в Тихвине, в Волхове, в Мурманске, особенно в Мурманске, – стоя? эшелоны с продуктами. Ящики стоят там с надписью: «Только для Ленинграда!» Об этом говорят с восторгом, с жадностью, с нежностью. Иные не говорят, – у них нет сил.
Передают, что там есть все, вплоть до бананов. О бананах я впервые услышала в нашей столовой, где стены стали совершенно мохнатыми от инея и где температура много ниже нуля. Бананы?!
Милиционеров приносят в приемный покой прямо с поста. Они умирают, не успев даже согреться. Однажды связистка-студентка подняла на улице милиционера, упавшего от голода. Кроме того, у него были украдены хлебные карточки. Эта девочка, волоча милиционера на себе, втащила его в булочную и купила ему хлеба по завтрашнему талону своей карточки. А сама она как завтра?
Светомаскировка стала небрежной. То ли потому, что давно не было налетов, то ли сил нет. Шторы опущены кое-как. Да и то сказать – ведь почти нигде нет электричества. Мороз покрывает окна ледяными щитами. Да луна, исступленно-зеленая, свирепая, своим светом затмевает наши земные коптилки.
Радость была в тот день, когда прибавили по 75 граммов хлеба, но это было давно. Теперь об этом забыли. Тот человек, который на улице плакал и смеялся от счастья, идя навстречу нашей Евфросинье Ивановне, вероятно, давно уже умер. Сама Евфросинья едва жива. Муж у нее умирает. Он бывший повар. В полузабытьи его преследуют виденья некогда изготовленных им блюд: пом-суфле, беф-строганов, соусы. Их аромат, вид, шипенье масла на сковородке. Он говорит об этом вслух, терзая себя и окружающих. Евфросинья плачет, говорит:
– Замучил.
Что будет, если в самом скором времени не подвезут продовольствия? А зима еще долгая. Страшная.
Наши теперешние ночи неописуемо тихи. Ни гудка, ни шума трамваев, ни лая собак, ни мяуканья кошек. Нет радио. В темных ледяных квартирах город засыпает. Многие навеки.
Очень давно не имела писем от наших из Чистополя.
Да и как пробьются сюда эти письма? .
4 января 1942 года
Вчера ночью вспыхнул пожар в студенческом общежитии: злополучное место, куда уж дважды попали бомбы.
Сначала предполагали, что пожар возник от неправильно поставленной времянки. Но потом выяснилось, что от спички, брошенной в угол, в кучу мусора. Нечаянно или умышленно… кто знает? Может быть, и второе, так как в суматохе пожара начали пропадать вещи.
Один из пожарных работал особенно хорошо, в дыму, без маски: не было кислорода. Решили премировать его. А он, узнав, что гасил здание, имеющее отношение к медицине, сказал:
– Не надо мне другой премии, как только хотя бы сто граммов рыбьего жира для моей жены.
И он получил этот драгоценный жир, лучший из витаминов.
Наша мышь («княжна Мышкина») затихла, видимо навсегда. Жаль. Хоть какое-то движение было, шевелился этот «омочек жизни. Теперь и его нет.
Мне кажется, что, если в течение десяти дней не будет прорвана блокада, город не выдержит. Ленинград получил от войны все сполна. Надо, чтобы и немцы на Ленинградском фронте получили той же мерой.
СССР называют спасителем человечества: это так и есть.
Я горда тем, что у меня «советская паспортина». Теперь она оливковая, скромная. Но все равно она излучает сияние.
Если бы кто-нибудь знал, как страдает Ленинград.
А зима еще долгая. Морозы лютые. Сегодня теплее, но зато сильно метет. За городом, наверное, пурга. И нельзя слушать без волнения, как этот голодный, темный, замерзающий город радуется морозам, от которых гибнут гитлеровцы на нашем фронте.
– Так им и надо! – повторяют люди посиневшими губами, стоя в подворотне во время обстрелов.
Блокаду Ленинграда обычно именуют «огненным кольцом». Нет, скорее это кольцо ледяное.
Начала вторую главу поэмы. Попытаюсь описать в ней одну ленинградскую ночь.
5 января 1942 года
Артобстрел нашего района и даже нашей территории. Снаряды рвались так близко, что было предложено всем нам выйти из фасадных комнат главного здания.
На днях мне снился сон, будто я и еще люди, невидимые в темноте, стоим в подворотне, пережидая обстрел. Проносятся полые светящиеся шары. «Остерегайтесь брызг. Это ипритные волчки!» – кричит кто-то. Я проснулась со стеснением в сердце.
Говорят, будто мы взяли Мгу. Но кто это слышал? Ведь радио почти ни у кого не работает.
6 января 1942 года
Сегодня впервые была в приемном покое.
Я прошла две ванные комнаты, где стоят ванны с чистой водой. Но там никто не купался.
В первой комнате, на полу, на больничных носилках, лежал совершенно обнаженный мужской труп. Скелет и тот полнее. Здесь лежало нечто такое, что как бы никогда и не было телом с кровью и мышцами. В глубокой сухой впадине под ложечкой, как в чашке, лежала записка: имя и фамилия умершего. Я не прочла ее.
Глаза покойника были открыты, лицо покрыто той особой «трупной» бородкой, которую не берет никакая бритва. Жутко торчал нос.
В следующей комнате стояло в ряд несколько носилок: это были трупы, мужские и женские. Совершенно одинаковая нечеловеческая худоба лишила их возраста и даже пола.
Меня поразило, что у первого трупа на ноге, ниже колена, была кровь, немного крови. Упал, очевидно. Или его ушибли. Я подумала:
«Как? Значит, в этом теле все же была кровь? Была жизнь?»
Во всех остальных комнатах и коридорах, на скамьях, носилках, а то и просто на полу сидят и лежат по существу такие же трупы, только они одеты. На лицах живут только глаза. И так сидят они по многу часов. Среди них ходят две женщины-врача, сами похожие на мертвецов.
Здесь никого не лечат, только кормят. Болезнь у всех одна – голод. На одной из скамеек лежит рабочий. Живой. Он еле шевелит языком и повторяет одну фразу:
– Семнадцать лет… семнадцать лет на производстве…
На другой скамье – старуха. А может быть, и не старуха – полу труп. Живы одни глаза. Губы лиловые. Лежит на боку. Рядом не то костыль, не то палка. И пустая кошелка: вероятно, прямо из очереди.
И среди этого ужаса попадаются и притворщики, симулянты, тоже голодающие, но не смертельно. Эти из-за тарелки супа приходят сюда через весь город. И оспаривают кусок или глоток пищи у тех… в ванной комнате.
Хватит ли сил дождаться снятия блокады? И сколько останется в живых, чтобы радоваться тому, что они живы?
7 января 1942 года
Вчера перестали работать городские телефоны во всем нашем корпусе, – не знаю, как в других зданиях. Очевидно, всюду. Сначала были квартиры, а теперь очередь дошла до учреждений. Но город держится: надо держаться.
Слушала лекцию профессора Тушинского о «голодной болезни» – таково ее действительное название.
Тело состоит из жира и мышц. Жир, жировая подкладка – это наша шуба. Мышцы – фабрика тепла. Когда исчезла «шуба» и не работает «фабрика», наступает смерть. Тогда мы съедаем собственные мышцы, наш «аварийный запас». Падение веса идет толчками. Температура равномерно понижена в течение целого дня.
Печень – это продуктовый склад. Нормальная печень весит 1 500 граммов. У голодающего – 700.
Внешне голодная болезнь выражается то отеками, то высыханием. У отечных происходит разжижение крови. Отекает сама кровь.
Кожа сухая, лишенная пота и сальной смазки. Апатия. Специфическое выражение лица.
Чудодейственно восстанавливает силы глюкоза, введенная в вену или просто проглоченная. Недаром актеры балета после большого сольного номера съедают 50 граммов глюкозы.
У голодающих наблюдается острая потребность в углеводах, то есть в хлебе. Ведь сказал же академик Павлов: «Наш организм очень умен. Он хочет то, что ему полезно».
Среди прочих интересующих меня вещей узнала и о том, почему у нас нет эпидемии сыпняка. Оказывается… из-за блокады. К нам не попадает новый вирус, а у нас он уже «дохлый», ослабевший. Таким образом, та же блокада, которая убивает город, спасает его от инфекции.
И все же говорят, что части генерала Мерецкова 10 января будут в Ленинграде. Ну, пусть не 10-го, а 15-го, 20-го, в конце января, но только пусть будут. Ничего более потрясающего, чем эта встреча города и армии, вероятно, не было и не будет в истории.
И главное – ни радио, ни газет. А теперь и ни телефона. Никто ничего не знает. И от наших ни звука, ни слова. Очевидно, опять разбомбили телеграфную проводку. Живы ли? Здоровы ли? Получили ли от меня деньги?
27 января Мишеньке год. Пусть к этому дню (а может, раньше?!.) будет снята блокада.
Без четверти семь. Вечер
Обстрел. Сначала мне показалось, что дрова падают. И часто-часто, полено за поленом. А потом я подумала: «Откуда же столько дров?» И сразу стало ясно – обстрел.
«5 января 1942 года. Около 11 часов утра
Вчера трудный день. В первой половине дня погас свет. Тока не было до сегодняшнего утра. Поели только утром (суррогат кофе и суррогат молока, но как вкусно!). Каши съела немного пшенной, зато… (Снаряд где-то близко.) И… иду вниз. Обстрел сильный.
Половина двенадцатого. Вернулась. Обстрел кончился. Он был недолгий, но шквальный, как тогда, в трамвае, у Ситного рынка.
Мой очерк ушел в Куйбышев, в Совинформбюро, оттуда в Америку. Сегодня истекал последний срок аванса, который прислал мне Афиногенов. Теперь, если получу подтверждение, что очерк дошел и подходит, буду писать регулярно три раза в месяц.
К отправке очерка начала готовиться за несколько дней. Прежде всего переписала его так, как это нужно для телеграфа: «Посылаю первый очерк под названием кавычки так мы живем кавычки точка абзац существуют два ленинградских фронта двоеточие боевой и бытовой точка первый тире на подступах к городу запятая где сражается наша Красная Армия точка второй тире сам город точка». И так далее.
Вчера снова заштопала И. Д. шерстяные носки и рукавицы. Выстирала кашне, чтобы оно, распушившись, стало теплее: морозы лютые. Оставила вчера хлеб И. Д. на дорогу: ведь ему предстояло идти пешком через весь город на главный почтамт, где только и берут телеграфные корреспонденции – и то когда горит электричество. На всякий случай дала свечу для телеграфистки.
И. Д. встал с рассветом и пошел, и вот только сейчас вернулся. Самое горькое то, что нет тока и по вечерам нельзя работать. А вечер сейчас – это начало пятого, да и днем темновато, хотя дни, как правило, морозные и ясные. Вот и сейчас тоже.
Вчера вечером, в предвидении сегодняшнего «телеграфного похода», при свете «летучей мыши» (последний керосин) мы, по моей инициативе, устроили роскошный ужин: половина маленькой сырой луковицы (вторая половина будет съедена сегодня), мелко нарезанная, густо посоленная и политая подсолнечным маслом. Все это с хлебом: каждый получил по три тартинки. Крошки мы высыпали в тарелку. Они пропитались остатками масла, и мы поделили их поровну. Кроме того, мы выпили остатки вина: портвейн «Арарат», высший сорт. После этого мы легли спать необыкновенно счастливые. В темноте тотчас же явилась наша «княжна Мышкина» (оказывается, она еще жива), сновала по столу, клевала крошки, как птица. Потом с писком провалилась в пустой (конечно, пустой) молочник. Мы зажгли спичку. И «княжна», сделав последнее усилие, выкарабкалась из молочника (чего ей это стоило!) и скрылась.
Света у нас не будет. Будут давать ток на три-четыре часа в сутки, но в самое неопределенное время: быть может, ночью.
9 января 1942 года Около 2 часов дня
Сильный артобстрел. И. Д. рядом, за стеной, принимает зачеты у студентов, и я спокойна…
Жанна, девочка моя. Стараюсь не думать о ней, но не могу. Ее письма для меня страшнее самого страшного обстрела. Как она мечется, бедная! Отдала ребенка в ясли, думала, будет лучше. Теперь хочет взять его оттуда, так как он схватил там ветрянку. Правда, легкую, по ее словам. Но много ли такому крошке нужно?
Жанна пишет: «У него личико очень хорошенькое: видно, что он уже большой, что ему скоро год, а тельце худенькое и ротик беззубый – просто сердце разрывается. Ему годятся все его новорожденные кофточки и распашонки. Они стали только очень короткие, а в ширину как раз…»
А я читаю и думаю: «Как он лежал в картузике… Зачем я позволила увезти его? Но что я могла сделать?»
И. Д. утешает меня. И мне самой кажется, что вот только пройдет зима, а там легче будет.
Все замечают, что И. Д. очень похудел. Я стараюсь отдавать ему свою долю, – мне ведь меньше нужно. Но, конечно, этого ему недостаточно.
Появилась нота Молотова к нашим союзникам о фашистских зверствах в оккупированных районах. Я не читала еще, радио тоже молчит. Сейчас оно издало какой-то звук. Оказалось – это проба местного радиоузла. Обстрел прекратился.
13 января 1942 года
Темнеет. У меня нет света. Но я должна немедленно записать то, что слышала собственными ушами: паровозный гудок. Слабый, но ясный и отчетливый. Первый гудок за все время блокады.
Мы все выбежали во двор проверить, правда ли? Тишина. Мороз. Снег лежит. Мы стоим и слушаем. Рядом со мной доктор Пежарская. Она мне напоминает мою покойную мать – и даже не чертами лица, а всем обликом. Мы слушали с ней, потом взглянули друг на друга. Да, дорожные гудки.
Значит, правда, что начала работать ледовая дорога через Ладогу, о которой нам говорили. А потом поезда повезут продукты от Ладоги до города. Это жизнь наша.
Это наше спасение, может быть.
14 января 1942 года. 4 часа дня
Лютый мороз. Сижу в пальто, в перчатках. Читаю Тимирязева. Я знала его по имени, уважала, чтила: мировой ученый, блестящий популяризатор. Но по существу я ничего не знала о нем. Если говорить правду, он был для меня только малоудачным, на мой взгляд, памятником у Никитских ворот: узкая темная фигура, стесанная с боков, в длинной мантии. Руки благонравно сложены, точно у школьника на экзамене.
Этот памятник был сшиблен во время одной из первых московских бомбежек, еще при мне. Но через несколько дней Тимирязев снова, как ни в чем не бывало, стоял на прежнем месте, сложив руки. Его восстановили очень быстро.
Теперь я прочла книгу Тимирязева о хлорофилле, зеленом веществе растений.
«Жизнь растения, – пишет Тимирязев, – постоянное превращение энергии солнечного луча в химическое напряжение; жизнь животного – превращение химического напряжения в теплоту и движение». Дальше он говорит, что на солнце как бы «заводится пружина», которая спускается на земле. И эта развернутая пружина и есть жизнь.
«Зерно хлорофилла является звеном, соединяющим величественный взрыв энергии в нашем центральном светиле со всеми многообразными проявлениями жизни на обитаемой нами планете».
Тимирязев цитирует Больцмана и Ньютона. Ньютон писал: «Природа, по видимому, любит превращенья». И дальше: «В ряду таких разнообразных и странных превращений почему бы природе не превращать тела в свет и свет в тела». Ньютон только догадывался о том, что знал Тимирязев.
Больцман писал: «Растения развертывают неизмеримую поверхность своих листьев и вынуждают солнечную энергию, прежде чем она упадет до уровня температуры земли, вызывать (не вполне еще исследованные) химические синтезы, еще неведомые нашим лабораториям».
«Неизмеримая поверхность листьев…» При этих словах мне представляется колышущийся океан зеленой листвы и частицы света, летящие к нам сквозь ледяные пространства вселенной.
15 января 1942 года. 9 часов 15 минут вечера
Вчера ночью горела прозекторская. Туда привезли полуобгоревшие трупы с завода, где был пожар (пожары теперь подлинное бедствие). Трупы были в ватниках, которые еще тлели, но этого никто не заметил.
Огонь, таившийся между слоями ваты, постепенно выходил наружу. Пламя вырвалось из ватников и охватило старые сухие ящики, привезенные для гробов. Все наполнилось дымом.
Прибежал наш начальник пожарной охраны и стал руками растаскивать трупы.
Воды не было. Пришлось засыпать огонь снегом. Но прозекторскую отстояли.
Как только кончился пожар, начался другой, на противоположном берегу Карповки, вдоль ограды Ботанического сада, где стояли военные грузовики.
От неосторожно разведенного костра загорелся грузовик-цистерна с бензином. Один, за ним другой. На третьем загорелся мотор. Его с опасностью для жизни отцепили от цистерны. Со вторым не могли справиться и столкнули его в Карповку, куда он упал, пробив лед. Столб огня при этом взметнулся выше трубы нашей котельной. А в ней сорок метров.
Сила огня – потрясающая. У нас в комнате можно было читать…
Была очень занята все это время, день так короток, света нет. Хозяйства хоть и никакого, но все равно ежедневно надо что-нибудь шить либо штопать. Моя мания порядка обходится мне дорого. С другой стороны, именно сейчас надо особенно следить за чистотой.
Но все же многое успела: вчера написала 7 строф.
7 * 6 = 42. Для меня это много. Поэтому я не сразу написала об А.
А. – наш москвич. В настоящее время пишет (насколько я поняла) «философский трактат» «Дух войны».
В связи с этим решил, что ему надо взглянуть на Ленинград. Кроме того, у него тут родные жены, которые, ясное дело, голодают.
Не знаю, что из этих двух причин было важнее, но, как бы то ни было, А. добился почти невозможного: прилетел сюда на военном самолете, который вез ордена и дензнаки.
Узнав от Кетлинской мой адрес, А. явился вечером ко мне. Мне позвонили по внутреннему телефону из кабинета Бориса Яковлевича, что меня хочет видеть «писатель из Москвы».
Писатель из Москвы? Боже мой! Закутавшись в платок, я сбежала вниз, в этот ледяной мрак.
При свете коптилки я увидала А. Лицо его мне было знакомо. Но, как это часто бывает со мной, я не знала, кто это. И все же, почти незнакомый, как он был мне дорог! Это был человек оттуда. Я обняла его. Я себя не помнила от радости. Усадила его на диван.
– Говорите, рассказывайте, – повторяла я.
Он смотрел на меня с нежностью и жалостью. Изменилась я, наверно.
В разговоре он, как о чем-то таком, что мне уже известно, сказал о гибели Афиногенова в Москве.
– Не может быть! – закричала я, вспомнив афиногеновские глаза, веселую, плутовскую ямку на щеке, его легкую поступь по жизни: ему все удавалось. – Погиб!..
Неправда! Не может быть! – Но тут же поникла головой. – Нет, правда. Наверное, так и есть.
А. пришел на другой день. Мы прошлись с ним по больничному двору. Он смотрел на наши здания, на оледенелые деревья. На лица людей. Он не мог говорить. Он был ошеломлен.
Теперь он уже улетел в Москву.
17 января 1942 года
Полчаса тому назад был короткий, но довольно сильный обстрел. Когда он кончился, И. Д. ушел на главный почтамт отправить деньги своим и Жанне. Районные почтовые отделения не работают: нет света, о тепле уже не приходится говорить. А в одном, где, по слухам, была свеча, все до одного не вышли на работу: больны или умерли. Из-за отсутствия света не работает и банк. В частности, я по этой причине не могу получить деньги на радио. Говорят, что будут платить в третьей декаде января.
Хорошие вести с фронта. На радио сказали мне, что Федюнинский начал генеральное наступление. И что в районе озера Ильмень идут бои, о которых немцы пишут, что по масштабам они превосходят московские. Но эти, быть может последние, испытания Ленинграда – самые тяжкие.
А тут еще морозы.
Леля П., которую мы устроили сестрой-хозяйкой в военный госпиталь, захворала воспалением легких и лежит у нас. Я навещаю ее.
20 января 1942 года. Утро
Так занята своей поэмой и хозяйством, что просто не хватает времени ежедневно писать дневник, как этого хотелось бы.
За эти дни я исправила и перемонтировала первую главу. Теперь те места, которые мне казались сильными, пришлось переставить, так как новые строфы их забивают. Переписала наново место о гуманизме. Никогда еще не работала с такой страстью. Даже ночью я пишу лежа и не могу остановиться. Умираю от усталости, а все продолжаю думать, и все важно. Что ни вижу – всему находится место, как в приготовленном гнезде. Это первый признак, что сознание целиком отдано работе и все усваивает. В воскресенье (опять под обстрелом) пошли на Песочную. Квартира наша ужасна. Ледяной хаос. Температура минус пять.
Марфуша – Лелина работница (иждивенческая карточка) – умерла 13-го числа.
В столовой – грязные кровати, сор, пустые бутылки из-под постного масла, коптилка, топор, щепа. На всем слой жирной сажи. На стенах, покрытых копотью, по-прежнему висят тарелки: фарфор и фаянс.
В третьей комнате, где от давнишней бомбежки выбито стекло, ледяные грязные простыни. Напущенная в ванну вода замерзла. Студенческое общежитие перевели в нижние этажи. Там теплее.
Ночью Дина Осиповна и Инна выходят на лестницу и сидят, прижавшись к теплым радиаторам (лестница еще отапливалась). Здесь, по их словам, они приходят в «радостное настроение» и мечтают о будущем.
От Жанны по прежнему ничего. Последнее ее письмо, посланное еще в ноябре, было тревожно. Мальчик был смертельно болен. Жанна писала:
«Мы с Юрой не раздевались вовсе и по очереди давали Мише кислород. Он, как птенчик, открывал свой ротик, когда ему подносили трубку. Вообще же он все время держался молодцом (если так можно сказать про десятимесячного крошку), переносил самые суровые банки и горчичники, принимал лекарства».
Единственное мое утешение в том, что после этого письма было другое, где сказано, что Мишеньке легче.
Сегодня 28 градусов мороза.
20 января 1942 года. Вечер
«Меридиан» двигается отлично. Даже по ночам не дает спать: требует, чтобы я его писала. Только бы хватило здоровья и сил!..
21 января 1942 года
Важные новости: прибавили хлеба. Рабочим по 50 граммов, служащим – 100.
Большие успехи на Калининском фронте: мы взяли Холм.
У нас жестокий мороз: чуть ли не 35 градусов.
25 января 1942 года
Вчера, оказывается, было 40 градусов, да и сегодня как будто не меньше. Послезавтра Мишеньке год. Его первая погремушка (целлулоидный барабанчик с горошиной внутри) висит на ленточке у моего изголовья.
Читала больным в нашей глазной клинике.
7 часов вечера
Положение катастрофическое. Сейчас люди напали на деревянный забор больницы и растащили его на дрова.
Воды нет. И если завтра остановится хлебозавод хотя бы на один день – что будет? У нас сегодня нет супа, одна каша. Утром был кофе, но больше ничего жидкого не будет.
Из воды у нас: половина чайника (мы храним его в горячем песке), половина кастрюльки для умывания и четверть графина на завтра. Все.
26 января 1942 года
Впервые заплакала от горя и злости: нечаянно вывернула в печку кастрюльку с кашей. И. Д. все же проглотил несколько ложек, смешанных с золой.
Хлеба до сих пор нет. Но зато я написала три очень хороших строфы: концовку главы «Свет и тепло».
Пишется мне как никогда. Но плохо сплю по ночам: все немеют пальцы рук. Сначала мелкие иглы, потом крупнее, крупнее, реже, реже. И, наконец, полное омертвение. Руки отмирают.
27 января 1942 года
Хлебозавод все же не прекратил работу, как мы этого боялись. Когда водопровод перестал работать, 8 тысяч комсомольцев – так же, как и все, ослабевшие от голода, озябшие, – стали конвейером от Невы до пекарских столов завода и подавали туда воду ведрами, из рук в руки.