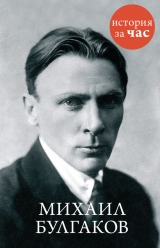
Текст книги "Михаил Булгаков"
Автор книги: Вера Калмыкова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
«Москва – мать»
Изувеченный за годы революционной разрухи город стремительно обновлялся. За 1922–1923 гг. положение Булгакова в литературе еще более упрочилось. Он посещал знаменитые литературные объединения, где писатели представляли аудитории свои произведения (тогда существовал обычай читать и прозу, и стихи вслух), и пользовался успехом. О нем говорили как о подающем большие надежды авторе. И в первой половине 1920-х гг. он жил в одном ритме с Москвой, которую не случайно назвал матерью. Одно за другим написаны сатирические произведения «Похождения Чичикова» (1922), «Дьяволиада» (1923), «Роковые яйца» (1924), «Собачье сердце» (1925). Первые три были опубликованы в «Накануне» и альманахе «Недра», а потом в сборнике прозы Булгакова «Дьяволиада».
Преуспевающий, востребованный журналист Булгаков не был доволен жизнью. Газетная работа явно не стала его стезей. Чтобы прокормить семью, приходилось писать фельетон за фельетоном, буквально ежедневно. Не оставалось времени, как он говорил, «для себя», т. е. для большой серьезной работы. Чего ему стоило написать свои крупные произведения! Работал он по ночам. От нервного напряжения у него леденели ноги, и жене приходилось постоянно греть воду, чтобы Булгаков мог согревать их хотя бы в тазу.
В 1924 г. Булгаков разошелся с первой женой, Татьяной Николаевной Лаппа, преданной ему и любившей его. После смерти писателя одна из его сестер говорила о его вине перед нею. «Был день, когда он пришел в последний раз. Смущенный, почему-то с бутылкой шампанского. („Это что, полагается так разводиться, с шампанским?“ – насмешливо и строго скажет она…) Он мялся, чувствовал себя виноватым. Объяснения не получалось. Она смотрела на него своими сумрачными синими глазами из-под сдвинутых черных непрощающих бровей.
Она была горда и объяснений не хотела. Но об одном он попросил твердо. Это было смыслом его последнего разговора с ней. Пусть их прошлое будет только их прошлым. Пусть она обещает не таить зла и никому не рассказывать то, что знает о нем» [14, с. 46].
Жгучая и весьма опасная по тем временам тайна Михаила Булгакова – его служба в Белой армии.
Его второй женой стала Любовь Евгеньевна Белозёрская (1895–1987). «В жизнь Булгакова эта женщина вошла как праздник. У нее были легкие, летящие волосы, легкая походка, смеющиеся глаза. Она увлекалась верховой ездой, потом автомобилизмом. Очень любила животных, и в доме Булгакова через некоторое время впервые появилась собака – влюбленный в свою хозяйку маленький длинношерстый Бутон (в пьесе „Кабала святош“ так был назван один из персонажей – слуга Мольера). А еще прежде Бутона – кошка, „дымчатый тощий зверь“ с круглыми встревоженными глазами, так подробно описанная и в повести „Тайному другу“, и в „Театральном романе“.
<…> Годы брака с Любовью Евгеньевной – это годы создания „Дней Турбиных“, „Багрового острова“, „Зойкиной квартиры“. Она переводила для Булгакова с французского языка книги о Мольере. Ее рукою, под диктовку писателя, написаны многие страницы пьесы „Кабала святош“ и пьесы „Адам и Ева“ и страницы первой редакции романа, который впоследствии стал романом „Мастер и Маргарита“» [14, с. 176, 177].
«Светлое будущее»: фантастика и антиутопия
1920-е гг. – интереснейшее время в отечественной культуре. Ничем не скованные, писатели, архитекторы, художники, музыканты, театральные деятели объединялись в творческие группы, искали новые приемы в искусстве. Возникали небывалые жанры. Так, в литературе появилась научная фантастика. Первый отечественный роман о полете в космос, «Аэлита», написан Алексеем Николаевичем Толстым (1923).
Но параллельно появлялась и другая фантастика. Поразительные события случались не на Марсе или Венере, а на Земле, более того – в послереволюционной Москве. Конечно, так и должно было быть: ведь в 1917 г. в России произошел, в сущности, фантастичнейший государственный переворот, и это не могло не отразиться в искусстве. В прозе Евгения Замятина, Александра Чаянова, Всеволода Иванова, Валентина Катаева и других авторов утопические картины грядущего то пугали, то завораживали читателей. Потребность в проектировании будущего и расширении границ настоящего, казалось, витала в воздухе. Ведь строился новый мир, и никто не понимал, по каким, собственно, законам ему предстоит жить и развиваться.
Михаил Булгаков в своем творчестве отдал дань актуальным вопросам своего времени, но, разумеется, сделал это по-своему. И в повести «Роковые яйца», и в романе «Собачье сердце» ученый делает поистине революционное открытие, способное перевернуть жизнь человечества. Однако парадокс в том, что массовый, средний человек остался все тем же, каким он был в старом мире, поэтому выпустить великое открытие в мир – означает обречь его на уничтожение.
В «Роковых яйцах» профессор Персиков открывает странный эффект – воздействие красного света на эмбрионы. В «Собачьем сердце» профессор Преображенский открывает способ превращения животного в человека путем пересадки гипофиза и семенников. Но никакие открытия не пойдут на пользу, если люди не готовы ими распорядиться.
Так Булгаков выносит суровый приговор: нового человека нельзя получить искусственным путем. Мечта о мгновенном преображении личности после установления пусть даже справедливого общественного строя утопична и более того – опасна. Личностный рост нужно пережить и выстрадать. Со стороны никого нельзя сделать добрым, великодушным, благородным. Обновиться, обрести новое человеческое качество можно только самостоятельно, изнутри.
И поэтому изменения в России, с точки зрения Михаила Булгакова, – только внешние. Пройдут десятилетия, люди изменятся сами, внутренне, и только после этого можно будет говорить о новом человеке. А до этого момента, по сути, «светлое будущее» неосуществимо: человек-то прежний, а значит, и формы социального существования он будет воспроизводить все те же, старые, порочные. И более того, при первой возможности он вернется к старому.
Разумеется, подобные социальные прогнозы не могли быть одобрены властью, внимательно следившей за событиями в литературе, и потому запрет повести «Собачье сердце» выглядит вполне закономерным.
«Белая гвардия» и «Дни Турбиных»
В первые месяцы 1923 г. Булгаков начал работать над романом «Белая гвардия», а 20 апреля он вступил во Всероссийский союз писателей.
«Белая гвардия» – первое крупное произведение Булгакова, очень важное для него самого. Это «роман о трагедии людей долга и чести в моменты общественных катаклизмов и о том, что самое ценное на свете – не идеи, а жизнь» [13, с. 105].
Безусловно, произведение это автобиографично. Дружная семья Турбиных – это, конечно, семья Афанасия Ивановича и Варвары Михайловны Булгаковых. Ни отца, ни матери к моменту событий уже нет в живых, но выросшие дети выживают потому лишь, что их поддерживает атмосфера семьи, дух рода. Словно желая навеки запечатлеть в слове любимые детали быта, одно воспоминание о которых вызывает ощущение счастья и боли, Булгаков описывает квартиру своих героев:
«Много лет до смерти [матери], в доме № 13 по Алексеевскому спуску, изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку. Как часто читался у пышущей жаром изразцовой площади „Саардамский Плотник“[2]2
О «Саардамском Плотнике» писала Л. М. Яновская: «Наивная книжка теперь уже прочно забытого писателя П. Р. Фурмана, посвященная той поре в жизни царя Петра, когда Петр работал корабельным плотником в голландском городе Зандаме (Саардаме). В книжке был крупный шрифт и множество иллюстраций во всю страницу, и Петр, „мореплаватель и плотник“, Петр, работник на троне, представал в ней доступным и добрым, веселым и сильным, с руками, одинаково хорошо владеющими и плотницким, и, если понадобится, хирургическим инструментом, и пером государственного деятеля, легендарный, сказочный, прекрасный Петр» (Яновская Л. М. Творческий путь Михаила Булгакова. – М.: Советский писатель, 1983. С. 7).
[Закрыть], часы играли гавот, и всегда в конце декабря пахло хвоей, и разноцветный парафин горел на зеленых ветвях. В ответ бронзовым, с гавотом, что стоят в спальне матери, а ныне Еленки, били в столовой черные стенные башенным боем. …Часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и „Саардамский Плотник“, и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий.Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле… бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовой, Капитанской Дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, – все семь пыльных и полных комнат, вырастивших молодых Турбиных, все это мать в самое трудное время оставила детям и, уже задыхаясь и слабея, цепляясь за руку Елены плачущей, молвила:
– Дружно… живите» [1, с. 55, 56].
Исследователи нашли прототипы каждого из героев «Белой гвардии». Всех друзей юности Булгаков запечатлел на страницах своего романа, не позабыв никого, всем подарил бессмертие – не физическое, конечно, но литературное, художественное. И, благо события той зимы не отошли еще к 1923 г. в дальнее прошлое, автор заново поставил те вопросы, которые мучили его тогда. И первый среди них: стоит ли политика, стоят ли глобальные перемены в жизни народов хотя бы одной человеческой жизни? Счастья одной семьи?
«Упадут стены, улетит встревоженный сокол с белой рукавицы, потухнет огонь в бронзовой лампе, а Капитанскую Дочку сожгут в печи. Мать сказала детям:
– Живите.
А им придется мучиться и умирать» [1, с. 56].
Какую цену каждый из Турбиных, каждый из киевлян в 1918 г. заплатил за амбиции Скоропадского, Петлюры, Деникина? Что может образованный, культурный человек противопоставить хаосу и разрушению?.. И в нэпмановской России, поднимавшейся после голода, холода и смертной тоски Гражданской войны, стремившейся, как казалось тогда, прочно забыть пережитое, эмоции автора нашли живейший отклик.
«Белая гвардия» публиковалась в журнале «Россия» (№ 4 и 5 за 1925 г.). Увы, журнал закрыли, поскольку идеологически он не соответствовал политике Советской власти. У сотрудников журнала провели обыск, в частности у Булгакова изъяли рукопись «Собачьего сердца» и дневник.
«Но и недопечатанный роман привлек внимание зорких читателей. МХАТ предложил автору переделать его „Белую гвардию“ в пьесу. Так родились знаменитые булгаковские „Дни Турбиных“. Пьеса, поставленная во МХАТе, принесла Булгакову шумную и очень нелегкую славу. Спектакль пользовался небывалым успехом у зрителей. Но печать встретила его, как говорится, в штыки. Чуть ли не каждый день то в одной, то в другой газете появлялись негодующие статьи. Карикатуристы изображали Булгакова не иначе как в виде белогвардейского офицера. Ругали и МХАТ, посмевший сыграть пьесу о „добрых и милых белогвардейцах“. Раздавались требования запретить спектакль. Десятки диспутов были посвящены „Дням Турбиных“ во МХАТе. На диспутах постановка „Дней Турбиных“ трактовалась чуть ли не как диверсия на театре. Запомнился один такой диспут в Доме печати на Никитском бульваре. На нем ругательски ругали не столько Булгакова (о нем, мол, уже и говорить даже не стоило!), сколько МХАТ. Небезызвестный в ту пору газетный работник Грандов так и сказал с трибуны: „МХАТ – это змея, которую Советская власть понапрасну пригрела на своей широкой груди!“» [9, с. 166].
Театр не сразу принял текст драмы, принесенный Булгаковым. В первом варианте действие казалось размытым. Константин Сергеевич Станиславский, бессменный руководитель МХАТа, слушавший авторское чтение, не выказал никаких положительных эмоций и предложил автору радикально переделать пьесу. На что Булгаков, разумеется, не согласился, хотя от доработок не отказался. Результат оказался ошеломительным: убрав нескольких главных героев, изменив характеры и судьбы оставшихся, драматург достиг небывалой выразительности каждого образа. И самое главное, пожалуй, вот что. В последней сценической редакции Алексей Турбин, главный герой драмы, твердо знал: монархия обречена, а любые попытки реставрировать прежнюю власть приведут к новым катастрофам. То есть, по сути говоря, пьеса отвечала всем возможным требованиям советского театра – идеологическим в первую очередь. Премьера, состоявшаяся 5 октября 1926 г., сулила успех.
Не стоит думать, будто Булгаков сосредотачивал свое внимание лишь на вышеупомянутых произведениях, – нет, в журналах и газетах по всей стране появлялось огромное количество его рассказов и фельетонов. Не следует также считать, будто его пьесы ставились только в столичных театрах – они приобретали широчайшую популярность по всей стране. Ну и конечно, Булгаков с женой много путешествовали. Писатель становился все более востребованным.
«Мысль семейная» и русская интеллигенция
Как явствует из воспоминаний Э. Миндлина, на пьесу ополчились журналисты всех видов и мастей. «Это была даже не критика, это был поток грязной брани с вкраплениями грубых политических обвинений – сотни больших и малых рецензий в журналах, газетах, иногда по нескольку в день» [13, с. 106]. Обратим внимание, что кампания по закрытию пьесы началась не среди советских чиновников. Ее инициаторы – литераторы, собратья Булгакова по перу.
Что же так возмутило критиков, требовавших от государственных структур, от Советской власти немедленно убрать спектакль из репертуара, наказать и автора, и режиссера И. Судакова? Тот буквально горел постановкой, готов был во втором актерском составе играть многие мужские роли на случай болезни артистов Н. Хмелева (Алексей Турбин), Б. Добронравова (Мышлаевский), М. Яншина (Лариосик), М. Прудкина (Шервинский), И. Кудрявцева (Николка)… Что вызвало столь резкую, непримиримую реакцию?
Ведь счастливы были и театр, и зрители. Театр – потому, что выпала радость поставить наконец по-настоящему современную пьесу. Зрители – потому, что в «Днях Турбиных» говорилось о национальной трагедии, о глубоком общественном разломе, коснувшемся очень многих образованных, интеллигентных семей, все это показывалось открыто, явно, при свете рампы. Литература и театр в России всегда становились рупором общественных идей, читатели и зрители привыкли находить в книгах и спектаклях разрешение своих насущных жизненных вопросов.
Ответ парадоксален. Во-первых, революции, террору, смене власти, борьбе идеологий Булгаков противопоставил то, что благодаря прозе Льва Толстого в русской литературе называется «мыслью семейной». Символом незыблемости родного дома стали в «Белой гвардии» обычные вещи: «…в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос… и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. <…> У абажура дремлите, читайте – пусть воет вьюга, – ждите, пока к вам придут» [1, с. 71]. Читая эти строки, обязательно вспомнишь о свете отцовской лампы под священным абажуром…
Дело не только в том, что Турбины изо всех сил держатся друг за друга и любят родных до самозабвения. Дело в том, что у них есть корни. Не только родственные, но и культурные. А это раздражало тех, у кого таких корней не имелось. «Герои… с пониманием относились к стремлению большевиков сменить изживший себя строй и ни в какой мере не пытались его удержать; но пренебрежение вечными устоями жизни воспринималось ими как катастрофа с тяжелейшими последствиями для страны» [10, с. 123].
Во-вторых, герои Булгакова – потомственные интеллигенты. Можно как угодно относиться к интеллигенции, ругать ее за мягкотелость, за раздвоенность и нечеткость взглядов на жизнь, за любовь к долгим разговорам вместо дела, а можно уважать за то, что интеллигенты всегда ставили вопросы относительно устройства жизни и готовы были, как ни крути, хранить верность своим убеждениям – когда же приходилось от них отказываться, шли к этому мучительно, болея всей душой. Идея уважения к другому человеку, внимание к его внутренней жизни, умение ставить его интересы выше собственных и делать больше, чем нужно тебе самому, – это ведь тоже черты интеллигентного человека. Таковы булгаковские Турбины.
В письме Советскому правительству, написанному много позже, в 1930 г., Булгаков обозначил главную тему своей прозы как «Изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране» [10, с. 123]. Еще М. С. Салтыков-Щедрин говорил: «Не будь интеллигенции, мы не имели бы понятия о чести, ни веры в убеждения, ни даже представления о человеческом образе» [10, с. 123]. «При этом Б<улгаков> имел в виду рядовую массу врачей, преподавателей, студентов, средний армейский состав и др<угих> людей, отвечающих за состояние „образа человеческого“ на деле» [10, с. 123].
«Булгакову его герои дороги, потому что честны – и в заблуждениях своих, и в прозрении. Потому что – люди долга… Потому что готовы быть с Россией в бедах ее и испытаниях» [14, с. 121, 122]. Глубинная художественная правда пьесы в том, что Булгаков без публицистики, без пафоса, без прямого морализаторства показывал: при всех положительных чертах Турбиных, их доброте, душевности, благородстве, патриотизме, то дело, которому они служили, исторически обречено. За Белой армией нет правды, нет будущего.
«Но в то время этого в пьесе не замечали. Не видели» [9, с. 166].
Писатель и драматург Всеволод Иванов 25 ноября 1926 г. писал М. Горькому в Сорренто: «„Белую гвардию“(поскольку роман увидел свет раньше театральной постановки, постольку литераторы по привычке называли пьесу так же, как прозаическую основу. – В.К.) разрешили. Я полагаю, пройдет она месяца три, а потом ее снимут. Пьеса бередит совесть, а это жестоко. И хорошо ли, не знаю. Естественно, что коммунисты Булгакова не любят. Да и то сказать, – если я на войне убил отца, а мне будут каждый день твердить об этом, приятно ли это?» [10, с. 123, 124]. Находились люди, видевшие в «Днях Турбиных» апофеоз мещанства.
В одном Иванов ошибся: спектакль продержался три года, а не три месяца.
Травля
Среди тех, кто последовательно отвергал роман, пьесу и спектакль, был нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский, человек, казалось бы, образованный и культурный. В 1927 г. Булгаков даже вышел из Московского общества драматических писателей и композиторов (МОДПиК) в знак протеста против позиции его председателя А. В. Луначарского, воспрепятствовавшего постановке пьесы во время гастролей МХАТа во Франции [6].
Но Луначарский был не единственным. В то время среди видных московских журналистов значился Александр Робертович Орлинский. Он-то и возглавил травлю Булгакова. В своей рецензии Орлинский писал, что пьеса – «политическая демонстрация, в которой автор симпатизирует отбросам Белой гвардии» [15], и на полном серьезе призывал современников к походу против спектакля.
В первые десятилетия Советской власти было принято проводить общественные диспуты по разным поводам. Предметом обсуждения могло стать что угодно. Диспуты проходили на любой общественной площадке. Булгакова часто приглашали, но ходил он сравнительно редко. Так, однажды он посетил диспут в здании театра Всеволода Мейерхольда на Триумфальной площади (ныне площадь Маяковского). Стоило автору появиться в зале, он сразу был узнан (вероятно, поклонников Орлинского его обычная изысканная манера одеваться раздражила чрезвычайно) и из зала послышались крики: «На сцену его!»
«По-видимому, не сомневались, что Булгаков пришел каяться и бить себя кулаками в грудь. Ожидать этого могли только те, кто не знал Михаила Афанасьевича.
Преисполненный собственного достоинства, с высоко поднятой головой, он медленно взошел по мосткам на сцену. За столом президиума сидели участники диспута, и среди них готовый к атаке Орлинский. <…>
Наконец предоставили слово автору „Дней Турбиных“. Булгаков начал с полемики, утверждал, что Орлинский пишет об эпохе Турбиных, не зная этой эпохи, рассказал о своих взаимоотношениях с МХАТом. И неожиданно закончил тем, ради чего он, собственно, и пришел на диспут.
– Покорнейше благодарю за доставленное удовольствие. Я пришел сюда только затем, чтобы посмотреть, что это за товарищ Орлинский, который с таким прилежанием занимается моей скромной особой и с такой злобой травит меня на протяжении многих месяцев. Наконец я увидел живого Орлинского. Я удовлетворен. Благодарю вас. Честь имею.
Не торопясь, с гордо поднятой головой, он спустился со сцены в зал и с видом человека, достигшего своей цели, направился к выходу при гробовом молчании публики.
Шум поднялся, когда Булгакова уже не было в зале» [9, с. 167, 168].
Еще один диспут, 7 февраля 1927 г., шел не в такой оскорбительной для писателя обстановке. На нем обсуждались две пьесы – «Любовь Яровая» Константина Тренева и булгаковские «Дни Турбиных». Героиня Тренева оказалась перед сложным выбором: семейное счастье с любимым мужем, чудом не погибшим в Гражданскую войну белым офицером, или служение революции. Она выбрала второе и предала мужа. Для Булгакова положительная оценка героя-предателя невозможна. Однако следует знать, что критики с восторгом приняли «Любовь Яровую», на много лет утвердившуюся с тех пор на советских театральных подмостках.
«…На диспуте… превратившемся… в обсуждение пьесы „Дни Турбиных“, Булгаков попытался объяснить… нюанс романа (сохранилась не вычитанная автором и стилистически явно дефектная стенограмма, но мысль Булгакова, в общем, ясна): „Если бы сидеть в окружении этой власти Скоропадского, офицеров, бежавшей интеллигенции, то был бы ясен тот большевистский фон, та страшная сила, которая с севера надвигалась на Киев и вышибла оттуда скоропадчину“.
Это ощущение неодолимо надвигавшейся силы, в январе 1919 года в петлюровском Киеве еще более обострившееся, Булгаков очень хотел передать» [14, с. 130].
К двум приведенным эпизодам хочется добавить совсем немногое. Михаил Булгаков, по свидетельству его второй жены Любови Евгеньевны Белозёрской, с той поры так никогда и не избавится от нервного тика – легкого подергивания левым плечом.
Александр Робертович Орлинский (настоящая фамилия – Крипс) летом 1937 г. будет арестован в Петропавловске-Камчатском, приговорен по статье 58–1а-7–8–11 УК РСФСР о контрреволюционной деятельности и расстрелян 26 ноября 1956 г. Впоследствии реабилитирован.
Пройдет чуть больше 20 лет. Булгакова уже не будет в живых. И в 1946 г. совсем в другом месте над совсем другим писателем, Михаилом Михайловичем Зощенко, будет учинен суд по тому же сценарию, что был опробован на Булгакове. И Зощенко, старый боевой офицер, так же, с гордо поднятой головой, заявит обвинителям, что ни в чем не считает себя виновным. И так же уйдет из зала. Только среди такого же гробового молчания раздадутся аплодисменты двух людей – драматурга Израиля Меттера и художницы Ирины Кичановой.








