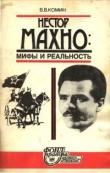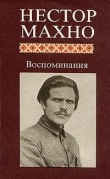Текст книги "Нестор Махно"
Автор книги: Василий Голованов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
МОСКВА
После месячного путешествия по городам Поволжья Махно очутился, наконец, в Москве. Москва ему опять не понравилась – он прямо именует ее «центром бумажной революции» и при каждом удобном случае спешит сказать свое строгое слово о «революционном генералитете». Но, во-первых, он и ехал сюда затем, чтобы повидать вождей революции, а во-вторых, потом уж тем более не мог удержаться, чтоб не охарактеризовать каждого из них, чтобы еще и еще раз показать, что он не бандит, а тоже политическая фигура, имеющая свое, так сказать, суждение. Отметим, кстати, что среди всех украинских атаманов, даже такого масштаба, как Григорьев и Зеленый, Махно выделялся именно тягой к политике и воплощенным в ней идеям. Его политический опыт, в частности, уберег махновщину от вырождения в гигантскую погромную организацию – что и произошло с дивизией Григорьева, когда она восстала против большевиков.
С вокзала, с чемоданом булок, Махно заехал сначала к профессору Алексею Боровому, кабинетному анархисту-интеллектуалу: здесь оставил булки, но задерживаться не стал, помчался сразу разыскивать любезного сердцу тюремного друга Петра Аршинова. После апрельского разгрома московской федерации анархистских групп тот отошел от сугубой политики и работал в Союзе идейной пропаганды анархизма секретарем, организуя диспуты и лекции и проживая, вернее, ночуя, в какой-то гостинице близ Театральной площади. Розыски Аршинова оставляют в памяти Махно несколько попутных впечатлений: трамвай, Настасьинский переулок, здание анархистской федерации – «помещение-сарай», в котором прежде «упражнялись футуристы в своих футуристических занятиях» (53, 94). Перевод анархистов из роскошного Купеческого собрания в это строение, расположенное к тому же в многозначительной близости от Народного комиссариата внутренних дел, красноречивее всяких слов свидетельствовал о их акциях на столичной политической бирже. Махно прекрасно отдает себе в этом отчет и не может сдержать горечи и досады.
Если для Ивана Бунина («Окаянные дни») революционная Москва 1918 года – это прежде всего царство Хама, бессмысленные и озлобленные толпы, «тучи солдат с мешками», «голоса утробные, первобытныя», преступные, «сахалинские» морды, семечки, Азия, газетная ложь, кривляющаяся в большевизме интеллигенция, одним словом – вырождение цивилизации, наблюдать которое невозможно без скрежета зубовного и нервного кожного зуда, то Махно этого всего как раз не замечает. В этой Москве он свой, он сам из «страшной галереи каторжников». Его мучит и преследует другое: бумага, «бумажная революция», слова, слова, слова…
Листовки, воззвания, митинги, десятки газет. В помещении московской федерации анархистов лидеры движения перекладывают кипы нераспроданной газеты «Анархия». Лекция восходящей звезды московского анархизма товарища Иуды Гроссмана-Рощина о Льве Толстом. Прекрасные, берущие за душу слова, но не более. Конференция анархистов в гостинице «Флоренция» – просто бестолковое толковище: тот же самый Гроссман-Рощин много и горячо говорил о необходимости поднимать восстание на Украине, но почему-то в последний момент отказался походатайствовать перед большевиками о переправке товарищей-анархистов через границу Украинской державы. Не желал, видимо, унижаться.
«Фактически, – уныло констатирует Махно, – не было таких людей, которые взялись бы за дело нашего движения и понесли бы его тяжесть до конца». И он спрашивает себя: неужели и я стану таким, как они? «Никогда, ни за что!» (53, 102).
С говорунами и писаками он равнять себя не хотел.
Без пощады и снисхождения за прежние заслуги набрасывается Махно в своих мемуарах на известного в Москве анархистского литератора и теоретика Льва Черного, с которым познакомился, ночуя в каком-то заселенном анархистами доме, где последний был назначен комендантом и вынужден был переписывать мебель и следить за порядком в подъезде, нервничая и боясь скандалов с «квартирным комитетом» из-за того, что анархисты через закрытые ворота лезли во двор после двенадцати ночи. Махно, вероятно, знал, что Льва Черного тогда задергали повестками в суд по «делу анархистов», обвиняя в укрывательстве, знал, конечно, и то, что по сфабрикованному делу о подделке денежных знаков Черный в самом начале двадцатых годов был расстрелян в застенках ЧК. Но это не делает его снисходительнее. Махно пишет: «…человек этот обладал талантом оратора и писателя… но не умел уважать себя, ограждать свое достоинство» (53, 97). «Безвольный человек», «человек-тряпка», с которым другие делают все, что захотят. «Такие люди могут лишь освещать прошлое, если им попадается верный материал о нем» (53, 97). Навешивая на безответного Льва Черного безжалостные ярлыки, Махно, похоже, самоутверждался – всю жизнь его мучил комплекс недоучки, – изо всех сил стараясь произвести впечатление человека сильной воли, человека дела.
Тот же мотив самоутверждения звучит в оценке Л. Мартова, выступление которого Махно слышал на съезде текстильных профсоюзов: «обиженный лидер», «неискренно, но дельно говорил», «кряхтел, сопел, но оставался мало услышанным» (53, 108). Интеллигентности в политике Махно не понимал, и усилия несчастного Мартова словом убедить своих политических оппонентов казались ему просто смехотворными.
В когорту жалких болтунов попадает и «щелкопер Зиновьев» (53, 139). А вот Троцкого, однажды услышанного на митинге, Махно в своих мемуарах словом не обидел, уважил за деловой подход и испытанное потом на собственной шкуре революционное беспощадство.
Завершает это противопоставление себя сонмищу московских революционных словоблудов сцена визита Махно к П. А. Кропоткину, написанная Махно по классическому канону передачи сакрального знания, апостольского завета любимому ученику. Содержание разговора Махно и Кропоткина, в ту пору уже больного, глубоко разочарованного в революции, хотя и не осмеливающегося открыто ее осуждать, мы знаем только в изложении самого Махно. Известно зато, что Кропоткин в эту пору сторонился активной политической деятельности, собирался из Москвы на жительство в Дмитров. С анархистами, за исключением группы деятелей кооперации, связей не поддерживал, за серьезных людей их не считая, но тихо публиковал в прокадетской «Свободе России» статьи об английском рабочем движении, в которых и сегодня легко уловить ностальгию человека, долгое время прожившего эмигрантом в цивилизованном обществе, по культурному и неспешному ведению дел даже в таком рискованном предприятии, как революция. Именно поэтому описание встречи Махно с Кропоткиным представляется наиболее сомнительным местом во всей трилогии батькиных воспоминаний. Вчитаемся в текст: «Он принял меня нежно, как еще не принимал никто. На все поставленные мной ему вопросы я получил удовлетворительные ответы. Когда я попросил у него совета насчет моего намерения перебраться на Украину для революционной деятельности среди крестьян, он категорически отказался советовать мне, заявив: „Этот вопрос связан с большим риском для вашей, товарищ, жизни, и только вы сами можете правильно его разрешить“. Лишь во время прощания он сказал мне: „Нужно помнить, дорогой товарищ, что борьба не знает сентиментальностей. Самоотверженность, твердость духа и воли на пути к намеченной цели побеждает все…“» (53, 106–107).
Ей-богу, кажется, что эти великолепные банальности Махно Кропоткину просто приписал, чтобы иметь возможность далее сказать о себе: «Эти слова Петра Алексеевича я всегда помнил и помню. И когда нашим товарищам удастся полностью ознакомиться с моей деятельностью в русской революции на Украине, а затем в самостоятельной украинской революции, в авангарде которой революционная махновщина играла особо выдающуюся роль, они легко заметят в моей деятельности черты самоотверженности, твердости духа и воли, о которых мне говорил Петр Алексеевич. Я хотел бы, чтобы этот завет помог им воспитать эти черты характера в себе самих» (53, 107).
Очень, очень серьезно относился к себе Нестор Иванович!
Но чем бы на самом деле ни закончилась встреча, для Махно это был знак великой причастности. Конечно, он не равнял себя с великими теоретиками-основоположниками, но верил, что именно ему выпала редкая удача: воплотить их теоретические построения на практике. И чем больше он общался с анархистами в Екатеринославе, в Таганроге, в Москве, тем более убеждался – именно ему…
После встречи с Кропоткиным Махно оставался в Москве еще несколько дней. Дело свое он сделал, в политической ситуации, насколько мог, разобрался и остался ею резко недоволен: революция не сделала трудящихся свободнее, она лишь подчинила их новому гнету рабоче-крестьянского государства. «Государство взяло на себя руководство социально-общественным строительством, что не требовало от пролетариев ни самостоятельности и инициативы, ни здорового трезвого ума, – пишет он. – Пролетариям же оставалось лишь выполнять то, что говорили большевики и левые эсеры» (53, 109).
К левым эсерам Махно, правда, относился терпимее, чем к большевикам: трещина меж ними не ускользнула от его внимания. «Смогут ли левые эсеры пойти настолько далеко в своей оппозиции большевикам, что мои впечатления об их готовности посчитаться с ленинизмом оправдаются целиком?» – спрашивает Махно. И сам отвечает: «Нет. У левых эсеров, как и у нас, анархистов, хороших желаний очень много, но очень мало тех сил, которые оказались бы достаточными для реорганизации пути революции» (53, 115–116). Политическое чутье у Махно, надо признать, было достаточно тонкое. Подоплека истерики, устроенной левыми эсерами незадолго до съезда Советов из-за Брестского мира, прозревается им с холодной ясностью: партии левых эсеров выгоднее делать вид, что конфликт проистекает из-за каких-то внешнеполитических разногласий, чем согласиться с тем, что «большевики, окрепшие за счет левых эсеров… взяли перевес над ними и теперь, не нуждаясь более в них… стараются всосать их в свою партию или просто ликвидировать» (53, 117).
Задержись Махно в Москве буквально дней на десять – он стал бы свидетелем этой самой «ликвидации», случившейся 6 июля. Но тут случилось событие, которое окончательно определило его судьбу и ускорило отъезд на Украину, – встреча с Лениным.
Событие это, представляющееся многим историкам замечательным – особенно в силу, так сказать, несопоставимости, контраста оказавшихся рядом фигур, – на самом деле было чистой случайностью и, в общем-то, заурядностью, которая наверняка бы забылась, если б не крестьянская кропотливость, с которой Махно в мемуарах фиксировал все, что произошло с ним замечательного. В биографической хронике жизни Ленина этого события нет – что, однако, не значит, что Махно врет. Во-первых, «хроника» страдает явными пробелами, а во-вторых, из того, что интересовало Ленина в двадцатых числах июня, когда Махно очутился в кремлевском кабинете председателя Совета народных комиссаров, как раз и явствует, что встреча эта, встреча с товарищем с революционной Украины, была совершенно в русле тогдашних интересов Ленина.
Украина его интересовала по двум причинам. С одной стороны, чтобы выжить, нужно было поддерживать мир с немцами и правительством гетмана Скоропадского, с которым как раз шли тогда мирные переговоры. С другой стороны, чтобы выжить, эту самую Украину нужно было как можно скорее, вместе с немцами и гетманом, подпалить огнем восстания – уверен, что Ленин мечтал об этом не менее страстно, чем самый ярый анархист или левый эсер, – ибо там был хлеб. Хлеб! Наваждение голодного 1918 года. О хлебе насущном Ленин думает беспрерывно: то размышляет «об организации показательной заготовки хлеба в одном каком-нибудь уезде в виде опыта» (45, 556), то наркому продовольствия Цюрупе «выражает недовольство отсутствием литературы по борьбе с голодом» (45, 558), то, отдыхая с Н. К. Крупской и М. И. Ульяновой в бывшем имении Мальце-Бродово, рассуждает о желательности создания под Москвой совхозов для снабжения города продуктами, то жадно расспрашивает приезжих тамбовчан о борьбе с кулачеством, досадуя на нехватку продотрядов и организаторов.
Не позднее 26 июня «Ленин беседует (у себя на квартире) с Е. Б. Бош, работавшей на Украине, расспрашивает о ее работе, о создавшемся положении в связи с оккупацией немцами Украины, об отношении крестьянства к Советской власти» (45, 569). В эти же дни и состоялся, очевидно, разговор Ленина с Махно на ту же самую тему: Украина манила его, там был хлеб, горы хлеба.
Махно для встречи с Лениным не прикладывал ни малейших сознательных усилий и, конечно, о ней не помышлял. Всем руководил исключительно случай. Дело было, собственно, в том, что Аршинов поселил Махно в гостинице Крестьянской секции ВЦИКа, которой заведовал его, как говорили тогда, «однопроцессник» (то есть проходивший с ним когда-то по одному политическому процессу) товарищ Бурцев. Но, видно, число подобных Махно протеже, революционеров мутной воды и невнятной огранки, проводивших свои дни в кромешном безделье, было столь велико, что, глядя на них, товарищ Бурцев начал потихонечку перекрашиваться из анархизма в левое эсерство, заметно нервничать и томиться. Махно это почувствовал и тактично съехал из гостиницы, а чтобы где-то жить, направился в Моссовет, чтобы получить ордер на бесплатную комнату. Далее с ним произошло именно то, что происходит со всяким советским человеком, перед которым встает квартирный вопрос: он был ввергнут в пучину бесконечных бюрократических процедур, в пучину того самого бреда, который еще в конце двадцатых годов с такой оптимистичной иронией воспринимался авторами «Двенадцати стульев». Ситуация, действительно, не лишена была комизма: ну в какой еще стране поиски комнаты завершились бы встречей с главой правительства? Поистине, ни в какой.
Ордера в Моссовете Махно не получил. «В Моссовете мне дали только пропуск в Кремль, во В ЦИК Советов, где я должен, де, предъявить свои документы, и уже тогда ВЦИК Советов сделает на них свою отметку, по которой Московский Совет может дать мне ордер» (53, 119). Блуждая по Кремлю, Махно забрел, по-видимому, в помещения ЦК большевиков, откуда кто-то (возможно, Бухарин) любезно вывел его в коридоры ВЦИКа и передал какому-то секретарю. Секретарь порасспросил его и, узнав, что товарищ с Украины, доложил Свердлову. Свердлов, председатель ВЦИКа, пожелал видеть его, велел говорить. Махно принялся рассказывать, но Свердлов вскоре оборвал его:
«– Что вы, товарищ, говорите… Ведь крестьяне на юге в большинстве своем кулаки и сторонники Центральной Рады».
«Я рассмеялся, – пишет Махно, – и не слишком распространенно, но выпукло нарисовал ему действия организованного анархистами крестьянства в Гуляй-Польском районе… Т. Свердлов, как будто и поколебленный, не переставал, однако, твердить:
– Почему же они не поддержали наших отрядов? У нас есть сведения, что южное крестьянство заражено крайним украинским шовинизмом…» (53, 122).
Махно занервничал: в эти отряды, которые действовали только по линиям железных дорог, не решаясь даже на 10–20 километров оторваться от эшелона, крестьянство не верило и верить не могло… Зачем же валить с больной головы на здоровую?
Свердлов согласился. Приглядываясь к Махно, он под конец спросил: «Но скажите мне – кто вы такой, коммунист или левый эсер?» (53, 124).
Махно хотел было прикинуться «беспартийным революционером», но в конце концов признался, что анархист. Свердлов удивился и сказал, что его сообщение о положении на Украине с удовольствием выслушал бы сам Ленин. Встреча была назначена на следующий день. Лидер большевиков задавал быстрые, конкретные вопросы: кто, откуда, как реагировали крестьяне на лозунг «Вся власть Советам!», бунтовали ли против Рады и немцев, а если да, то чего недоставало, чтобы крестьянские бунты вылились в повсеместное восстание? Махно отвечал, чувствуя, по собственному признанию, благоговение перед Лениным. По поводу лозунга «Вся власть Советам!» Махно старательно объяснил, что этот лозунг понимает именно в том смысле, что власть – Советам. Ленин еще и еше оаз поосил уточнить. Махно сформулировал: «Власть должна отождествляться непосредственно с сознанием и волей самих трудящихся» (53, 127).
– В таком случае крестьянство ваших местностей заражено анархизмом, – подумав, заметил Ленин.
– А разве это плохо? – спросил Махно.
– Я этого не хочу сказать. Наоборот, это было бы отрадно, так как ускорило бы победу коммунизма над капитализмом и его властью.
Ленин, по-видимому, остался доволен беседой: анархизм крестьян он считал временной и быстроизлечимой болезнью. Военные неудачи, приходилось признать, были неизбежны, но в них заключался урок – поступившись революционной романтикой, строить регулярную армию. На плечах крестьянского восстания ворваться на Украину и…
Нас же скорее заинтересует другое – глубокая неосведомленность двух первых фигур в государстве относительно того, что происходит в стране. И дело даже не в скудости оперативной информации, а в незнании более сущностном, происходящем от поспешности, поверхностности мышления обоих, которая хоть и была вполне объяснима в эти переполненные трагическими событиями дни, но, независимо от этого, порождала предвзятости и политические штампы (крестьяне – кулаки и шовинисты), чреватые реками человеческой крови. Украину большевики так и не поняли, что позднее явилось причиной грандиозной катастрофы 1919 года, – потому что не хотели понять, искали только своей партийной выгоды, мерили только своим аршином.
Советский историк М. И. Кубанин, автор единственного в советской историографии настоящего исследования о махновщине, вышедшего мизерным тиражом в конце двадцатых годов, блестяще именно с марксистских позиций проанализировав хозяйство махновского района, с необыкновенной ясностью объяснил, почему именно здесь, на Левобережной Украине, могло зародиться мощное крестьянское движение, которое, приняв лозунги революции, оказалось, в конце концов, в оппозиции не только к белым, но и к красным. В исследовании Кубанина содержится именно то, чего Ленин и Свердлов не знали, хотя и должны были знать, устраивая революцию в стране, 9/10 населения которой составляли крестьяне, вкладывавшие в происходящее свой, отличный от кабинетно-большевистского, смысл.
Принципиальный вывод Кубанина заключается в том, что наибольшую антибольшевистскую активность в годы Гражданской войны выказали как раз те области России и Украины, которые в 1905–1907 годах, а также осенью 1917-го были наиболее революционными. В «махновских» губерниях (Екатеринославской, части Полтавской и Таврической) крестьяне жили зажиточнее, чем на остальной территории Украины, имели больше сельскохозяйственных машин, активно производили хлеб на продажу (более половины урожая шло на рынок, тогда как в среднем по Украине эта доля составляла от 25 до 30 процентов). Стремление владеть землей до революции выражалось здесь в скупке крестьянами земли у помещиков, а после – в активном «черном переделе», то есть грабеже. В селах Левобережья было мало бедноты, на которую делали ставку большевики в своей аграрной политике: разорившиеся крестьяне «отсасывались» предприятиями городов и шахтерских районов. Тесная связь с Россией, с русскими объясняла то, что националистические лозунги украинских правительств на Левобережье не были, в общем, поддержаны. Не было здесь и того махрового антисемитизма, которым отмечен весь ход Гражданской войны на Украине. Если в сопредельных областях еврей олицетворял собою ненавистного крестьянину разорителя-перекупщика (до 98 процентов торговцев сельхозпродуктами были евреи), то здесь, в степных губерниях, соотношение было иное: евреи, как и украинцы, в поте лица своего работали на земле, и отношение к ним было вполне свойское. Богатство крестьян Левобережья сказалось потом решительным образом: нигде за всю историю Гражданской войны крестьянству для защиты своих интересов не удавалось создать организацию, по силе равную махновщине, нигде, разве что в Тамбовской губернии, очаге антоновщины, не сопротивлялось оно с таким остервенением государственному вмешательству в свои дела…
Встреча Махно с Лениным закончилась. Владимир Ильич предложил Махно воспользоваться большевистскими каналами для проникновения на Украину. Для этого Махно был отправлен к товарищу Затонскому, члену конспиративной «девятки» – своего рода украинского советского правительства в изгнании, который ведал выдачей фальшивых паспортов. История и здесь иронична: Махно помогал тот самый человек, который затем изо всех сил старался его уничтожить. Затонский предложил Махно воспользоваться партийными адресами и явками в Харькове. Но Махно отказался: он нацеливался на Гуляй-Поле. Больше работать на других он не хотел. Он хотел делать свою революцию.