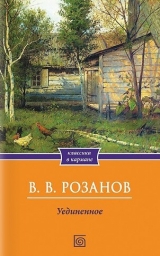
Текст книги "Уединенное"
Автор книги: Василий Розанов
Жанры:
Философия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
«Так расту»: «и если вам не нравится – то и не смотрите».
Поэтому мне часто же казалось (и может быть так и есть), что я самый правдивый и искренний писатель: хоть тут не содержится ни скрупула нравственности.
«Так меня устроил Бог».
* * *
Слияние своей жизни, fatum’a, особенно мыслей и, главное, писаний с Божеским «хочу» – было постоянно во мне, с самой юности, даже с отрочества. И отсюда, пожалуй, вытекла моя небрежность. Я потому был небрежен, что какой-то внутренний голос, какое-то непреодолимое внутреннее убеждение мне говорило, что все, что я говорю – хочет Бог, чтобы я говорил. Не всегда это бывало в одинаковом напряжении: но иногда это убеждение, эта вера доходила до какой-то раскаленности. Я точно весь делался густой, душа делалась густою, мысли совсем приобретали особый строй, и «язык сам говорил». Не всегда в таких случаях бывало перо под рукой: и тогда я выговаривал, что было на душе… Но я чувствовал, что в «выговариваемом» был такой напор силы («густого»), что не могли бы стены выдержать, сохраниться учреждения, чужие законы, чужие тоже «убеждения»… В такие минуты я чувствовал, что говорю какую-то абсолютную правду, и «под точь-в-точь таким углом наклонения», как это есть в мире, в Боге, в «истине в самой себе». Большею частью, однако, это не записалось (не было пера).
* * *
Чувства преступности (как у Достоевского) у меня никогда не было: но всегда было чувство бесконечной своей слабости…
Слабым я стал делаться с 7–8 лет… Это – странная потеря своей воли над собою, – над своими поступками, «выбором деятельности», «должности». Например, на факультет я поступил потому, что старший брат был «на таком факультете», без всякой умственной и вообще без всякой (тогда) связи с братом. Я всегда шел «в отворенную дверь», и мне было все равно, «которая дверь отворилась». Никогда в жизни я не делал выбора, никогда в этом смысле не колебался. Это было странное безволие и странная безучастность. И всегда мысль «Бог со мною». Но «в какую угодно дверь» я шел не по надежде, что «Бог меня не оставит», но по единственному интересу «к Богу, который со мною», и по вытекшей отсюда безынтересности, «в какую дверь войду». Я входил в дверь, где было «жалко» или где было «благодарно…» По этим двум мотивам все же я думаю, что я был добрый человек: и Бог за это многое мне простит.
* * *
Сколько у нас репутаций если не литературных (литературной – ни одной), то журнальных, обмоченных в юношеской крови. О, если бы юноши когда-нибудь могли поверить, что люди, никогда их не толкавшие в это кровавое дело (террор), любят и уважают их, – бесценную вечную их душу, их темное и милое «будущее» (целый мир), – больше, чем эти их «наушники», которым они доверились… Но никогда они этому не поверят! Они думают, что одиноки в мире, покинуты: и что одни у них остались «родные», это – кто им шепчет: «Идите впереди нас, мы уже стары и дрянцо, а вы – героичны и благородны». Никогда этого шепота дьявола не было разобрано. Некрасов, член английского клуба, партнер миллионеров, толкнул их более, чем кто-нибудь, стихотворением: «Отведи меня в стан погибающих». Это стихотворение поистине все омочено в крови. Несчастнее нашего юношества, правда, нельзя никого себе вообразить. Тут проявляется вся наша действительность, «похожая (по бессмыслию) на сон», поддерживавшая в юношах эту черную и горькую мысль («всеми оставлены»). В самом деле, что они видели и слышали от чугунных генералов, от замороженных статских советников, от «аршинников-купцов», от «всего (почти) российского народа». Но, может, они вспомнят старых бабушек, старых тетей… Вот тут просвет. Боже, как ужасна наша жизнь, как действительно мрачна.
* * *
Чуковский все-таки очень хороший писатель. Но это «хорошее» получает от него литература (закапывание трупов), но не останется на нем самом. Дело в том, что он очень полезен, но он не есть прелестный писатель; а в литературе это – всё.
Но он не есть дурной человек, как я его старался выставить (портрет Репина).
(СПб. – Киев, вагон).
* * *
Человек стоит на двух якорях: родители, их «дом», его младенчество – это один якорь. «Первая любовь». 13–14 лет – есть перелом; предвестие, что потянул «другой якорь»… Исход и – венец; пристань «отчала» и пристань «причала». «Причал» окончательный — могила; и замечательно, что уже любовь подводит к ней. Но любовь – это «опять рожу», и стану для детей «пристанью отчала».
По этому сложению жизни до чего очевидно, что genitalia[8]8
Половые органы (лат.).
[Закрыть] в нас важнее мозга. «Мозг» – это капитан: тот, который правит. Но для «мореплавания», очевидно, важен не капитан, лицо сменяемое и наемное, а вековечные «отчалы» и «причалы». Ост-Индская Компания, во всяком случае, существовала не для удовольствия капитанов; и не для них – Волжское пароходство и хлебная торговля.
Т. е. «красота личика» ей-ей важнее «способностей ума» для барышни. Да так это и есть. Так они и чувствуют. Но только – они. Ашкола? вся организация воспитания? – «Зубри квадратные уравнения» и «реки Ю. Америки». «Да притоки-то Рио-де-Лаплаты не упусти». Но как понятно и даже как хорошо, это они «опускают».
(Луга – Петербург, вагон).
* * *
Как «матерой волк» он наелся русской крови и сытый отвалился в могилу.
(О Щедрине, вагон).
* * *
Она родила и, след., имела право родить. «Мочь» нигде так не совпадает с «я вправе», как в деторождении.
Ваш же старик сказал. «Я могу, следовательно, я должен». Это он разумел о гофратах, отправляющихся поутру в должность, и – еще о молодых людях, могущих («а следовательно…») удержаться от девушек. Положим – так. Но ведь не иначе будет и в рассуждении юношей: «Я могу с нею зачать ребенка, и, следовательно, я должен его зачать в ней». Что ответил бы на это Кенигсбергский мудрец?
(Луга – Петерб., вагон).
* * *
Что такое пафос egalite?[9]9
Равенство (фр.).
[Закрыть] Стоя (в своем мнении) довольно высоко в литературе, я никогда не стал бы ни рваться к ней, ни избегать ее (egalite). «Мне все равно»… Но Поприщин рвался бы к egalite с испанским королем, и Бобчинскому, конечно, хотелось бы быть в egalite с губернатором. Что же это значит? Неужели поверить, что дух egalite есть тоска всеми униженного, скорбящего о себе, всего «половинчатого» – до уравнения с единицею?
Дарвин, заявив egalite шимпанзе и человека, гораздо более трудился во «французском духе», чем в английском (как думали, думал Н.Я. Данилевский).
(Луга – Петерб., вагон).
* * *
Вот и я кончаю тем, что все русское начинаю ненавидеть. Как это печально, как страшно.
Печально особенно на конце жизни.
Эти заспанные лица, неметенные комнаты, немощенные улицы…
Противно, противно.
(Луга – Петерб., вагон).
* * *
И везде лукавство. «Почему этот соня к тому же вечно врет»?
(русские; Луга – Петерб., вагон).
* * *
А для чего иметь «друга читателя»? Пишу ли я «для читателя»? Нет, пишешь для себя.
– Зачем же печатаете?
– Деньги дают…
Субъективное совпало с внешним обстоятельством.
Так происходит литература. И только.
(Луга – Петерб., вагон).
* * *
Странник, вечный странник и везде только странник.
(Луга – Петерб., вагон; о себе).
* * *
Что же была та стрела, которую постоянно чувствовал в моем сердце? И от которой, в сущности, и происходит вся моя литература.
Это – грех мой.
Через грех я познавал все в мире и через грех (раскаяние) относился ко всему в мире.
(Луга – Петерб., вагон).
* * *
Всякая любовь прекрасна. И только она одна и прекрасна.
Потому что на земле единственное «в себе самом истинное» — это любовь.
Любовь исключает ложь: первое «я солгал» означает: «Я уже не люблю», «Я меньше люблю».
Гаснет любовь – и гаснет истина. Поэтому «истинствовать на земле» – значит постоянно и истинно любить.
(Луга – Петерб., вагон).
* * *
Слава – змея. Да не коснется никогда меня ее укус.
(за нумизматикой).
* * *
Лежать в теплом песке после купанья – это в своем роде стоит философии.
И лаццарони, вечно лежащие в песке, почему не отличная философская школа?
(за нумизматикой).
* * *
Русская церковь представляет замечательное явление. Лютеранство и католичество во многих отношениях замечательнее его, но есть отношения, в которых оно замечательнее их. Обратим внимание, что умы спокойные, как Буслаев, Тихонравов, Ключевский, как С.М. Соловьев, – не искали ничего в ней поправить, и были совершенно ею удовлетворены. Вместе с тем это были люди верующие, религиозные, люди благочестивой жизни в самом лучшем смысле, – в спокойно-русском. Они о религии специально ничего не думали, а всю жизнь трудились, благородствовали, созидали. Религия была каким-то боковым фундаментом, который поддерживал всю эту гору благородного труда. Нет сомнения, что, будь они «безверные», – они не были бы ни так благородны, ни так деятельны. Религиозный скептицизм они встретили бы с величайшим презрением. «Допросы» Православию начинаются ниже (или в стороне?) этого этажа: от умов более едких, подвижных и мелочных. Толстой, Розанов, Мережковский,
Герцен – уже не Буслаев, с его вечерним тихим закатом. Это – сумятица и буря, это – злость и нервы. Может быть, кое-что и замечательное. Но не спокойное, не ясное, не гармоничное.
Православие в высшей степени отвечает гармоническому духу, но в высшей степени не отвечает потревоженному духу. В нем есть, говоря аллегорически, Зевс; в Александре Невском (опять аллегорически) оно получило себе даже «Марса». В «петербургском периоде» (славянофилы) – все строят храмы Александру Невскому, этому «Аресу» и вместе «Ромулу» Руси, отодвинув в сторону киевских подвижников. Итак, Марс и Зевс (их стихии) – вот Православие; но нет в нем Афродиты, нет Юноны, «госпожи дома», Сатурна и далекой мистики.
(на обороте полученного письма).
* * *
Недодашь чего – и в душе тоска. Даже если недодашь подарок.
(Девочка на вокзале, Киев, которой хотел подарить карандаш-«вставочку»; но промедлил, и она с бабушкой ушла).
А девочка та вернулась, и я подарил ей карандаш. Никогда не видала, и едва мог объяснить, что за «чудо». Как хорошо ей и мне.
* * *
Кто с чистою душою сходит на землю? О, как нужно нам очищение.
(зима 1911 г.).
* * *
…там, может быть, я и «дурак» (есть слухи), может быть, и «плут» (поговаривают): но только той широты мысли, неизмеримости «открывающихся горизонтов» – ни у кого до меня, как у меня, не было. И «все самому пришло на ум», – без заимствования даже йоты. Удивительно. Я прямо удивительный человек.
(на подошве туфли; купанье).
* * *
Запутался мой ум, совершенно запутался…
Всю жизнь посвятить на разрушение того, что одно в мире люблю: была ли у кого печальнее судьба.
(лето 1911 г).
* * *
Судьба бережет тех, кого она лишает славы.
(зима 1911 г.).
* * *
Воображают, что я «подделывался к начальству». Между тем как странная черта моей психологии заключается в таком сильном ощущении пустоты около себя, – пустоты безмолвия и небытия вокруг и везде, – что я едва знаю, едва верю, едва допускаю, что мне «современничают» другие люди. Это кажется невозможным и нелепым, но это – так.
* * *
Почему я так «не желаю известности» (или влияния) и так (иногда) тоскую (хотя иногда и хорошо от этого бывает на душе), что «ничего не вышло из моей литературной деятельности», никто за мной не идет, не имею «школы»?
Только из какого-то странного желания счастья людям. Судишь всегда «по себе» (и иначе невозможно). А «по себе» я и сужу, что нельзя быть иначе счастливым, как имея именно мои мысли. Я бы очень рад был, если бы «без меня обошлось»; и вот в этом случае хотя бы все то же точь-в-точь написал, что написал: но был бы уже вполне равнодушен, читают или не читают.
В этом смысле «желание влияния» есть втайне очень благородное чувство: иметь себя другом всех и иметь себе другом целый мир…
Только тогда не надо бы подписываться, а я подписываюсь. Это странно. Но, в смысле благополучия, «Розанова» ругали больше, чем «Розанова» хвалили: и ругали более уничижительно, мне кажется даже более проницательно (в некоторых точках), нежели хвалили.
(за подбором этих заметок).
* * *
Он был не умен и не образован; точнее – не развит: но изумительно талантлив. «Взял» он что от Витте, или не взял – я не знаю. Но он, безусловно, был честный человек: ибо с 1/10 его таланта люди кончали «тайными советниками» и успокаивались на рентах и пенсиях. Он же умер если не нищим, то бедняком.
Но и не по этому одному он безусловно честен: было что-то в нем неуловимое, в силу чего, даже взяв его за руку с вытащенным у меня носовым платком, я пожал бы ему руку и сказал бы: «Сережа, это что-то случайное: ведь я знал и знаю сейчас, что ты один из честнейших людей в России». И он расплакался бы слезами ангела, которыми вот никогда не заплачет «честный» Кутлер, сидящий на 6-тысячной пенсии.
(о Шарапове, когда он умер).
* * *
Я не спорщик с Богом и не изменю Ему, когда Он по молитве не дал мне «милости»; я люблю Его, предан Ему. И что бы Он ни делал – не скажу хулы, и только буду плакать о себе.
(грустное лето 1911 г.; рука все не движется).
* * *
Душа православия – в даре молитвы. Тело его – обряды, культ. Но кто подумал бы, что, кроме обрядов, в нем и нет ничего (Гарнак, дерптец-берлинец), – тот все-таки при всяческом уме не понял бы в нем ничего.
(лето 1911 г.).
* * *
Кто любит русский народ – не может не любить церкви. Потому что народ и его церковь – одно. И только у русских это одно.
(лето 1911 г.).
* * *
Никакого интереса к реализации себя, отсутствие всякой внешней энергии, «воли к бытию». Я – самый нереализующийся человек.
* * *
Несколько прекрасных писем от Горького этот год. Он прекрасный человек. Но если все другие «левые» так же видят, так же смотрят: то, прежде всего, против «нашего горизонта» – какой это суженный горизонт! Неужели это правда, что разница между радикализмом и консерватизмом есть разница между узким и широким полем зрения, между «близорукостью» и «дальнозоркостью»? Если так, то ведь, значит, мы победим? Между тем, никакой на это надежды.
(лето 1911 г.).
* * *
Рок Горького – что он попал в славу, в верхнее положение. Между тем по натуре это – боец. С кем же ему бороться, если «все повалены», не с Грингмутом же, не с Катковым? Не с кн. Мещерским, о самом бытии которого Горький едва ли что знал.
И руки повисли.
Боец умер вне боя. Я ему писал об этом, но он до странности не понял ничего в этой мысли.
* * *
Трех людей я встретил умнее или, вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя: Шперка, Рцы и Фл-го. Первый умер мальчиком (26 л.), ни в чем не выразившись; второй был «Тентетников», просто гревший на солнышке брюшко. «Иван Иванович, который играет на скрипке», – определял он себя (иносказательно, в одной статье). Замечательное в их уме, или вернее – в их душе, в их метафизической (до рождения) опытности, – было то, что они не знали ошибок, их суждения можно было принимать «вслепую», не проверяя, не раздумывая. Их слова, мысли, суждения, самые коротенькие, освещали часто целую мировую область. Все были почти славянофилы, но в сущности – не славянофилы, а – одиночки, «я»…
Прочие из знаменитых людей, каких я встречал: Рачинский, Страхов, Толстой, Победоносцев, Соловьев, Мережковский, – не были сильнее меня…
Мне почувствовалось что-то очень сильное и самостоятельное в Тигранове (книжка о Вагнере). Но мы виделись только раз, и притом я был в тревоге и не мог внимательно ни смотреть на него, ни слушать его. Об этом скажу, что, «может быть, даровитее меня»…
Столпнер был очень умен, и в отдельных суждениях – сильнее меня, но в общем сильнее меня не был.
Да… еще сильнее себя я чувствовал Константина Леонтьева (переписка с ним).
Но над всеми перечисленными я имел преимущества хитрости (русское «себе науме»), и, может быть, от этого не погиб (литературно), как эти несчастные («неудачники»). С детства, с моего испуганного и замученного детства, я взял привычку молчать (и вечно думать). Все молчу… и все слушаю… и все думаю… И дураков, и речи этих умниц… И все, бывало, во мне зреет, медленно и тихо. Я никуда не торопился, «полежать бы»… И от этой неторопливости, в го время как у них все «порвалось» или «не дозрело», у меняй не порвалось, и, я думаю, дозрело. Сравнительно с «Рцы» и Шперком как обширно развернулась моя литературная деятельность, сколько уже издано книг… Но за всю мою жизнь никакие печатные отзывы, никакие дифирамбы (в той же печати) не дали мне этой спокойной хорошей гордости, как дружба и (я чувствовал) уважение (от Шперка – и любовь) этих трех людей.
Но какова судьба литературы: отчего же они так не знамениты, отвергнуты, забыты?
Шперк, точно предчувствуя свою судьбу, говаривал: «Вы читали (кажется) Грубера? Нет? Ужасно люблю отыскивать что-нибудь его. Меня вообще манят писатели безвестные, оставшиеся незамеченными. Что были за люди? И так радуешься, встретив у них необычайную и преждевременную мысль». Как это просто, глубоко и прекрасно.
Еще помню его афоризмы о детях: «Дети тем отличаются от нас, что воспринимают все с такою силою реализма, как это недоступно взрослым. Для нас «стул» есть подробность «мебели». Но дитя категории «мебели» не знает, и «стул» для него так огромен и жив, как не может быть для нас. От этого дети наслаждаются миром гораздо больше нас»…
Еще удивительно суждение: «Житейское правило, что дети должны уважать родителей, а родители должны любить детей, нужно читать наоборот: родители именно должны уважать детей, – уважать их своеобразный мирок и их пылкую, готовую оскорбиться каждую минуту, натуру; а дети должны только любить родителей, – и уже непременно они будут любить их, раз почувствуют это уважение к себе».
Как это глубоко и как ново.
Толстой… Когда я говорил с ним, между прочим, о семье и браке, о поле, – я увидел, что во всем этом он путается, как переписывающий с прописей гимназист между «и» и «i» и «й»; и, в сущности, ничего в этом не понимает, кроме того, что «надо удерживаться». Он даже не умел эту ниточку – «удерживайся» – развернуть в прядочки льна, из которых она скручена. Ни – анализа, ни – способности комбинировать; ни даже – мысли, одни восклицания. С этим нельзя взаимодействовать, это что-то imbecile[10]10
Слабоумное (фр.).
[Закрыть].
В С-ве то только интересное, что «бесенок сидел у него на плече» (в Балтийском море). Об этом стоило поговорить. Загадочна и глубока его тоска; то, о чем он молчал. А слова, написанное — все самая обыкновенная журналистика («бранделясы»).
Он нес перед собою свою гордость. И она была – ничто́. Лучшее в себе, грусть, – он о ней промолчал.
Победоносцев был прекрасный человек, но ничем не выразил, что имел «прекрасный, самородный русский ум». Был настолько обыкновенен, что не истоптал своего профессорства.
Перед ним у меня есть вина: я не смел о нем писать дурно после смерти. Хотя объективно там и есть правильное, – но я был в этих писаниях не благороден. Рачинский был сухой и аккуратный ум, без всего нового и оригинального.
* * *
Литература (печать) прищемила у человека самолюбие. Все стали бояться ее; все стали ждать от нее. «Эти мошенники, однако, раздают монтионовские премии». И вот откуда выросла ее сила.
Сила ее оканчивается там, где человек смежает на нее глаза. «Шестая держава» (Наполеон о печати) обращается вдруг в серенькую, хилую деревушку, как только, повернувшись к ней спиною, – вы смотрите на дела, а не на ландкарту с надписью «шестая держава».
* * *
…а ведь по существу-то – Боже! Боже! – в душе моей вечно стоял монастырь.
Неужели же мне нужна была площадь?
Брррр…
* * *
Вот чего я совершенно и окончательно не знаю: «что́-нибудь я» или – ничто́? Какой-то пар надувает меня, и тогда кажется, что – «что-то». Но «развивается длинный свиток» (Пушкин), и тогда выходит – «ничто».
(СПб. – Киев, вагон).
* * *
«Что́ ты все думаешь о себе. Ты бы подумал о людях».
– Не хочется.
(СПб. – Киев, вагон).
* * *
Ах, люди: – пользуйтесь каждым-то вечерком, который выйдет ясным. Скоро жизнь проходит, пройдет, и тогда скажете «насладился бы», а уж нельзя: боль есть, грусть есть, «некогда»! Нумизматика – хорошо и нумизматику; книга – пожалуй, и книгу.
Только не пишите ничего, не «старайтесь»: жизнь упустите, а написанное окажется «глупость» или «не нужно».
* * *
Да, может быть, и неверен «план здания»: но уже оно бережет нас от дождя, от грязи: и как начать рубить его?
(вагон, о церкви).
* * *
Голова моя качается под облаками.
Но как слабы ноги.
Во многих отношениях я понимаю язычество, юдаизм и христианство полнее, сердцевиннее, чем они понимались в классическую пору расцвета собственными исповедниками.
И между тем я только – «житейский человек сегодняшнего дня», со всеми его слабостями, с его великим антиисторическим «не хочется»…
Но тут тайна диалектики: «мой сегодняшний день», в который я уперся с силою, как, я думаю, никто до меня, – и дал мне всю силу и все проницание. Так что «из слабости изошла сила», и «от такой силы – ВЫШЛА обратно слабость».
* * *
«Текущее поколение» не то чтобы не имеет «большого значения», но – и совершенно никакого. Минет 60 лет, «один вздох истории», – и от него останется не больше, чем от мумий времен Сезостриса. Что мы знаем о людях 20-х годов (XIX в.)? Только одно то, что говорил Пушкин. Вот его каждую строчку знаем, помним, учимся над нею. А его «современники» и существовали для своего времени, для нашего же ровно никакие существуют. Из этого вывод: живи и трудись как бы никого не было, как бы не было у тебя вовсе «современников». И если твой труд и мысли ценны – они одолеют все, что вокруг тебя ненавидит тебя, презирает, усиливается затоптать. Сильнейший и есть сильнейший, а слабейший и есть слабейший. Это мать «друга» говорила (в Ельце): «Правда светлее солнца».
И живи для нее, а люди пусть идут куда знают.
* * *
Что же ты любишь, чудак? Мечту свою.
(вагон; о себе).
* * *
Когда я сижу у д-ра, то всегда на уголке стула, и мысленно шепчу: «не хочется ли вам выдрать меня за ухо – пожалуйста», или «дать пощечину – пожалуйста, пожалуйста, я терпелив, и даже с удовольствием: но только уж после этого постарайтесь и вылечите». Почему-то у меня о всех болезнях существует представление, что они неизлечимы, и от этого я так трепетал всегда звать доктора: t° уже 39, бред, – «ну это так, это простуда, сейчас aspirini 5 gr., уксусом растереть, горчишник, слабительное», и вообще «домашнее» и «пройдет». А «позвал д-ра» – это болезнь, и почему-то всегда идея – «она неизлечима». Ау доктора Рентельна, перед 3-й операцией, я только согнул тело, чтобы иметь вид сидящего, у самой двери, но не дотронулся до сидения. Он говорил медленно.
«Фистула… и нужно отрезать шейку матки. И вообще уменьшить, пообчистить (срезая?!!) матку».
Но, Боже мой: рак всегда и появляется «на шейке матки», и раз ее «отрезать» – значит рак…
Как я тогда дотащился до дому, не помню…
* * *
Вот и совсем прошла жизнь… Остались немногие хмурые годы, старые, тоскливые, ненужные…
Как все становится ненужно. Это главное ощущение старости. Особенно – вещи, предметы: одежда, мебель, обстановка.
Каков же итог жизни?
Ужасно мало смысла. Жил, когда-то радовался, вот главное. «Что вышло?» Ничего особенного. И особенно как-то не нужно, чтобы что-нибудь «вышло». Безвестность – почти самое желаемое.
Что́ самое лучшее в прошедшем и давно-прошедшем? Свой хороший или мало-мальски порядочный поступок.
И еще – добрая встреча: т. е. узнание доброго, подходящего, милого человека. Вот это в старости ложится светлой, светлой полосой, и с таким утешением смотришь на эти полосы, увы, немногие.
Но шумные удовольствия (у меня немного)? так называемые «наслаждения»? Они были приятны только в момент получения, и не имеют никакого значения для «потом».
Только в старости узнаёшь, что «надо было хорошо жить». В юности это даже не приходит на ум. И в зрелом возрасте – не приходит. А в старости воспоминание о добром поступке, о ласковом отношении, о деликатном отношении – единственный «светлый гость» в «комнату» (в душу).
(глубокой ночью).
* * *
Да что́ же и дорого-то в России, как не старые церкви. Уж не канцелярии ли? или не редакции ли? А церковь старая-старая, и дьячок – «не очень», все с грешком, слабенькие. А тепло только тут. Отчего же тут тепло, когда везде холодно? Хоронили то))то мамашу, братцев: похоронят меня; будут тут же жениться дети; все – тут… Все важное… И вот люди надышали тепла.
* * *
В «друге» Бог дал мне встретить человека, в котором я никогда не усумнился, никогда не разочаровался. Забавно, однако, что не проходило дня, чтобы мы не покричали друг на друга. Но за вечерний час никогда не переходили наши размолвки. Обычно я или она через 1 /2 часа уже подходили с извинением за грубость (выкрик).
Никогда, никогда между нами не было гнева или неуважения.
Никогда!!! И ни на один полный день. Ни разу за 20 лет день наш не закатился в «разделении»…
(глубокой ночью).
* * *
Тихие, темные ночи…
Испуг преступленья…
Тоска одиночества…
Слезы отчаянья, страха и пота труда…
Вот ты, религия…
Помощь согбенному…
Помощь усталому.
Вера больного…
Вот твои корни, религия…
Вечные, чудные корни…
(за корректурой фельетона).
* * *
«Все произошло через плаценту», – сказал Шернваль. В 17 1/2 лет, – когда в этих вещах она и теперь, в 47 лет, как ребенок. «Отчего рука висит»?! – и никакой другой заботы, кроме руки. Доктор насмешливо: – «Вот больше всего их беспокоит рука. Но ведь это же ничего, у вас даже и недвижна-то левая»…
И курит папироску в какой-то задумчивости.
* * *
Болит душа, болит душа, болит душа…
И что́ делать с этой болью – я не знаю.
Но только при боли я и согласен жить.
Это есть самое дорогое мне и во мне.
(глубокой ночью).
* * *
Уже года за три до 1911 г. мой безымянный и верный друг, которому я всем обязан, говорил:
– Я чувствую, что не долго еще проживу… Давай эти немногие годы проживем хорошо…
И я весь замирал. Едва слышно говорил: «Да, да!»
Но в действительности этого «да» не выходило.
* * *
ВАША МАМА
(детям)
– Я отрезала косу, потому что она мне не нужна.
Чудная каштановая коса. Теперь волосы торчат как мышиный хвостик.
– Зачем? И не спросясь! Это мне обида. Точно ты что бросила от себя, и – такое, что было другим хорошо.
– Я все потеряла. Зачем же мне коса? Где моя шея? Где мои руки? Ничего не осталось. И я бросила косу.
(В день причастия, поздно вечером).
Мне же показалось это, как и все теперь кажется, каким-то предсмертным жестом.
(25 февраля 1911 г.).
* * *
К 56-ти годам у меня 35 000 руб. Но «друг» болеет… И все как-то не нужно.
* * *
Все же у нее «другом» был действительно я: у меня одного текут слезы, текут и не могут остановиться…
…Дети… Как мало им нужны родители, когда они сами входят в возраст: товарищи, своя жизнь, будущее – так это волнует их…
Когда мама моя умерла, то я только то понял, что можно закурить папиросу открыто. И сейчас закурил. Мне было 13 лет.
* * *
20 лет как «журчащий свежий ручеек» я бежал около гроба… И еще раздражался: отчего вокруг меня не весело, не цветут цветы. И так поздно узнать все…
* * *
…да, я приобрел «знаменитость»… О, как хотел бы я изодрать зубами, исцарапать ногтями эту знаменитость, всадить в нее свой гнилой зуб, последний зуб.
И все поздно…
О, как хотел бы я вторично жить, с единственной целью – ничего не писать.
Эти строки – они отняли у меня все; они отняли меня у «друга», ради которого я и должен был жить, хотел жить, хочу жить.
А «талант» все толкал писать и писать.
(глубокой ночью).
* * *
И бредет-бредет моя бродулька по лестнице, все ступает вперед одной правой ногой, меня не видит за поворотом, а я вижу: лицо раскраснелось, и оживленно говорит поддерживающей горничной: «Вот… (не помню) сегодня внесла сто рублей доктору. Ободрала совсем В. В-ча». – «Совсем ободрала», – смеюсь я сверху сбегая вниз. – Какие же сто рублей ты внесла: внесу я, и не сегодня, а только на этой неделе».
Но для нее одна забота, вперед бегущая за семь дней, что на болезнь ее выходит много денег. Она засмеялась, и мы и больно и весело вошли в прихожую. Ах, моя бродулька, бродулька: за твердую походку я дал бы тысячу… и за все здоровье отдал бы все.
* * *
– «Этого мне теперь уж ничего не нужно. Нужно, чтобы ты был здоров и дети устроены и поставлены».
(3-го ноября 1911 г., перед консилиумом, в ответ на обещание, в котором много лет отказывал, – насчет рисовки монет).
* * *
Я говорил о браке, браке, браке… а ко мне все шла смерть, смерть, смерть.
* * *
Страшное одиночество за всю жизнь. С детства. Одинокие души суть затаенные души. А затаенность: – от порочности. Страшная тяжесть одиночества. Не от этого ли боль?
Не только от этого.
* * *
27 ноября скончалась, 85 лет от роду, в Ельце, «наша бабушка», – Александра Андрияновна Руднева, урожденная Жданова. Ровно 70 лет она несла труд для других, – уже в 15 лет определив себе то замужество, которое было бы удобнее для оставшегося на руках ее малолетнего брата. Оба – круглые сироты. И с этого времени, всегда веселая, только «бегая в церковь», уча окружающих ребят околицы – «грамоте, Богу, Царю и отечеству», ибо в «Ѣ» была сама не тверда, – она как нескончаемая свеча катакомб (свечка клубком) светила, грела, ласкала, трудилась, плакала – много плакала (…) – и только «церковной службой» вытирала глаза себе (утешение). Пусть эта книга будет посвящена ей; и рядом с нею – моей бедной матери, Надежде Васильевне Розановой.
Она была совсем другою. Вся истерзанная, – бессилием, вихрем замутненных чувств… Но она не знала, что когда потихоньку вставала с кровати, где я с нею спал (лет 6-7-8): то я не засыпал еще и слышал, как она молилась за всех нас, безмолвно, потом становился слышен шепот… громче, громче, пока возгласы не вырывались с каким-то свистом (легким).
А днем опять суровая и всегда суровая. Во всем нашем доме я не помню никогда улыбки.
* * *
Томительно, но не грубо свистит вентилятор в коридорчике: я заплакал (почти): «Да вот чтобы слушать его – я хочу еще жить, а главное – друг должен жить». Потом мысль: «Неужели он {друг) на том свете не услышит вентилятора»; и жажда бессмертия так схватила меня за волосы, что я чуть не присел на пол.
(глубокой ночью).
* * *
О доброте нашего духовенства: сколько я им корост засыпал за воротник… Но между теми, кто знал меня, да и из незнавших – многие, отнеслись – «отвергая мои идеи», враждуя с ними в печати и устно – не только добро ко мне, но и любяще (Устьинский, Филевский, цензор Лебедев, Победоносцев, М.П. Соловьев, свящ. Дроздов, Акимов, Целиков, проф. Глубовский, Н.Р. Щербова, А.А. Альбова). Исключением был только С.А. Рачинский, один, который «возненавидел брата своего» (после статей о браке в «Рус. Труде» и в «С.-Петерб. Ведом.»). Чего: Гермоген, требовавший летом отлучить меня, в ноябре – декабре дважды просился со мной увидеться. Епископ Сергий (Финляндский), знавший (из одного ему пересланного Федоровым письма моего) о «всем возмутительном моем образе мыслей», – тем не менее, когда «друг» лежал в Евангелической (лютеранской) больнице после 3-ей операции, приехал посетить ее, и приехал по заботе митрополита Антония, вовсе ее ни разу не видевшего, и который и меня-то раза 2–3 видел, без всяких интимных бесед. И везде – деликатность, везде – тонкость: после такой моей страшной вражды к ним, и совершенно непереносимых обвинений. Но светские: какими они ругательствами («Передонов», «двурушник», «с ним нельзя садиться за один стол и вести одну работу» etc., etc.) меня осыпали, едва я проводил рукою «против шерсти» их партии. Из этого я усмотрел, до чего Церковь теплее светской жизни en masse[11]11
В целом (фр.).
[Закрыть]: сердечнее, душевнее, примиреннее, прощающее. И если там был огонь (инквизиция), то все-таки это не плаха позитивистов: холодная, и с холодным железом…








