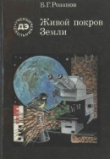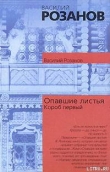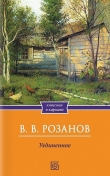Текст книги "Русский Нил"
Автор книги: Василий Розанов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Гимназия, ученички в мундирах; почта цивилизованного государства, спокойно принимающая корреспонденцию: "У вас заказное письмо? Две марки". – "Простое? Одна марка!" – "У меня простое, потому что это записочка к любовнику". – "Это заказное, потому что отношение к исправнику". И около этого… человек, которому нечего есть, и он не ел сегодня, не будет есть завтра и вообще не будет есть!!! Бррр… Не понимаю и не верю. Читал в газетах – и не верю, видел – и все-таки не верю!!!
Как может быть то, чего не может быть? Разве "дважды два" уже "пять".
* * *
Вот наконец и вторая моя родина, духовная, – нагорный Симбирск. Я не надеялся когда-нибудь его увидеть, потому что не было и не предвиделось никогда повода спуститься так далеко по Волге. Зачем? Я не странствователь, а домосед. Но выпал случай «хорошенько отдохнуть», и фантазия отдыха повлекла меня на Волгу.
Мы, гимназисты младших классов, ни разу не рискнули переплыть на лодке на ту сторону Волги: так широка она в Симбирске. Во время весеннего разлива глаз уже не находит того берега, теряясь на глади вод. Берег чрезвычайно крут: и самый город с его «венцом» (гулянье над Волгою) лежит на плоском плато, которое обрывается к берегу реки. В симбирской гимназии я учился во 2-м и 3-м классе в 1871–1873 учебных годах,[31]31
Здесь и далее у Розанова описка: братья Розановы жили в Симбирске в 1870–1872 годах.
[Закрыть] в пору директорства там Вишневского, в пору Луповского, Христофорова, Штейнгауэра и Кильдюшевского, из которых некоторые были известны не в одном Симбирске учебниками или литературно. Всякий, взглянув на эти коротенькие годы (1871–1873) и молоденькие классы (2-й и 3-й), усомнится и не поверит, что же я мог тогда видеть, заметить и пережить? Между тем я пережил в них более новое и, главное, более влиятельное, чем в университете или в старших классах гимназии в Нижнем.
Я не только не встречал потом, но и не могу представить себе большего столкновения света и тьмы, чем какое в эти именно годы (и, вероятно, раньше и позднее потом) происходило именно в этой гимназии. Вся гимназия делилась на две половины, не только резко различные, но и совершенно противоположные, тайно и даже явно враждебные, – совершенной тьмы и яркого, протестующего, насмешливого (в сторону тьмы) света. Прямо из "мамашиного гнездышка" (в Костроме) я попал в это резкое разделение и ощутил его не идейно и "для других", а ощутил плечом, кожею и нервами, для "своей персоны", что такое и тьма, что такое и свет. Воистину для меня это было как бы зрелищем творения мира, когда Бог говорит: "вот – добро", "вот – зло". Боже, такая разница пережить это разделение или только сознать его, какое богатство и преимущество физиологического ощущения над идейным, головным, когда копаешься-копаешься и вот докапываешься до "умозаключения".
Здесь чувствует кожа, и все незабвенно!
"Управлял" гимназией Вишневский – высокий, несколько припухлый, "с брюшком" и с выпуклым, мясистым, голым лицом генерал. За седые волосы в седой пух около подбородка ученики звали его «Сивым» (без всяких прибавлений), а генералом я его называю потому, что со времени получения им чина "действительного статского советника" никто не смел называть его иначе как "ваше превосходительство" и в третьем лице, заочно, «генерал». Но он был, конечно, статский. Он действительно «управлял» гимназиею, то есть по русскому, нехитрому обыкновению он «кричал» в ней и на нее и вообще делал, что все «боялись» в ней, и боялись именно его. Все мысли и всей гимназии сходились к «нему», генералу, и все этого черного угла, где, видимо или невидимо (дома, в канцелярии), стоит его фигура, боялись. Боялись долго; боялись все, пока некоторые (сперва учителя и наш милый, образованный инспектор Ауновский) не стали чуть-чуть, незаметно, про себя, улыбаться. Так чуть-чуть, неуловимо, субъективно. Но как-то без слов, без разговоров, гипнотически и телепатически улыбка передалась и другим. От учительского персонала она передалась в старшие ряды учеников и стала по ярусам спускаться ниже и ко 2-му году моего пребывания здесь захватила вот даже нас, третьеклассников (то есть человек пять в третьем классе). Улыбка разнообразилась по темпераментам и склонностям ума, переходя в сарказм, хохот или угрюмое, желчное отрицание. Всего было, всякие были. Улыбка искала себе опора: она ставила делом чести чтение книг, и никогда я (и мои наблюдаемые товарищи) не читал и не читали столько, сколько тогда в Симбирске читали, списывали, компилировали, спорили и спрашивали. Такой воистину безумной любознательности, как в эти 71–73 годы, я никогда не переживал. «Ничего» и «все». С «ничего» я пришел в Симбирск: и читатель не поверит, и ему невозможно поверить, но сам-то и про себя я твердо знаю, что вышел из него со «всем». Со «всем» в смысле настроений, углов зрения, точек отправления, с зачатками всяческих, всех категорий знаний. Невероятно, но так было. Разумеется, невозможно было самому все это проделать: но, на счастье, я плохо учился, выйдя совершенным «дичком» из мамашиного гнездышка, и для меня взят был «учитель», сын квартирной хозяйки, ученик последнего класса гимназии Николай Алексеевич Николаев. С благоговением пишу его имя теперь на старости лет, хотя уже сам классу к пятому вспоминал о нем не иначе как насмешливо и мысленно с ним споря. Но это пусть. Фаза пройдена. А пройти ее, я так особенно и чудесно пройти, я мог только с Н. А. Николаевым.
Небольшого роста, светлый-светлый блондин, с пробивающимся пушком, золотистыми, слегка вьющимися волосами, как я теперь понимаю, он для меня был "Аполлон и музы". Он сам весь светился любовью к знанию и непрестанно и много читал. Ну, а я был «подмастерье». "Сапожник" и "мальчик при нем"; самое удобное положение и отношение для настоящей выучки. Клянусь, нет лучшей школы, как быть просто «мальчиком», "подпаском" и "на посылках" у настоящего ученого, у Менделеева или Бутлерова. Но мне "настоящий ученый" был бы непонятен и, следовательно, не нужен или вреден: а вот Николай Алексеевич Николаев и был то самое, что нужно было и даже что "Бог послал". Конечно, он взялся за уроки и стал учить меня, как – не помню. Ни одного урочного занятия не помню. Но он сам, я сказал, непрерывно и много читал, и я просто стал читать то же, что он: сперва Белинского, затем Писарева, Бокля, Фохта и проч. Кончив уроки, я шел к его столику и брал из кучки книжек "что-нибудь неучебное". Понимал я? Не понимал? Ну, конечно, фактов, сообщений «науки» я не понимал или понимал это в 1/10 доле, но живым, чутким и (в ту пору) безгранично деятельным умом я схватил самый центр дела; не то, что писалось авторами этих книг, а что их заставляло все это писать, за что они боролись, страдали, куда летели. Словом, думаю и вполне уверен (теперь, в 50 лет), что я схватил суть дела, суть, если хотите, всего русского и европейского умственного развития, в 14–15 лет, с свежестью и безграничностью будущего, какая заключена в сути этого возраста! Тем, которые, читая эти строки, сомнительно качают головою, я скажу: но разве между мною, 14-летним симбирским гимназистом, и Боклем с его философской "Историей цивилизации в Англии"[32]32
Книга Г. Т. Бокля «История цивилизации в Англии», столь популярная в России в 60-е годы, вышла в двух томах в издании Тиблена и Пантелеева (СПб. 1863–1865) в переводе К. Бестужева-Рюмина и Н. Тиблена. Перевод выдержал три переиздания. Но наряду с ним существовал другой перевод – А. Буйницкого и Ф. Ненарокомова, который тоже переиздавался три раза.
[Закрыть] было больше разницы, нежели между «рыбаком» Петром и И. Христом с его «глаголами жизни вечной». И между тем не первосвященники, не учители фарисеев, не Никодим, а Петр и Иоанн восприняли слово Христово, полнее всего его уразумели и разнесли всему свету.[33]33
См.: «Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских…» (Иоанн, 3, 1). Петр и Иоанн, апостолы, прежде были рыбаками. Это любимая мысль Розанова, которую он по случаю всегда приводит «в пользу малых мира сего».
[Закрыть] Вот почему, не в силах будучи проверить всех «сообщений» Бокля, я в святая святых души его, ума его, характера его, метода его – того всего, ради чего Бокль и жил, вошел, может быть, лучше всех европейских читателей и его переводчика Бестужева-Рюмина. Клянусь, из нас двоих – меня, 14-летнего мальчика, и Бестужева-Рюмина– Бокль прижал бы к сердцу как «своего» именно меня! Ибо я был тот же Бокль, только без «арсенала», без его эрудиции. Но «душа»-то боклевская и потом вот писаревская, фохтовская, Белинского, не вместе, а порознь и преемственно – в эти безумные два года чтения эта душа через посредство той изумительной ассимиляции, восприимчивости, какая свойственна 14-ти годам, – она, эта душа, вошла в меня, росла во мне, жила во мне!.. Чего же им, как учителям, нужно было еще? Конечно, я был лучший их ученик в России и в Европе, и говорю это твердо теперь, в 50 лет.
– Да когда же ты дашь мне покой? – выговорил как-то мой уставший учитель на прогулке или когда мы куда-то шли, может быть, вот на пароходную пристань, где служил начальником конторы (по письменной части) его отец. Этот его вопрос я помню: наконец и он утомился, который сам во мне все пробудил и возбудил милыми, прекрасными, охотными разговорами-рассуждениями-разъяснениями. Утром ли, встав, я перебегал с своей постели на его; и вечером опять был под его одеялом. Мать его (моя хозяйка) была грубая, жесткая, смышленая и почему-то очень меня не любившая женщина, смеявшаяся над моею заброшенностью, сиротством (без отца и матери) и бедностью; старший его брат был слабоумный; сестра Соня была девяти лет; отец бывал дома только с вечера субботы до вечера воскресенья: остальное время он был занят службою в «конторке» на пароходной пристани «Самолета». Таким образом, не только для меня, но и для него не было вокруг и непосредственно родной атмосферы умственного общения: был только я, как для меня был только он (грубость семьи его, это я подчеркиваю и это сыграло большую роль). Мать его была не только грубая женщина, но и властительница, и от этого, верно, в дому его не появлялось его товарищей, кроме одного, Соловьева, по-видимому, влиявшего на него. Сам он в семье был и подавлен и свободен, уважаем и ценим, но ценим, как ценят 17-летнего даровитого юношу его родители, заработавшие хлеб и давшие ему воспитание (молчаливое требование благодарности и повиновения). В самом дому, в отношениях его со старшими образовалась атмосфера условности, сдержанности и умолчаний. Опять уже для него самого был, таким образом, открыт, чтобы «поделиться», только я один. И он меня никогда не учил, не наставлял, кроме разве первых месяцев моего пробуждения, а жил около меня, но свободно и делясь только со мною, и я тоже жил около него свободно же и делясь только с ним. Но какая это была жизнь…
Сдержанный в отношении к внешним, он был неизменно веселый (без шума), ласковый, остроумный, шутливый, изобретательный, «придумчивый» со мною; и сам-то, все читая и читая, только еще сам многое узнав недавно и вновь, он имел не только охоту, но и потребность делиться знаниями, «горизонтами», идеями, надеждами русскими и европейскими, по части «муз» и рабочего вопроса, критики и публицистики, социологии и политики, – и делился со мною. То есть просто при мне и вслух мечтал, негодовал, восхищался, порицал, смеялся, как и я при нем недоумевал, спрашивал, негодовал, сомневался, – при нем и обращаясь к нему. Должно быть, и даже без сомнения, он нашел во мне душу, единственную по восприимчивости, впечатлительности и любознательности (тогда); такой пожирающей любознательности, желания все знать, во все заглянуть, все разрешить себе, на все построить умственный ответ и разрешение я никогда не испытывал сам и ни в ком никогда не встречал. "Перечитал бы все книги, переслушал бы всех людей"…
Почувствовав такую восприимчивость, он, вероятно, и меня ответно полюбил, как я его; о чувствах мы никогда не говорили. Считали «глупостями» это и вообще всякую нежность, в том числе дружбу с ее «знаками». Просто ничего не говорили о себе и своем отношении, а только о мире, о вещах, о предметах и вообще внешнем и далеком. Я хорошо помню, что мы никогда и ничего не говорили даже об учителях и гимназии (в которой и он кончал курс), о доме или родных: мы исключительно говорили о далеком и идейном…
Не могу иначе передать этих отношений, никогда еще потом не пережитых, как что мы взаимно влюбились друг в друга, влюбчивостью идейной, мозговой, и формально прожили два года в любовничестве страстном и горячем, духовном, спиритуалистическом. Как иначе назвать эти двухгодичные отношения, в которых не было не только дня, но и минуты взаимного неудовольствия, недоверия или подозрительности, неуважения, ни ниточки скрытности. И между тем, собственно, «симпатии», "милого" или чего-нибудь сюда входило так мало, что, разлучившись, мы с ним ни разу даже не обменялись письмом. Между прочим, и по невозможности: «личного» мы никогда ничего друг другу не говорили, а продолжать прежние рассуждения, разговоры, это значило бы бросить учение и вообще все дела, обязанности и только начать писать. Конечно, мы предпочли каждый "уткнуться носом" в свою книгу, расставшись и молча, мы оба погрузились в "дальнейшее чтение", "развитие"…
Помню, он выписывал на свои деньги газету «Самодеятельность». Уж из заглавия читатель видит, что это была газета, с одной стороны, 60-х годов, а с другой – грядущего "освободительного движения"… Помню и выражение его: "маленькая, но хорошая газета". Никогда я потом и позднее не видал ее. Казанская или петербургская? Кто был редактор и сотрудники?[34]34
См.: «Самодеятельность» (листок «Вестника благотворительности»). Спб. 1870. Выходил два раза в месяц. Издатель-редактор д-р А. Тицнер.
[Закрыть] Поступил он на медицинский факультет, где был годом его раньше кончивший курс Соловьев, вскоре умерший. Фигуру этого Соловьева, как друга своего друга, я ярко не помню.
По этим двум лицам, вплотную и без заменения увиденным мною в 1871–1873 годах, я судил потом всю жизнь и до сих пор сужу, что такое тот менее идейный и более психологический перелом, какой около того времени вообще совершился в русской душе, а по зависимости истории от души – совершился и в истории русской. О нем можно было бы и нужно было бы писать целую книгу. Значение его, смысл его, содержание его, многоцветные ниточки в нем неисчислимы, Но для меня выпуклее всего бросается в глаза следующее.
Грубость внешняя. Отрицание всяких «фасонов», условностей; всякого притворства, риторики, лжи. Всего «ненастоящего». Свирепая ненависть к «идеализму» я «утонченности», ибо от Жуковского до Шеллинга именно "идеализм"-то и «утонченность» стали какою-то неприступною и красивою внешностью, за которую пряталось и где мариновалось все в жизни ложное, риторическое, фальшивое, с тем вместе бездушное и иногда безжалостное, жестокое.
– Свирепая правда! – вот лучшее определение перелома. Притом самый перелом совершился до того целомудренно и застенчиво, так сказать, "не смотрясь в зеркало", что я даже не помню, чтобы слова «правда» и «правдивость» когда-нибудь и у кого-нибудь из «них» фигурировали или даже просто упоминались. Просто шли «боком» и «плечом» к правде, не смотр? ей в глаза (с виду), как будто "не интересуясь этой барыней".
Все движение было в шутках. Шутка была «колером» движения. Так ведь это и сохранилось потом и до сих пор, когда тон "Русского Богатства", "Отечественных Записок" или «Товарища» есть шутливый, шутящий, грубо и просто шутящий, если сравнить его с тоном "Вестника Европы", «Речи» и проч.
Под этой шероховатой, грубой, шумящей внешностью скрыто зерно невыразимой и упорной, не растворяющейся и не холодеющей теплоты к человеку и жизненного идеализма, во всем – в политике, в социологии, литературе, публицистике, «музах» и проч., и проч., и проч. Я не смогу лучше этого выразить, как сказать, что в ту пору 60-70-х годов рождался (и родился) в Россия совершенно новый человек, совершенно другой, чем какой жил за всю нашу историю. Я настаиваю, что человек именно «родился» вновь, а не преобразовался из прежнего, например, из известного "человека 40-х годов", тоже "идеалиста и гегельянца", любителя муз и прогрессивных реформ. Этому тогда "вновь родившемуся человеку" не передали ничего ни декабристы, ни даже Герцен: хотя в литературе "этих людей" и трактовались постоянно декабристы и Герцен, даже трактовались с видом подчинения и восторга. Но именно только "с видом"… Если я назову Некрасова около декабристов, Гл. И. Успенского около «великолепного» Герцена, – всякий поймет, что я говорю и насколько основательно говорю…
"Пошел другой человек" – вот слово, вот формула!
Наконец, я не скрою своей внутренней догадки, догадки за 20 лет размышления об этом явлении, так рано увиденном: что перелом этот есть не оплакиваемое, желаемое и не полученное возвращение к "естественному человеку", о чем говорили Руссо, Пушкин ("Цыганы"), Толстой ("Казаки") и Достоевский ("Сон смешного человека"), а реальный и как-то даром и "с неба", простой, добрый, безыскусственный, освободившийся от всех традиций истории. Буквально как "вновь рожденный". И, чтобы договаривать уже все и сразу окинуть смысл происшедшей перемены, скажем так, что это… возвращение к этнографии, народности, язычеству!
Последний термин нуждается в объяснении: я наблюдал – на людях и ‹в› книгах, в журналах, в газетах, разговорах, – что ничто до такой степени не чуждо этим людям, как хотя бы первый «аз» религиозной метафизики, которая нам известна под формою христианского богословия, чужд и неприятен всякий тон сентиментальной «кротости», "прощения врагу", «милосердия», "миротворчества", «непротивления» и проч., и проч., и проч.! Словом, весь тот дух и тон, какой мы соединяем с христианством, жаргон и фразеология его, его мотивировка, его слова и манеры, жесты и причитания, какие имеют "главным складом" своим духовенство и распространены всюду, которые имеют главною книгою Евангелие и действительно пошли от него, – все, все это имеет себе в "мыслящих реалистах", в Базаровых и Рахметовых такое непонимание себя, такое отрицание себя, такую вражду, гнев и презрение к себе, недоверие и отвращение, что я не умею передать! Да это все знают, все чувствуют! В этой "первичной этнографии", которую мы чудесным образом опять получили в своих Рахметовых и Базаровых, Писаревых и Добролюбовых, – русский человек станет с "этнографическим любованием" смотреть на еврея, татарина, язычника, тоже «этнографически» посмотрит и на «попа», без вражды, но чтобы он "подошел к нему под благословение" или записался в «братчики» человеколюбивого комитета, им основанного, чтобы он о чем-нибудь начал "по душе" с ним разговаривать, – этого не было, нет, не будет никогда!
Все реальность – в одном!
Все идеология – в другом!
Непреодолимое расхождение! До отвращения, до крови!
Вот мой внутренний взгляд, внутреннее понимание явления, о котором размышляю тридцать лет, которое хотела понять вся наша литература и так и оставила его. Не разгадав, несмотря на кажущуюся его простоту и элементарность. "Пришли новые люди, всем нагрубили и всех прогнали". Да, они «нагрубили», как остготы римлянам: и ведь никогда римлянин не мог понять вестгота!
* * *
Я продолжу о состоянии симбирской гимназии в 1871–1873 годах, так как этот маленький уголок и за небольшое время был, в сущности, тою культурною «молекулою», которая повторялась на протяжении всей России и обнимает приблизительно 30 лет перелома в ее жизни – перелома, до такой степени важного, что я не умею сравнить с ним никакой другой фазис ее истории. «Рождался новый человек» – этим все сказано, ибо из человека родится его история: и когда появилось новое в человеке, то уже наверное все и в истории пойдет иначе.
Вся гимназия разделилась на «старое» и «новое», разделилась в учениках, в учителях. Нового было меньше, около 1/4, 1/5. Но в каждом классе, начиная с самых маленьких (приблизительно с 3-го), была группа лично связанных друг с другом учеников, которые точно китайскою стеною были отделены от остальных учеников, от главной их массы, без вражды, без споров, без всякой распри просто равнодушием! Теперь, 35 лет спустя, это нашло себе выражение в терминах: «сознательный», "бессознательный", «сознательное», "бессознательное". Термин очень удачен, ибо он попадает точь-в-точь в суть явления. Тогда этого имени и самого слова не было. Не попадало на язык. Но явление было точь-в-точь то самое, которое теперь охватывается этим явлением.
Масса учеников, 3/4 или 4/5, были, так сказать, реалистами текущего момента. Папаши с мамашами, или, грубее (потому что в их лагере все было грубо), официальные «родители», "власть имущие", отдали их в гимназию. Гимназия, "казенное заведение"– это было что-то еще более "власть имущее", нежели сами родители. Робкая, смирная, недалекая, ленивая душа этих учеников, смесь сатиры и идиллии, снизу вверх с необоримым страхом взирала на эту как бы железную крышу всяческих «властей», домашних и городских, семейных и государственных, и, подавленная, только думала об исполнении. Исполнение – оно скучно, сухо. Это "учеба уроков" и "хорошее поведение". Нужна и поэзия: поэзией и утешением, грубее – развлечением для них служили драки, плутовство, озорство, ложь, обман, в старших классах – кутежи, водка и тайный ночной дебош. Как заключение этого подготовления, как награда за скучные учебные годы, давалась и получалась "казенная служба", такая или иная, смотря по выбору, склонностям, успехам и связям или общественному положению родителей. В основе все это было лениво и косно. Было формально и без всякой сути в себе. Тоже удачно было это названо в 80-х годах "белым нигилизмом". Тут не было ни отечества, ни веры, но формы «отечества» и «веры» были. Стояли какие-то мертвые скелеты, риторические выспренности, и им поклонялись мертвым поклонением высушенные мумии, просто с тусклым в себе «я», без порыва, без идеала, без «будущего» в смысле мечты и вообще чего-нибудь, отличного от "того, что есть".
Люди "как они есть" и поклоняются "тому, что есть" – общее, чем этою формулою, я не умею выразить этого состояния.
Общею внешнею чертою, соединявшею этих людей (мальчиков и юношей), было отсутствие чтения. На ловца и зверь бежит, говорит пословица. Правда, в гимназии не поощрялось чтение, но в глубине явления лежало то, что если бы чтение даже и поощрялось учителями и начальством, ученики эти все равно ничего не стали бы читать по отсутствию внутреннего к нему мотива.
Я склонен думать, что и "русские условия" в самом обширном смысле слова, захватывая сюда не одну политику, но и городской и сословный строй, и церковь, и "учебу", – все вместе мало-помалу измельчили "русскую породу", довели ее до вырождения, до бессилия, дикости, черствости, до потери самой впечатлительности, и эта тупость впечатлительности стала не личным явлением, но родовым, наследственным. Откуда и объясняется множеством людей отмеченный факт, что более даровитыми в «обещающими» являются люди с крайне диких русских окраин, «сибиряки», с Дона, с глухой-глухой Волги, из далекого северного края, ибо эти люди выросли вне всяких влияний "русской гражданственности" и "русского просвещения", которые, как плохой плуг землю, только портят, а не обрабатывают человека.
Отсутствие «чтения» проходило разделяющею чертой не только между учениками, но и между учителями. И они тоже делились на читающих я нечитающих, на любящих книгу и не любящих книгу. Кажется, это странно встретить в учителе гимназии. Между тем уже в 1886 году при первом посещении мною семьи одного учителя русского языка я, на вопрос о чтении его взрослых детей, услышал ответ, сопровождаемый полуулыбкой, полу смехом:
– У нас, в дому, читают одного Пушкина. Дети, жена и я.
– Ну что же, отличное чтение. Одного Пушкина прочитать… – Да не Александра Сергеевича. Мы ужасно любим, собираясь все вместе, читать Пушкина, рассказчика сцен из еврейского быта. Помираем со смеху![35]35
См.: И. Н. Пушкин (Чекрыгии). Жидок. Сборник еврейских песен, куплетов. романсов и арий со сценами, в двух частях, с фотографическим портретом автора. Изд. 3-е. М. 1879.
[Закрыть]
Не знаю этого Пушкина и в первый и единственный раз о "Пушкине, рассказчике из еврейского быта" я услышал от этого учителя русского языка в русской гимназии, уже прослужившего 25 лет в министерстве народного просвещения и который в этом другом Пушкине находил более вкуса и интереса, нежели "в том, в Александре Сергеевиче", которого он, однако, по обязанностям службы преподавал ученикам едва очень охотно.
"Нечитающая" часть учителей симбирской гимназии была, естественно, и «непросвещенною». Они были тоже "реалистами текущего момента". Служба министерству, порядок, благочиние, тишина, исправность. Чтобы ревизии (из Казани, от учебного округа) сходили хорошо да чтобы не было "историй".
– Мне твои успехи не нужны. Мне нужно твое поведение.
Так «Сивый» директор кричал на ученика, распекая его. Очки его при этом бывали подняты на лоб; брюхо, более обширное, нежели выпуклое, слегка тряслось, и весь он представлял взволнованную фигуру.
Он волновался только от гнева. Ничто другое его не волновало, не трогало.
Этот лозунг – "хорошее поведение, а до остального дела нет" – был дан давно Сивым или даже, может быть, до него. Мы, я в частности, уже вступали в этот режим как во что-то сущее и от начала веков бывшее (детское впечатление), но… чему настанет конец!
"Настанет! Настанет!"
И мы яростно читали.
Да будет благословенна Карамзинская библиотека! Без нее, я думаю, невозможно было бы осуществление этого «воскресения», даже если бы мы и рвались к нему.[36]36
Карамзинская библиотека была основана в 1846 году.
[Закрыть]
Библиотека была "наша городская", и "величественные и благородные люди города" установили действительно прекрасное и местно-патриотическое правило, по которому каждый мог брать книги для чтения на дом совершенно бесплатно, внося только 5 руб. залога в обеспечение бережного отношения к внешности книг (не пачкать и не рвать, не "трепать"). Когда я узнал от моего учителя (репетитора) Н. А. Николаева, что книги выдаются совершенно даром, даже и мне, такому неважному гимназистику, то я точно с ума сошел от восторга и удивления!.. "Так придумано и столько доброты". Довольно эта простая вещь, простая филантропическая организация, поразила меня великодушием и "хитростью изобретения". "Как придумали величественные люди города"…[37]37
Первым председателем правления библиотеки был Языков Петр Михайлович, брат известного поэта, должность перешла по наследству его сыну Александру Петровичу.
[Закрыть] Это отделялось всего несколькими месяцами и не более чем годом от времени, когда я уже читал Бокля и конспектировал «Физиологические письма» К. Фохта.
Конспектирование мое произошло через желание все схватить, все удержать и при немощи купить хотя бы одну «собственную» книгу. Книги даются только читать, но ведь я должен их помнить! Как же сделать это, когда я не могу ни удержать книги, ни купить новой такой же? Самый простой исход и был в том, чтобы, возвращая книгу в библиотеку, оставить дома у себя "все существенное" из нее, до того существенное, что, обратившись к тетради, я как бы обращался к самой книге.
Нужно заметить, что о существовании конспектов и вообще о самом методе этого отношения к читаемой книге я ничего не знал (3-й класс гимназии) и ни от кого не слышал. И мой универсальный во всем наставник Н. А. Николаев этого мне не говорил – это я хорошо помню. Вообще он мне никогда ничего не навязывал и не «руководил» ни в чем; эта его благороднейшая черта была и педагогичнейшею. Я рос и развивался совершенно «сам»; только около меня был умный и ласковый, меня любивший человек, тоже смотревший всегда сам в книгу. Конечно, времени сохранялось тем больше, чем конспект был сжатее: тогда все чтение получало более быстрый или по крайней мере сносно быстрый оборот. А ведь мне предстояло сколько прочитать! С тем вместе конспект должен был вполне заменить книгу, ибо и цель-то его была именно в замене книги. Поэтому энергично, с величайшею точностью, торопливостью и вниманием, я, как только ухватился за Фохта или за "Древность человеческого рода" Ч. Ляйэля,[38]38
См.: К. Фогт. Физиологические письма. Изд. 2-е. СПб. 1867, вып. 1–2. (Ч. Л а й е л ь) Геологические доказательства древности человека. С некоторыми замечаниями о теориях происхождения видов Чарльза Ляйэлля. СПб. 1864 (на обороте книги заглавие сокращено: «Древность человека»).
[Закрыть] я начинал выбрасывать мысленно все лишнее, прибавочное, словесное, все литературные распространения, – это с одной стороны, а с другой – и все остающееся, «нужное», фактически и идейно сжимал в передаче до последней степени сжимаемости.
Мне неизвестно, поступали ли так другие читающие, но это все равно, – идя другими путями, они срывали другие плоды! Но ничего подобного этому "нахлынувшему чтению", какому-то «потопу» его, который все "срывал с петель", ломал и переворачивал в старом миросозерцании, точнее – ни в каком миросозерцании, а просто в старой лени и косности, я не запомню ни в последующие годы в нижегородской гимназии, ни потом в университете. Должно быть, не было уже этого возраста, святых этих лет, когда
Прошу прощения у поэта, что ставлю применительно к воспоминаниям в прошедшем времени его глаголы…
Старшие классы этой гимназии, в которой я знал много учеников, конечно, «читали» уже гораздо сознательнее и серьезнее, чем мы, и, не вмешиваясь, молча мы прислушивались к их спорам. Совершалось все это на «сборных» ученических квартирах, где в одной комнате жили ученики и 2-3-го класса, и 6-7-го. Нельзя сказать, чтобы мы искали слушать эти споры; нельзя сказать, чтобы ученики старших классов нам «пропагандировали». Они на нас не обращали внимания, но и не стеснялись. Итак, все вышло само собою. Во всяком случае и религиозный, и политический переворот стоял «вот-вот» у входа нашей души. Впрочем, нельзя сказать, чтобы «политический». В определенном смысле этого не было. Имен не было. Было «начальство», "вообще начальство", русское или французское, – и все это сливалось с Кильдюшевским, Сивым (директор Вишневский) и Степановым, который, бывало, своим грозным, положительно странным голосом говорил:
– Дубъовский, боуан, пошел, стань хожей в угол.
То есть "Дубровский, болван, пошел, стань рожей в угол".
Он не выговаривал некоторых букв. Дубровский, высокий, худенький мальчик, был выше этого кряжевитого, низкорослого, масляного, бесшумного в движениях (кот) учителя со старомодными бакенбардами. Благодаря тому, что он преподавал математику, а следовательно, и мог каждого сбить в ответе и свести к «богвану», каковое имя им выговаривалось страшно и грозно, мы, бывало, все затихаем, как мертвая вода, перед его уроком.
Нам, читающим, он «богвана» уже не говорил. Вообще удивительная вещь: мы их, учителей, ненавидели и боялись никак не менее, чем нечитающие, косные мальчики. Но, должно быть, что-то и у учителей было в отношении «читающих» учеников: я не помню ни одного случая, чтобы учитель, даже явно ненавидевший подобного ученика, сказал ему, однако, какую-нибудь резкость или грубость, закричал на него. Что-то удерживало. Я помню на себя окрик во 2-м классе "Сивого":
– Я тебя, паршивая овца, вон выгоню!
Но это было до «чтения». Случай этот, крик директора, мне памятен по причине первой испытанной мною несправедливости. В перемену мы бегали, гонялись, ловили друг друга по узкому длинному коридору между классами. Все это делают массою. Да и как иначе отдохнуть от сидения на уроке? Но когда в некоторые минуты шум и гам сотен ног становятся уже очень непереносимы для слуха надзирателя (что понятно и извинительно), он хватает кого-нибудь за рукав и, ставя к стене или двери, кричит:
– Останься без обеда!
Это сразу останавливает толпу, успокаивает резвость и смягчает действительно несносный для усталого надзирателя гам беготни и стукотни. Это хорошо и так нужно. Но схваченный и поставленный к стене явно есть "козлище отпущения", без всякой на себе вины, ибо точь-в-точь так же бегали двести учеников. Это знают и надзиратель и ученики: но для «проформы» такого гипотетического «безобедника» после всех уроков, на общей молитве всей гимназии, все же вызывают перед директора (в этом и суть наказания), говорят; "Вот бежал по коридору в перемену" (то есть худо, что не шел степенно), после чего директор обычно говорил: "Веди себя тише" – и отпускал, в отличие от других настояще виновных учеников. Когда я вышел перед директора, совсем маленький, и он, такой огромный и с качающимся животом и звездою на груди, закричал: "Я тебя, паршивая овца, вон выгоню!" – то мне представилось это в самом деле кануном исключения из гимназии! И за что? За беганье, когда все бегают.