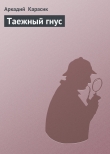Текст книги "Таежный пилот. часть 3. Ил-18 или золотой век авиа"
Автор книги: Василий Ершов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
А летали мы на простом железе. Оно, железо это, не требовало слишком больших знаний, летчики не отличались уж таким особо глубоким умом, не обладали излишними запасами особо уж сложной информации, но ремесло свое знали, умели взаимодействовать в этом ремесле друг с другом, с машиной и с землей… и выполняли ту же самую работу, которую нынче, в двадцать первом веке, выполняют современные пилоты на навороченных иноземных самолетах. Выполняли ее точно так же, в точно таком же небе, между такими же грозами, в таком же обледенении, используя несовершенные приборы и простейшие системы захода на посадку.
Правда, правила полетов в те времена были просты. Выучить их вполне мог и летчик со средним советским образованием. Не требовалось плутать в хитромудрых формулировках, параграфах, ссылках, поправках, приложениях и дополнениях. Язык отечественных руководств был прост и понятен русскому человеку. Английский язык изучать месяцами не требовалось. Его ВООБЩЕ не требовалось.
Отличительной чертой времени было то, что летчики на дух не принимали всяческие бумаги, обходились без них, выучив назубок самую суть руководств да несколько цифр, занеся их для памяти в записную книжку. ЗУБРИТЬ – НЕ НАДО БЫЛО!
Но в экипаже, в большом экипаже, требовалось уметь наладить отношения. В экипаже работали живые люди, добрым отношением их друг к другу ковался летный дух. В экипаже был КОМАНДИР, единоначальник, старший товарищ, авторитет. В решающую минуту он принимал решение, и, судя по статистике безопасности полетов, решения эти принимались в семидесятые годы столь же правильно, как и нынче.
Это был настоящий коллективный профессионализм, нарабатываемый годами, поколениями, и человек в этой системе пропитывался полетным духом в течение долгих часов, проводимых в реальном небе, а не на занятиях и тренажерах.
Как же так получилось, что нынче, сорок лет спустя, пилот возит тех же пассажиров, по тем же трассам, практически на тех же высотах и скоростях, в той же атмосфере, в тех же погодных условиях, на те же аэродромы, выполняя ту же самую работу, что и предыдущие поколения летчиков, – но пилот этот стал человеком-функцией, человеком, в распухший мозг которого втиснуты тонны макулатуры, человеком, который вынужден в процессе летной работы общаться на чуждом языке, человеком, которого, прежде чем он сядет за штурвал или сайдстик, сначала заставляют проходить унижающий достоинство летчика досмотр, потом он должен перелопатить кучу информации, затем он набивает программы, после чего без секунды отдыха в течение всего недолгого полета работает с кнопками, в конце рейса чуть не часами висит в суете воздушной пробки над московским аэродромом, а напоследок самолет автоматически ударяет его задницей об землю, и после всего этого он ползет домой как под наркозом от такого вот, извините за выражение, полета. И так – изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, как на галерах… но зато – ВОТ ЗА ТАКИЕ БАБКИ!
И мы в свое время знавали каторгу полетов изо дня в день. Но каторга эта была чисто физическая: надо было вытерпеть, и все. Спасало нас то, что мы постоянно, от полета к полету, от посадки к посадке, без всяких зубрежек, познавали живую железную машину, сливались с нею, чувствовали ее через дрожь штурвала. Голова же была занята решением простых задач полета. А сердце трепетало от каждой сотворенной собственными руками удачной посадки. И мы рвались выше, на новую матчасть… и она, матчасть эта, была, наша, отечественная, и ее хватало на всех. Только водку уж так сильно не пей…
Мне немножко жалко нынешних пилотов. Мне и пассажиров жалко, да я уже на них, трусов, махнул рукой: дети цивилизации… бог с ними. Но пилотам… пилотам особенно сочувствую. Они в рабстве. Им заткнули рот высокой зарплатой и соцпакетом – и погоняют. Иным из них еще «жутко интересно» кнопки нажимать… погодите, через пяток-десяток лет восплачете. Здоровье, выжимаемое из вас такой вот работой, не восполнишь никакими деньгами. Нажал на кнопку… а мешок-то на горбу!
Да так, собственно, на любой работе сейчас. Ремесло. Логистика. Бизнес не спрашивает, тяжело тебе или очень тяжело. За такие бабки – вкалывай от зари до зари, а не нравится – уматывай. Ты – человек-функция.
А как мы просились: ну, примите нас, диких совков, в ваше, такое вожделенное, буржуинство!
Видимо, в погоне за европейскими стандартами, наш авиационный бизнес слегка перестарался. Нам пришлось, спотыкаясь, перепрыгивать сразу через несколько ступенек, догоняя эрбасовские хвосты. Мы были вынуждены принять американские правила игры в самолетики. А государство – и растерялось. Некогда великой авиационной державе нынче оттаптывают ноги в рыночной толкотне, где европейские и американские локти гораздо острее. А «вероятный противник» потирает руки.
*****
Великой авиационной державой СССР был в семидесятые годы прошлого века. Государство имело парк вполне современных собственных самолетов, обеспечивающий перевозку ста с лишним миллионов пассажиров в год внутри огромной страны, ну, немножко и за рубежом. Государство имело мощнейшую авиационную промышленность, обеспечивающую потребности страны и в пассажирских перевозках, и в выполнении народно-хозяйственных работ, и в обороне. Да что там говорить: государство наше было абсолютно самодостаточно.
Сейчас, в 21-м веке, на наших трассах, внутри страны, самолетов не густо. И в Магадан, не говоря уж об Анадыре или Певеке, из Москвы по пять рейсов в день явно не планируется. Страна ужалась в аппетитах. Не очень, мол, и хотелось. Перетерпим, мол. Еще оскомину набьешь…
Не очень хочется летать и из Красноярска в Мотыгино. Подождем, когда на Ангаре лед пройдет, сплаваем пароходиком. И так далее.
И так вот вновь в величайшей России появляются дремучие медвежьи углы. А москвичи пренебрежительно роняют: «пра-авинцыя…»
Я приходил на работу в провинциальный красноярский аэропорт как на праздник. Быстро рассчитывал центровочный график, выслушивал вместе с экипажем консультацию синоптика и шел на свой самолет. Главное было – не перепутать номер борта и не забежать по трапу в чужую машину, которых стояло два дли-инных железных ряда. Оставлял в кабине свой портфель, выходил осматривать матчасть, затем садился в кресло, дожидался, когда закончится посадка пассажиров, подписывал ведомость, включал свой тумблер, отвечал по контрольной карте; на взлете мягко держался за управление, дожидался, когда командир устанет и передаст штурвал мне. И начиналась тренировка, набивание руки и наработка чувства инерции большой машины, без которого не получится настоящего пилота большого лайнера.
Если было «жутко интересно», пилотировал вручную час, а то и два, выдерживая все параметры. У старых капитанов в экипажах было заведено: побольше пилотировать в штурвальном режиме, набивать, набивать и набивать руку: мало ли что. Был один специалист, старый командир, из бывших военных летчиков, так он надевал тонкие перчатки и все шесть часов от взлета до посадки пилотировал корабль вручную, с перерывом только на обед. «Как в армии», – говаривал он.
Конечно, тяжеловато было выдерживать на эшелоне высоту плюс-минус 30 метров, но выдерживали же! Мы таки умели летать.
Новым навыком, которым я, после поршневой авиации, еще в полной мере не владел, был устный счет. Пилот, независимо от штурмана, должен был уметь прикинуть необходимую вертикальную скорость, время расхождения со встречным, время набора следующего эшелона. Я поначалу удивлялся, как быстро пилоты оперируют кратными значениями расстояний, высот и скоростей. Но после полетов на скоростях 300 полеты на скоростях около 600 потребовали не очень уж сложного, двукратного пересчета: не 5 км в минуту, а 10, и т.п. При наших вертикальных скоростях набора, практически одинаковых, что на Ан-2, что на Ил-14, что на Ил-18, умножать и складывать эти цифры вполне хватало времени: вертикальные скорости не превышали иной раз и 3 м/сек; сиди себе, считай. Казалось бы, вот он, практический потолок уже… не полезет… а машина все скребется и скребется, и таки выползет на эшелон, и еще и разгоняется на нем.
Время в полете замирало. Каждый занимался своим делом, но дела этого было так мало, что все читали газеты и книги. Я заполнял графы полетного задания, на этом моя работа заканчивалась, и поневоле приходилось раскрывать книжку. Один только штурман был занят расчетами на линейке, связью, настройкой приборов, но и у него были долгие периоды простого сидения в ожидании неспешного перемещения ориентиров.
Вообще, я заметил, что экипажи Ил-18 практически все были читающими. И на отдыхе в профилактории каждый ложился и засыпал с книжкой, обычно небольшого веса… чтобы случайно не получить травму лица. Возможно поэтому, Руководство по летной эксплуатации самолета было отпечатано книжечкой практически карманного формата; да и другие наши «снотворные» документы, НПП ГА и НШС ГА, были такого же размера.
Словосочетания «Чикагская конвенция», насколько я помню, никто никогда не упоминал. Да мы о ней, о конвенции этой, и представления не имели. Как мы только без нее летали, уму непостижимо.
И никто никогда ничего не зубрил. Если возникали вопросы, то легче всего их было растолковать в полете, а так как были они чисто практического плана, то арматура кабины всегда была под рукой как наглядное пособие.
Через два часа полета минеральная вода, разложенная в стеклянных бутылках на заиндевевшем подоконнике, за шторкой, охлаждалась до приемлемой температуры. А так как самолет наш системы кондиционирования на земле еще не имел, потеть перед вылетом приходилось предостаточно, особенно в Ташкенте, и водичка на эшелоне пилась всласть. Кроме того, для меня еще непривычным был жареный высотный воздух, которым потом пришлось сушить горло долгих 27 лет.
Конфетами «Взлетная» были у нас набиты все карманы; так же точно портфели были полны пачками гигиенических «вонючих» салфеток с эмблемой Аэрофлота, которые применялись по любому поводу и действительно освежали тело.
На козырьке приборной доски лежали кипы свежайших газет, которые третий номер обязан был без зазрения совести извлечь из связок в нашей почте и предоставить экипажу. Макулатуры мы перевозили много, даже слишком, а массовый читатель от отсутствия перед обедом советских газет явно не страдал.
Кроме газет, на обширный козырек класть любые предметы запрещалось. Рассказывали о случае, когда упавшая с козырька конфетка попала аккурат на грибок лампы-кнопки флюгирования винта, и двигатель остановился в полете, со всеми вытекающими расшифровками.
Пассажирских кресел в салонах было либо 89, либо 100, в зависимости от модификации. У нас эксплуатировалось несколько старых Ил-18В, а в основном, новейшие Ил-18Д, с повышенным взлетным весом, большей заправкой и автоматической системой захода на посадку БСУ-ЗП.
Кормежка была всегда одним блюдом – курицей, со всякими вариантами добавок – от лососины до банальных вареных яиц, в зависимости от щедрости цеха питания различных аэропортов. Курица доставлялась на самолет в вареном виде, уложенная в сотейники. Кстати, по моим наблюдениям тех лет, лучшей курицы, чем красноярский бройлер, ни в одном порту не было; иногда из дальнего цеха питания залетала к нам и вообще синяя и волосатая «птица счастья завтрашнего дня».
Далеко не все пассажиры эту курицу, даже нашу, красноярскую, употребляли, иные вообще отказывались от еды, в нашу, естественно, пользу. Их, видите ли, от болтанки тошнило.
Девчата, надо отдать им должное, умели выварить из красноярской курицы превосходный бульон, а курицу зажарить так, что я на спор с командиром однажды съел 2 (прописью: два!) сотейника жареных крылышек, общим числом 36 штук. И ничего со мной не случилось; спор выиграл, и не стошнило.
В середине полета физиология тянула посетить отхожее место. На Ил-18 туалеты были расположены в самом шумном и изнывающем от лихорадочной дрожи месте машины – в центроплане, рядом с винтами. Зуд там стоял такой, что особого желания засиживаться не возникало. Тем более что курение в полете на пассажирских местах тогда еще разрешалось, и пассажиры спешили из вибрирующего ящика поскорее вернуться в уютный салон.
Кухня на Ил-18 была расположена за вторым салоном. А за нею был еще третий салон, помнится, мест на 14-15: три ряда кресел и отдельный туалет! Вот там лететь было приятно. Гул винтов, основных источников шума, сюда доходил слабо, вкусные запахи пробивались из кухни и будоражили аппетит, борьба с голодом была недолгой.
Но в болтанку… Мы, конечно, старались пилотировать аккуратно, но хвост есть хвост, и иногда вестибулярному аппарату пассажиров третьего салона изрядно доставалось.
Когда же самолет шел полупустой, а экипаж возвращался пассажирами из командировки ночью, этот отсек мы забивали как отдельное купе с лежачими местами. И уж что там ни вытворяла атмосфера с кораблем, нам было безразлично. Шесть часов сна, на мягких креслах… да о чем еще мечтать. Баю-баюшки-баю…
Большая Авиация работала круглые сутки, так что ночных полетов на лайнере хватало. Даже оборачивалось так, что чаще летали либо под вечер, либо под утро. Были и ночные тяжелые рейсы, например, с разворотом на Благовещенск, туда и обратно, почти восемь часов налета под звездами.
Это уже были не каких-то два часа от Туруханска до Подкаменной. После набора высоты начиналась борьба с голодом, поначалу отвлекавшая от борьбы со сном. А после сытного ужина борьба с наваливающейся дремотой, под бесконечное, часами, «дры-ынн, дры-ынн», вступала в свои права.
Дышали кислородом. Перекуривали и вновь дышали из маски. Выдумывали всякие шутки. Задремавшему старику-командиру заклеивали очки бумагой; через определенное время он просыпался в темноте и не мог врубиться. Кому-то незаметно отстегивали от кислорода шланг маски и вдували в дырку табачный дым. Безобидные шутки эти встряхивали, но не надолго. Затевался разговор, обсуждалась какая-нибудь интересная статья, травился анекдот. И вновь: дры-ынн, дры-ынн… И застывшие стрелки приборов.
Так я учился преодолевать трудности летной работы.
Да если бы они были в авиации только такие… то слава трудностям.
*****
Но я запомнил полеты на Ил-18 именно как золотой век нашей авиации. Теперь, с высоты прожитых лет, период этот кажется божьей благодатью. Наше летчицкое дело было одно: уметь пилотировать, уметь взаимодействовать, уметь анализировать полет. Все остальное если и касалось нас, то вскользь, и мы прекрасно понимали, кто есть главный в авиации. Красноярская школа учила доходить на практике до самых глубин летной работы – мы и доходили. Мы обсуждали нюансы претворения в оптимальный полет всех нововведений. Старались друг перед другом доказать именно свою глубокую приверженность этим нормам, цифрам, рамкам. Мы разрабатывали способы удерживания самолета в рамках безопасности полетов и делились друг с другом богатствами летного ремесла. Каждый, кто сумел растолковать что-то другому, на пальцах, простыми понятиями, до полного усвоения, гордился своим профессионализмом.
На летном разборе командир авиапредприятия, сам прекрасный пилот, делился соображениями практической экономии топлива. При полной заправке слишком энергичные развороты на рулении приводили к выплескиванию топлива через дренажи. Разрабатывались способы оптимального руления на разворотах, выбор маршрута, обсуждались преимущества буксировки в точку запуска, продумывались обстоятельства запроса запуска в нужное время, чтобы потом не молотить на старте, матеря себя за то, что не учел причин, из-за которых идет задержка, а топливо улетает в трубу. Штурманы разрабатывали профили оптимального снижения с эшелона, учета ветра на время полета, делились опытом шумахерского подрезания углов «по внутреннему радиусу» при пролете поворотных пунктов. И все били в одну точку: практическое применение своих навыков к достижению экономичного и безопасного полета.
Не было тогда еще перебоев с топливом. Не надо было летчику считать стоимость керосина в разных портах. Не требовалось пилоту рассчитываться наличными с наземной службой. И вообще экипажу не надо было изворачиваться; надо было просто честно работать, как того требовали и совесть, и документы, и начальство. Топлива было много: труба в те времена еще качала его внутрь страны.
Самолет Ил-18Д имел вместительные баки, топлива в них всегда плескалось больше чем достаточно, и практически никогда пилот на топливомер не глядел. Ну, разве что единичные случаи сильного встречного струйного течения при неоправдавшемся ветровом прогнозе, когда «ветер во втулку» заставлял все-таки подсаживаться по пути на дозаправку. Помнится, у меня за четыре года был всего один такой случай.
А так – полная загрузка – и вперед, без посадки, до Москвы, 3600 км. Пилоты ильюшинских машин были, прямо скажем, избалованы отсутствием необходимости постоянного контроля за расходом топлива.
Платили, по тем временам, хорошо, на жизнь хватало. На второй год я уже купил себе новенькую машину. Марок приличных массовых машин в стране тогда было три: «Волга», «Жигули» и «Москвич»; «Запорожец» в летной среде не котировался. Ну, мне достался «Москвич». Командиры лайнеров имели «Волги». Проблема была не в деньгах, а в талонах: добыть талон на машину считалось везением, очереди были по два года.
Рейсы все были длинные. Посадок, требующих от экипажа определенного напряжения, получалось немного. Самолеты были надежны и просты в управлении, прощали ошибки. Чтобы разложить Ил-18, надо было уж очень постараться.
В производственных отрядах не было разнотипности. Наш Красноярский ОАО эксплуатировал на местных линиях и спецприменении самолет Ан-2; на краевых линиях ходили Ил-14 и Як-40; на союзных трассах летали Ил-18; грузовыми перевозками занимались Ан-12. Сил авиационно-технической базы хватало на обслуживание этих типов воздушных судов, от запчастей ломились склады. Тренажеры по всем пассажирским типам были свои, не требовалось летать в другие отряды и побираться, подстраиваясь под чужой график тренировок.
План работ спускался сверху; не надо было ломать голову, а требовалось только приложить все силы к его выполнению. Министерство думало стратегически, а уж тактика отдавалась на места. Отряд должен был следить за состоянием матчасти и за уровнем подготовки летного состава и служб. Поэтому профессионализм, не обвешанный ненужными веригами (за исключением обреченно-безнадежной партийно-политической работы), был нормой жизни.
Даже никому не нужная ППР («посидели, поп…дели, разошлись») была направлена на повышение уровня профессионализма, первейшей статьей которого в партейных верхах считалась «беззаветная преданность».
Плохо это было или хорошо, что государство тогда действительно всерьез занималось авиацией, рассудит история. Но то, что в 70-е наша авиация достигла своего расцвета, не вызывает сомнений. И уже когда страна катилась, и когда Союз совсем развалился, – авиация России, уже будучи бизнесом, все еще сохраняла положительную инерцию, набранную в эти благословенные для полетов годы. На ней, на инерции этой, бизнес держался в 90-е годы и даже в начале двадцать первого века. А потом к чертовой матери полетели все старые принципы и наработки, а организация и перипетии вокруг полетов стали полууголовными, причем, до такой степени, что прокуратура сует в них нос теперь уже по любому, самому незначительному поводу.
Одни только старые летчики могут сравнить и оценить, как было тогда и как оно оборачивается сейчас.
На Ил-18 из провинциального Красноярска я тогда регулярно летал в следующие города: Москва, Ленинград, Львов, Киев, Одесса, Симферополь, Сочи, Минеральные Воды, Харьков, Волгоград, Ростов, Нальчик, Куйбышев, Горький, Казань, Набережные Челны, Пермь, Свердловск, Челябинск, Магнитогорск, Уфа, Оренбург, Кустанай, Актюбинск, Астрахань, Ташкент, Алма-Ата, Фрунзе, Балхаш, Павлодар, Кемерово, Новосибирск, Абакан, Енисейск, Норильск, Игарка, Хатанга, Благовещенск, Владивосток, Якутск, Мирный, Магадан, Петропавловск-Камчатский. Потом на Ту-154 добавился еще десяток областных центров: Белгород, Омск, Петропавловск-Казахский, Караганда, Уральск, Новокузнецк, Запорожье, Днепропетровск, Краснодар, Анапа, Полярный, Чита, Иркутск… не упомнишь все наши тогдашние рейсы.
А сейчас из Перми в Красноярск приходится летать через Москву.
*****
Взлеты из красноярского аэропорта производились, в основном, с курсом 222, на город. Причем, сразу за торцом полосы начинался одноэтажный район Покровка, частный сектор, со знаменитой в те времена барахолкой. Местность за полосой плавно повышалась, и взлетающие лайнеры проходили низко над жилыми домами, казалось, аж шифер на крышах шевелился; говорят, в том направлении и коровы не доились, и куры не неслись. Народ-то, живущий в этом цыганском районе, привык, а вот постороннему человеку, заехавшему на рынок и внезапно попавшему под линию взлета, приходилось несладко; иные с перепугу аж приседали, а может, и того хуже…
Махнув крылом знаменитой часовне на обрыве, той, которая изображена на известной российской десятирублевке, четырехмоторный лайнер повисал над ямой города, убирая закрылки аккурат над соседствующими друг с другом зданиями управления гражданской авиации и крайкома партии. Ну, управленцам, в основном, бывшим и действующим летчикам, к гулу над головой не привыкать, а вот партейным боссам оно резало слух; ну и опаска была: а вдруг сверзится на голову… Да и взлетная полоска в две с небольшим тыщи метров была уже маловата, а здания обступали аэропорт со всех сторон, и огромное пустое поле соблазняло расширяющийся город к застройке. Видимо, поэтому было принято решение строить новый, современный аэропорт за городом. Мы еще, помнится, ездили в лес, помогали растаскивать срубленные ветки на огромной лесосеке.
Говорят, перепробовали тринадцать мест под новый аэропорт, да все не удавалось окончательно согласовать их с Красной Армией: вокруг индустриального центра было натыкано в тайге пусковых площадок ракет ПВО, и никак нельзя было подобрать оптимальную схему полетов так, чтобы и «сапогов», и «пинжаков» устраивало.
Видимо, из этих соображений место для аэропорта было выбрано далековато от города, а главное, залегание двух его параллельных ВПП, оказалось не в розе господствующих ветров. Курс 222 в старом аэропорту при прохождении атмосферных фронтов идеально соответствовал максимальным ветрам, а вот 289 градусов в аэропорту Емельяново – явный перебор к северу. И теперь фронтальные ветра дуют там аккурат под 45 градусов, да еще через гриву, лежащую рядом с полосой; так что помимо бокового ветра приходится вкушать еще и радости орографической болтанки.
Но пока до ввода в действие нового таежного аэропорта было еще далеко. А старый аэропорт, находясь в черте города, был удобен тем, что на работу добираться было без проблем, троллейбусом прямо к аэровокзалу; а после тягомотного ночного полета, если уж совсем засасывало, – хватай такси, два рубля… и всего через час после посадки ты уже остограммился и – в постель.
Позже, стоя в бесконечных очередях на автобус в новом порту, смертельно уставшие, мы с тоской вспоминали эти времена – именно как золотой век. Такого удобства работы, пожалуй, нигде уже нет… и не будет. Аэропорты располагаются далеко и очень далеко от жилья, и уставшим летчикам и бортпроводникам не позавидуешь. Не говоря уже о тех, кто вынужден добираться на свою летную работу из других городов, – и такие среди нашего брата есть, и немало.
*****
Нравственные ценности во второй половине 20 века оставались теми же, что и во второй половине 19-го. Поэтому сидение в Москве или Ленинграде зимой по двое суток использовалось не только для кросса по Большому Собачьему кольцу (ГУМ-ЦУМ-Детский Мир). Нередко экипажами ходили по музеям. Простаивали у картин великих мастеров, в раздумьях о высоком. Нищеты, матери всех пороков человечества, летчики не знали, поэтому могли себе позволить созерцание Черного квадрата (ну, его точной копии). Лично я, в невежестве своем, проходил мимо него с легким сердцем, зато в зале Крамского или Саврасова мог простаивать часами.
В Русском музее потрясала «Волна» Айвазовского. Вообще, реализм, как мне кажется, более близок душе летчика, соприкасающегося с природой без всяких экивоков и реминисценций, непосредственно и жестко. Может, поэтому я недолюбливаю разговаривающих полунамеками людей – они подобны коварному сдвигу ветра.
Картины Рериха заставляли задуматься над глубиной бытия. Хотя мы и были избалованы видами прекрасной нашей матушки-Земли, но скоротечность летного процесса возбуждала только желание осмыслить увиденное… было бы свободное время. Не знаю, как кто, а я из музея выходил каким-то просветленным. Там – думалось. И потом, в полете, в долгом, вязком, бесконечном полете, эти мысли додумывались и дозревали. И снова и снова тянуло меня всмотреться в любимые картины.
Спросите нынешнего, по горло занятого столичного жителя, когда он последний раз бывал в музее. А я побывал там десятки раз. Тянуло к настоящему. И было свободное время.
Из Киева я мог позволить себе поездку в Канев, к могиле Тараса Шевченко. В Крыму мог окунуться в атмосферу произведений Грина. Во Львове ходил на «Фауста» в знаменитый, великолепный оперный театр.
А в Одессе – на Привоз. И в том же Львове у проклятых спекулянтов и фарцовщиков покупал заморские дешевые часы с музыкой – три доллара ведро. Жизнь шла своим чередом и позволяла укладывать в душе рядом сиюминутное и вечное.
Но где бы я ни был, всегда находил возможность соприкоснуться с лучшими произведениями труда человеческого, с памятниками созидания, с жертвенностью Художника, которому не дано видеть лица благодарных потомков, но велено творить для них на века.
Так складывалось мое реалистическое, созидательное мировоззрение.
*****
– Так. Меня Лехой зовут. А ты, значит, Василий? Ну, залезай на свое левое кресло. И запомни: у меня в экипаже – с чьей стороны солнце, тот и пан. Тот и спит. У тебя дача есть?
Это мой инструктор, Алексей Сергеевич Цыганенко, он вводит меня в строй командиром. Из двух интересов его жизни – полетов и дачи – второй с возрастом начинает явно преобладать. Он на даче живет, с нее ездит на работу, туда же возвращается по страшно раздолбанной, полуглинистой-полугравийной дороге с вкраплениями бетонных плит. Разговоры у него тоже, в основном, о дачных проблемах, он дышит ими; что касается обучения стажера нюансам принятия решений и собственно пилотирования с левого кресла, это отдано на откуп экипажу. Тем более, от Шевеля он наслышан обо мне и вполне убежден, что основную школу я в том экипаже уже получил.
Школа командира Ил-18 Александра Федоровича Шевеля, и правда, запомнилась, особенно тем, что он постоянно держал второго пилота в легком напряжении и мог выкинуть фокус на любом участке полета. Например, на разбеге, после команд «Рубеж» и «Продолжаем взлет» он мог внезапно бросить штурвал с воплем: «Бери управление, я умер!» – и я вынужден был взмокшими ладонями крепко сжимать рога и по команде штурмана «Подъем, отрыв, безопасная» производить необходимые операции… и попробуй ошибись. Поневоле приходилось быть все время в контуре полета, или как сейчас принято говорить, «в теме».
На снижении Шевель заставлял меня считать изменяющиеся параметры параллельно со штурманом и постоянно вежливо-ядовитым тоном долбил и долбил азбучные истины. Например, если ты отстал от выполнения команды на пять секунд, то надо сначала увеличить темп снижения, потом убежать на пять фюзеляжей вперед, оценить все условия и обстановку, и когда кажется, что догнал, еще увеличить темп и еще раз подумать и просчитать… и только-только дай бог успеть догнать траекторию.
– Вот видишь, у меня триста восемнадцатый волосок на лысине седой? Это потому, что я попадал в ситуации, и жизнь заставляла считать, считать, считать… Волосы от напряжения все выпали, а вот этот, триста восемнадцатый, закаленный, – он доставал из кармана расческу, совершенно бесполезную, и оглаживал блестящий череп, – этот выжил, остался. Считай, считай и действуй… и у тебя потом выпадут, не сомневайся. Да снижайся же! Не успеваем, сэр! Не будете ли вы так любезны … твою мать! Внутренним ноль!
У Цыганенко все было проще. Командир подремывал… ага, знаю я теперь, как оно подремывается… одним глазом и одним ухом все время на взводе… – а меня в два смычка драли штурман с бортмехаником; иногда подключался и бортрадист. Ведь им, экипажу, предстояло пережить вместе со мной первые мои капитанские двести часов самостоятельного налета… а жить-то хочется… Тем более что я в экипаже был самый молодой и, естественно, относился к указаниям и тычкам экипажа с должным возрастным пиететом. Да и особых поводов к вставанию волос дыбом я экипажу не давал. Речь шла о нюансах красноярской школы, с усвоением которых на моих крылышках вырастали и крепли все новые и новые перья.
Штурман, Александр Николаевич Афанасьев, которого в экипаже звали не иначе как «старЫй», был прекрасный специалист, но отличался ворчливостью, и в полетах, и по жизни. Он не прощал ошибок стажерам, а свои промахи, которых не бывает только у тех, кто не работает, переживал, каменея лицом, молча и долго, потом с сердцем матерился и махал рукой:
– Ну, мудак старЫй! Учили тебя, учили…
Это и было-то всего раз, когда ветер на снижении столь внезапно и резко развернулся на 180 и так нас подхватил, что, даже установив «внутренним ноль», мы не успели потерять высоту для захода с прямой, и пришлось крутить позорный «чемодан» через привод. А как раз меня проверял замкомэски, тоже старый волк, и он от позора чуть не лупил в спину бедного штурмана, а тот мотал головой и все ругал, все порол себя… Хотя все мы понимали, что вина наша в одном: в стремлении сделать снижение на пределах… и не получилось, запаса по расстоянию не было. А постоянно летать с запасом – некрасиво же: потом подтягивать придется в горизонте.
Замкомэски, Михаил Ефимович Сухов, сгоряча высказавши свое «фэ»… понял нас. Ну… бывает. И не стал читать мораль, что, мол, лучше всегда снижаться пораньше и с запасцем. Он понимал красоту полета на острие и знал пользу этого навыка в практической работе.
Александру Николаевичу понравилось, что молодой командир-стажер не только надеется на штурмана, но и сам в уме постоянно считает и прикидывает – пусть пока хуже и медленнее, чем он, старый профи, – но все же стажер, оказывается, думающий, а это вселяет надежду. И дранье за нюансы продолжалось. Школа заключалась в том, чтобы из хорошего выжать лучшее, а из лучшего, даст бог, отшлифуется истинное, драгоценное мастерство.