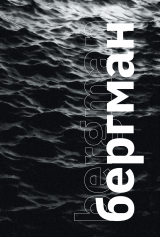
Текст книги "Бергман"
Автор книги: Василий Степанов
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 2 страниц)
Бергман
© 2018, Мастерская «Сеанс»
Бергман в зеркале
Защита Бергмана
Ирина Рубанова
Среди многих человеческих странностей Бергмана на одном из первых мест стоят его взаимоотношения с критикой. Ни один отечественный кинематографист прошлого, настоящего и, не станем сомневаться, будущего не обнаруживал ничего хотя бы отдаленно напоминающего реакцию шведского режиссера на то, что о нем писалось на его родине. Но и отечественным критикам никогда не приходилось тягаться с партнером (объектом, материалом или, может быть, по Достоевскому, «жертвочкой») столь воинственного постоянства в отражении атак, готовности вмешиваться в рецензентские схватки; с партнером, долгие и долгие годы не устающим заниматься странной, но и внушительной по объему работой, которую затруднительно определить в пределах рутинного профессионального лексикона: то ли это стратегически рассчитанная антикритика, то ли предусматривающая дальний прицел система подсказок-наводок для газетчиков-обозревателей, а теперь уже и для армии исследователей и биографов. Словом, привычная для нас формула «критик пописывает – режиссер почитывает» в случае Ингмара Бергмана и его шведских оценщиков-интерпретаторов совершенно непригодна. Как непригодно и другое клише, также в наших палестинах неплохо известное: критика терзает художника – художник защищается, огрызается, в иных случаях избирает нападение как лучший способ обороны. В связке «Бергман—критики» последние свободны в выборе действий, а первый отнюдь не всегда. Тут следует кое о чем предупредить. Как кинематографист и театральный режиссер Бергман уже некоторое время существует в модусе фигуры мифологической. При этом различаются две одноименные мифологемы: Бергман в глазах соотечественников и Бергман для внешнего мира. Для внешнего мира он и есть Швеция – страна глухого Бога, всеобщей разобщенности и сексуальной свободы. Неважно, что бергмановские фильмы рассказывали и о чем-то другом. Миф есть миф.
Национальный миф Бергмана значительно моложе континентального и мирового. Режиссер стал на родине объектом коллективного бессознательного после нескольких разноприродных событий. Сначала был оглушительный успех телевизионного сериала «Сцены из супружеской жизни», на волне которого нация дружно проглотила следующий многосерийный, но не слишком удачный его телефильм «Лицом к лицу». Налоговый скандал 1976 года, сопровождавшийся хорошо организованной оглаской, прочно закрепил имя Бергмана в народной подкорке. Миф творческого успеха, окрасившийся в криминальные тона, заработал на бешеных оборотах. На скандал и огласку режиссер ответил демонстративным отъездом в эмиграцию, а свое возвращение отметил премьерой «Фанни и Александра», для начала в пятичасовом телевизионном варианте. Строптивый избранник вернулся в лоно нации триумфатором: колоссальный художественный и коммерческий успех фильма о старой доброй Швеции, охапка «Оскаров», три из которых присуждены вопреки регламенту Американской киноакадемии, признание солидных титулов и наград во всем мире и… публичный отказ от кинорежиссуры. Шведскому jedermann’y показали, кому он улюлюкал в спину.
По сравнению с мировым местный миф Бергмана менее структурирован и имеет немного другие соотнесения. Высказывания случайных людей, приведенные на страницах журнала «Сеанс» № 13, говорят о том, что шведы не видят в нем своего портретиста. Похоже, что для них он украшение обращенной вовне витрины страны, культурная симметрия ее техническому хиту – автомобилю Volvo. И не более того. В качестве мифологемы Бергман, как и главный персонаж любой другой легенды, лишен голоса. Ни оспорить, ни возразить своему мифу он не в состоянии: он его добыча. В этом своем бесправии он также уравнен с Volvo.
Прекратив делать фильмы, Бергман перестал быть объектом текущей кинокритики. На поле битвы остались театральные рецензенты. К ним постепенно и несмело подтягиваются литературные критики, чьи предшественники некогда осуществили победоносный блицкриг: категорически не пустили его в литературу. Здесь напрашивается еще одно предуведомление.
С театральными обозревателями у режиссера исторически сложились не то что более мирные, но более содержательные отношения. Классовый мир с пишущей братией для Бергмана, кажется, вообще был исключен. Его связывали близкие контакты, случались даже дружбы с отдельными представителями цеха, преимущественно, повторим, театральной специализации. На протяжении долгого времени его сопровождало несколько эккерманов: театровед Хенрик Шегрен, кинокритик Лассе Бергстрем, режиссер и критик Вильгот Шеман. «Дневник с Ингмаром Бергманом» стал как бы обиходным крупным жанром кино– и театральной бергманистики. Случилась в его жизни и судьбоносная дружба с носителем горчичного семени. В начале сороковых он сблизился с Хербертом Гревениусом: читал его рецензии на свои представления во влиятельной «Стокхольмс-Тиднинген», вместе с ним написал несколько сценариев, по которым снял первые картины. Гревениус и молодой Бергман составляли не просто образцовый тандем, на примере которого можно было демонстрировать продуктивные отношения опытного эксперта и начинающего художника. В самом деле, критик угадал в Бергмане талант еще тогда, когда тот метался по любительским коллективам и из всех своих позже проявившихся дарований обнаруживал только выдающиеся организационные способности. Провиденциальная роль этого человека в судьбе режиссера, его заслуга перед мировым искусством состоит в том, что, доверившись профессиональному чутью, он рискнул рекомендовать безвестного активиста молодежной самодеятельности на должность директора одного из трех (всегда только трех!) действовавших в стране муниципальных театров. Бергман получил эту должность в 1944 году. С этого все и пошло. Однако помимо сюжетов буколических история взаимоотношений Бергмана с критикой имеет и брутальные вкрапления.
В фабулах некоторых из них в роли главного действующего лица с трудом видится создатель «Седьмой печати», «Причастия» или «Персоны». Между тем некоторое время назад он способен был форменным образом отвалтузить обидчика. Так, однажды во время прогона с публикой «Войцека» (в 1969 году) взашей вытолкал из зала обозревателя одной из двух самых высокотиражных газет и даже немного его побил. Пострадавший подал в суд, тот приговорил ответчика к солидному штрафу. Бергман долго потом гордился этим приговором и объяснял приступ драчливости тем, что в злополучной статье содержались выпады против самых ранимых и незащищенных участников театрального дела – актеров. Из заметки в «Дагенс нюхетер» ясно видно, что критик метил не только в них: открытые репетиции драмы Бюхнера, которые Бергман предложил исполнителям и интересующейся публике, названы в газете неуклюжим трюком, смахивающим на показательные уроки цирковой дрессуры. Однако же велик соблазн заметить, что Бенгт Янсон, жертва бергмановской вспыльчивости, в самом деле оконфузился, когда написал, будто затея Бергмана – вздор и авторитарное штукарство. Потому что вскоре едва ли не весь мировой театр ринулся окончательно сносить не только четвертую стену и кулисы, но и уничтожать ту укромность, в которой создается сценическое произведение. Постмодернизм уже маячил на горизонте.
Существуют два типовых способа поведения пишущих об искусстве по отношению к особо обидчивым знаменитым творцам.
Один известен по домашней реляции «Критика и Никита Михалков» и может быть назван «Наука для невосторгающихся». Постановщик «Неоконченной пьесы» и «Пяти вечеров» после глухой встречи в России фильма «Очи черные» накладывает мораторий на все контакты с прессой. Вплоть до непредъявления ей (а через нее и остальным современникам) своих работ до момента, когда измученные его суровостью эксперты – один за другим – падут ниц и в этой позиции затянут более или менее дружную аллилуйю.
В этом отношении Бергман, напротив, являет собой пример «побежденного». Его ранимость, его открытое, почти постоянное несогласие с тем, что о нем пишется в газетах и журналах, страшно раззадоривали рецензентов. Воспоминание надежной свидетельницы о Бергмане, плачущем в собрании стокгольмских критиков, производит разве что не фуриозное впечатление. А если это сопоставить со строчками из письма режиссера к англичанину Питеру Коуи, напечатанными на обложке написанной им биографии Бергмана, то эффект получится и вовсе душераздирающим: «Я действительно нахожусь под впечатлением от этой прекрасной книги <…> в ней я нашел понимание, интеллигентность и человеческое тепло».
Можно было бы и дальше сличать поучительные действия Михалкова и довольно неуклюжие жесты Берг-мана, но старая тема пророка в своем отечестве давно разобрана (правда, все еще в первом чтении), равно как и технология заселения того мистического пространства, которое у нас почему-то продолжает значиться как «свято место».
В части драмы под названием «Бергман и критика» не обойтись без констатации: едва узнав его фильмы, европейская критика сразу и высоко оценила его дар, его индивидуальность и характер его участия в мировом кинематографическом процессе. О советских искусствоведах особый разговор. И разве что одни феминистки в семидесятые годы предпринимали разрозненные атаки со своими стандартными претензиями. (Среди безымянных амазонок, однако, случилась Сьюзен Сонтаг и появился текст, который не был ни толкованием фильма, ни его оценкой, но философическим эссе, первоначальный импульс которому сообщила «Персона».) Уже в 1947 году, посмотрев полудебютантский «Корабль в Индию», сам Андре Базен написал в «Экран франсэ» о том, что молодой Бергман способен создавать «мир, ослепительно чистый кинематографически». Дальше – больше. К тому моменту, когда шведы признали в Бергмане первого человека национального театра и кино, в Европе – по-французски и по-английски – уже были изданы его сценарии и монографии о его творчестве. Однако, судя по всему, к мировой осанне Бергман был относительно равнодушен. В беседе с авторами книги «Бергман о Бергмане» он так, например, высказался по поводу «Бергманорамы» Жана-Люка Годара, одного из самых глубоких и проницательных текстов о его кинематографе: «Он пишет тут о самом себе». В другом месте Бергман признается, что мало интересуется выкладками и концепциями своих толкователей: «Я никогда не вступаю по этому поводу в переписку». Приведенная выше выдержка из письма Коуи – то ли исключение, то ли продолжение давних отношений. Но одно критическое замечание, на первый взгляд как будто бы самоочевидное, стало толчком к определенной творческой переориентации.
Некий французский обозреватель в похвальном отклике на парижскую премьеру «Осенней сонаты» констатировал: «Бергман и в самом деле сделал бергмановский фильм». То, что для рецензента представлялось достоинством, формулой высшего качества, для автора «Осенней сонаты» было приговором: «Настало время, – читаем в „Образах“, – посмотреть на себя в зеркало и спросить: что же происходит, неужели Бергман начал делать берг-мановские фильмы?» Там же с завистью: «А вот Куросава не создал ни одной картины под Куросаву». И Бергман рванул от Бергмана: после «Сонаты» он принялся за «Фанни и Александра».
Что бы ни говорил Бергман о своих злоключениях с критикой, главным образом, конечно шведской, он, безусловно, всегда хотел быть ею понятым. Как и многое другое, эта потребность иногда приобретала у него клинические формы. Страх перед прессой мог привести к повышению температуры, обострению язвы, бешеному сердцебиению. «У меня такое чувство, что меня отодвинули в сторону. Что вокруг меня установилась вежливая тишина. Трудно дышать. Как я смогу продолжать работать?» Хотелось бы представить себе кого-нибудь из видных сооте-
чественников, кто, постоянно споря с критиками, столь напряженно ожидал бы газетные отклики на свои премьеры. Но – человек театра – Бергман прекрасно знал, что спектакль живет, только когда у него есть рецензенты и зрители. В нормальной культурной среде кино ничем не отличается от театра в этом смысле. Если бы фабула взаимоотношений Бергмана строилась только по архетипической модели, описанной в известной басне Крылова, если бы некомпетентная критика подвергала его многолетней травле ради самой травли, если бы компетентная критика стойко защищала его от нападок или разъясняла непросвещенным массам смысл и достоинства его произведений, «случай Бергмана» мало чем отличался бы от варианта, скажем, Пазолини, Вайды или другого крупного «нельстивого» художника. Страхи, истерики, разочарования шведского мастера имеют, как кажется, совершенно иное происхождение. Отвлекаясь от бурной реакции на отдельные наскоки, на грубость и высокомерие профессиональных экспертов, можно утверждать, что Бергман никогда не соглашался быть поставщиком сырья для различных концепций – социологических, философских, религиозных, эстетических. Начиная с первых работ, он (как истинный романтик) защищал содержательную и художественную суверенность каждого своего произведения. Как только оно подвергалось типологизации, жесткой (или мягкой) обработке инструментарием какой-либо аналитической технологии – Бергман взрывался протестами, заходился в потоке инвектив или, напротив, впадал в глухое отчаяние. И было от чего.
Нет в истории киноискусства художника, опутанного большим количеством интерпретаций. Американская бергманистка Биргитта Стене создала «Комментированный путеводитель по Бергману», чтобы интересующиеся не заблудились в теориях, схемах, концепциях и классификациях тем, образов, мотивов, влияний. Но век толкований короток, а ars, как известно, longa. «Большое время» (термин Михаила Бахтина) картин Бергмана возможно, как замечает Вим Вендерс в юбилейном номере журнала «Чаплин», лишь при условии, что его фильмам удастся «освободиться от всех критических объяснений, от всего балласта их интерпретаций, чтобы они могли светить на далекое расстояние».
В 1960 году, когда поднялась первая антибергмановская волна (их было еще как минимум две), в том же журнале появился текст, подписанный никому не известным Эрнестом Риффе. В названии текста чувствовался вызов: «Лицо Бергмана?» То есть сразу была заявлена претензия на обобщенный характер статьи, а вопрос, напоминавший типовые заголовки сенсаций с первых полос газет, придавал сочинению дополнительную воинственность. Начиналась статья соответствующе: «Ингмар Бергман обманул наше доверие». Далее излагались наиболее частые претензии к его произведениям: неискренность, пессимистический взгляд на мир, холодный эстетизм, «отсутствие чувства социальной ответственности», утомительная повторяемость одних и тех же тем и мотивов, неравноценность бергмановских кинематографических и театральных работ (театральные лучше). Но один упрек цеплял внимание.
Сердитый Риффе выражал полное презрение к литературным амбициям Бергмана: «На родине его никто не признает как писателя, и он, конечно же, страдает от пренебрежительного отношения со стороны своих коллег по перу». К тому моменту, когда был создан сей компендиум главных грехов Бергмана, мало кто помнил, что начинал он как литератор. Еще меньше было посвященных в его переживания из-за отсутствия признания в качестве прозаика и драматурга. Эрнест Риффе заинтриговал, но и проговорился. Возможно, намеренно. «Лицо Бергмана?» оценили как литературную мистификацию: по сей день считается, что обвинитель и обвиняемый здесь – одно и то же лицо. Бергман как не подтвердил, так и не опроверг этого предположения. (Анекдот анекдотом, но когда в 1986 году вышел в свет солидный том «Бергман и кинокритики. Ежедневная стокгольмская пресса о фильмах Ингмара Бергмана», собранный сотрудниками Института театра и кино в Стокгольме, оказалось, что Риффе довольно корректно изложил распространенные претензии к режиссеру.)
Похоже, что свою полувековую жизнь в режиссуре он прожил с идеальной верой в критика как сотрудника, как участника общей творческой инициативы – наравне с актерами, художниками, операторами. С тем, однако, распределением ролей, в котором актеры и оператор представляют автора, а критик – зрителя. Эта чаемая пастораль не поддается воплощению в жизнь. Не надо быть Бергманом, чтобы обладать априорным знанием об этом. Тем не менее (да не покажется это кощунственным) он прожил свою жизнь – взыскуя понимания с той же надеждой, с какой в молодости ждал Божьего ответа.
1996
Бергман и Кьеркегор: дерзость отчаянья
Елизавета Звягина
Все они останутся в памяти, но каждый будет велик относительно своего ожидания. Один стал велик через ожидание возможного, другой – через ожидание вечного, но тот, кто ожидал невозможного, стал самым великим из всех.
Сёрен Кьеркегор
Север мира – место, где издавна селились великаны. Они громоздили одну чудовищную глыбу на другую, строя жилища. Они заплывали далеко в океан, где били китов и тюленей. От их дикого смеха лавины сходили с гор. От злых дел нестерпимый холод сковывал землю. Великаны воевали с богами, жестоко мстя за обиду, не смиряясь перед угрозой. Что им боги? На Севере боги смертны, как все живое. На склоне обманного лета жизни грядет великанская зима, когда перед гибелью мира три года будут длиться холод и мрак, солнце не проглянет сквозь тучи. Вражда и порок пожрут человечьи души. И мир падет, расколется на части. Огромные руки великанов сомнут и раздерут его. Боги умрут. Что властно победить смерть и страх смерти? Чем одолеть дрожь плоти? Мир Эдды Старшей недобр к слабому, сильного же учит мужеству.
В XX веке Европа оборотилась лицом к Северу. Духовную экспансию скандинавской культуры можно уподобить завоеваниям викингов тысячелетней давности, когда Европа тоже поневоле стояла лицом к северному ветру и – глаза в глаза – встречала те разрушения и силу, что нес ей варварский мир.
Иначе обстояло дело полтораста лет назад. Произведения Сёрена Кьеркегора не привлекли внимания современников: в XIX веке от скандинавов не ждали философских истин. Между тем с 1920-х годов экзистенциальная философия, отцом которой сегодня почитают датского затворника, завладела не только умами теоретиков, но и воображением художников, очарованных прямой постановкой предельных вопросов человеческого бытия.
Отрок вожделеет женщину: рыжая хромая нянька соблазнила его поцелуями. Он переносит недетский ужас у смертного одра отца. Сердце его переполняет ненависть: Александр восстает против деспота-отчима и сокрушает его силой проклятия. Безмерная обольстительная жизнь вовлекла его в борьбу, непосильную для взрослого. Нет преграды между главным героем «Фанни и Александр» и жизнью: он видит ее всю, не наученный отличать существенное от никчемного, вечное от конечного. Он более не полезет под стол, спасаясь от старших: мальчик постиг, что взрослые слабее. Они подвластны рассудку.
Заглавный тезис экзистенциальной философии: истиной нельзя овладеть, ее можно лишь пережить. Бытийная истина не допускает прямого воплощения в законченной теории, не дается в руки, за ней надо гнаться, не останавливаясь, сметая на пути добросовестные конструкции великих теоретиков; здесь, как в Зазеркалье, приходится сломя голову бежать, чтобы остаться на прежнем месте – ибо мир движется. Обрести равновесие в нем – дело нешуточное, и это равновесие движения, не покоя. Помедлишь – собьет с ног, вмерзнешь в лед… перейдешь в неорганику, словом, умрешь. Ведь ты – это твоя душа, то живое, чему покой заказан.
Человек смертен. Достигает ли его жизнь достойного, возвышенного конца или бестолково обрывается, переход «отсюда – туда» нелегок, даже если движение длится, когда пульс уже замер. Смерть как немыслимое, непомышляемое, несоразмерное жизни событие – излюбленная тема ранних фильмов Ингмара Бергмана, человека, чья любовь к жизни неиссякаема. Он создал саги о бесстрашных, помысливших смерть. Саги о трусах, не смеющих позабыть то, что она царит в мире и ведет счет победам. Его фильмы – истории странствий вдоль берега смерти. Кто-то разбился о скалы; другого уносит к блистающему горизонту, но все морские пути ведут к суше… Экзистенциальная философия, чье влияние на режиссера несомненно, карнавально перевернула древнейшую мифологию, поменяв местами определения жизни и смерти: земной путь человека уже не мыслится как тропа, и конец его – как бездна; подвижная стихия экзистенции подобна водному простору, океану, а умирание – прибытию в гавань, вступлению на твердь. Недаром героев «Седьмой печати» гибель настигает в замке, бывшем целью их одиссеи, а в живых остаются лишь бродяги-актеры, чей корабль на колесах не ищет пристани. В фильме «Молчание» конфликт между жизнью и смертью принимает вид противостояния двух сестер. Младшая – безжалостна и не желает ничего знать о смерти; старшая – с безнадежной завистью следит за ее мгновенными триумфами. Анна только день остается в городке с угасающей сестрой, зрелище болезни ей ненавистно, и она бросает спутницу в тихом, как склеп, дорогом отеле. Эстер, смирившуюся со своей участью, огромная пустующая гостиница принимает, как покойная гавань – разбитый корабль. Жизнь, подобно волне, уносится прочь, смерть, как скала, остается на месте.
Что заставляет режиссера столь пристальное внимание уделять самой печальной из тем? Страх? Воистину, не всякий столь силен, чтобы осмелиться бояться. Куда безопасней отвернуться и забыть. Ведь прямой взгляд на то ужасное, с чем примириться невозможно, ведет к одной из худших бед: отчаянию. А что есть отчаяние, как не поражение? И все же в отчаянии всегда мерещилась людям необъяснимая мощь. Подлинно отчаявшийся не подвержен слабости, неуязвим. Отчаявшийся сверх меры подобен великану Севера: он победил свою боль тем, что навеки принял ее. Есть и иной род отчаяния, описанный Кьеркегором, отчаяния освобождающего, а не умертвляющего.
Люди разрушают себя самодовольством. Они слишком сыты собой. Мысль о страдании им претит. Люди попросту не способны ужаснуться по-настоящему, позабыли, что за развлекающими их «страшилками» стоит нечто реальное. Столетие назад Кьеркегор обрушился на их леность всеми средствами, доступными пылкому и умному человеку.
«Я хочу обратить внимание множеств на их собственную гибель. И если они не хотят по-хорошему, я их заставлю по-плохому».
Он исполнил угрозу, посвятив свою жизнь разработке тем, способных выбить человека из привычной колеи. Он писал о страхе, страдании, отчаянии. Протестовал против самоуверенного, фамильярного отношения к Богу. Он перечитал Библию и не нашел в ней оснований для душевного спокойствия. «Дружить» с Богом? «Жалеть» Бога? «Придумывать» Бога? Любая попытка объять божество интеллектом или чувственно к нему прилепиться воспринималась датским философом как святотатство. Отчаяние для Кьеркегора – это осознание человеком скудости, неполноты конечного бытия. Какую же дерзость надо иметь, чтобы достичь дна бездны, признать не имеющим цены все, чем только можешь овладеть сам, – и решиться просить милостыни у того, кто неизмеримо сильнее. А вдруг откажет? Ингмар Бергман осуществляет аналогичный ход, обличая позорную леность нашего сознания, правда, иными средствами. Бергман столь далек от дидактизма, сколь можно пожелать художнику. Вы никогда не услышите его за кадром. Он ставит те же вечные вопросы, но там, где у Кьеркегора вырывается вопль обнаженной страсти, Бергман молчит. Он предельно сдержан. Однако что мы получим, если очертим круг его тем?
Мир владеет человеком. Мир без объяснений насилует его чувства. Кто в силах заступиться, помочь, если даже безграничная нежность любящего сердца оказывается бессильной? Женщина – всего лишь Ева, плод радости и скорби в ее руке, но защитить от карающего гнева Хозяина Сада она не способна. В удел ей достаются муки любви, которая не спасает, безнадежной любви. Такова Катарина («Из жизни марионеток»): ее муж, утратив чувство принадлежности к живой стихии бытия, жаждет расцветить свои будни кровью любимой женщины. Земная любовь не уберегла его от усталости, охлаждения, «утечки» бытия – и ненависти. А Бог? Он слишком огромен, чтобы можно было обратиться к Нему простым человеческим голосом. Если око Его следит неусыпно за каждым – как вынести этот взор? Маленькая девочка исступленно плюет на подушку, где вышит глаз. Она сходит с ума от страха («Благословенные»).
Страшнее Бога – только его отсутствие. Почему оруженосец Йонс в «Седьмой печати» столь упорно пересыпает речь богохульствами? Все новые оскорбления Господу от частого повторения не теряют ни в силе, ни в смысле: для Йонса его песенки и спичи – не просто упражнение в остроумии; они подобны заклинаниям, это вызов – зов с надеждой на ответ, надеждой, превозмогающей безверие.
Небо Севера особенно холодно, когда пусто, – должно быть, потому скандинавы полны интереса к предельному страданию. Что еще может связать, спаять мир в единое целое, как не воля художника, следующего за трагическим героем?
А впрочем, нуждается ли в единстве художник XX века? Раздробленность бытия приятно будоражит фантазию. Какой запас душевного здоровья надо иметь, чтобы не распадаться на части каждую минуту… Кто теперь живописует порыв, освященный поражением? Неизбежным поражением! Ведь жанр высокой трагедии со времен античности предполагает столкновение смертного с божеством; лишь спор слабого со Всемогущим придает разыгранной истории безмерность и рождает в сердцах трепет, а катарсис одаривает блаженством примирения.
1996








