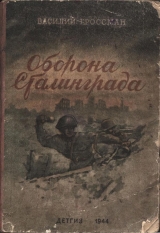
Текст книги "Оборона Сталинграда"
Автор книги: Василий Гроссман
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 5 страниц)
20 октября 1942 г.


ВЛАСОВ
Днем Волга пустынна, лишь темнеют силуэты потопленных у берега барж и пароходов. Ни лодки, ни дымка, ни натруженного дыхания буксира, ни рыбачьего серого паруса не увидишь и не услышишь на Волге. Темная вода бежит под облачным небом, холодом веет от нее. Низкий берег, поросший лесом, так же пустынен, как Волга. Но почему с такой яростью, с упорством взбесившегося быка немец уродует тысячами тяжелых снарядов и мин пустынную полоску берега? Почему с утра до заката солнца вьются над этой бедной полоской земли десятки немецких пикировщиков, с угрюмым бешенством бомбят кажущуюся пустой землю?
Здесь переправа. И едва сгущаются сумерки, из землянок, блиндажей, траншей, из тайных укрытий выходят люди, держащие переправу. Это по ним немцы в последние недели выпустили восемь тысяч мин и пять тысяч снарядов, это на них обрушилось за полторы недели пятьсот пятьдесят авиационных бомб. Земля на переправе вспахана злым железом, словно безумные кони, ведомые обезумевшим пахарем, дни и ночи коверкали, рвали, корежили огромными лемехами плуга бедный клочок прибрежной земли.
В сумерках появляется темный высокий силуэт негруженой баржи. Хозяйским хриплым баском покрикивает буксирный пароходик. Словно по чьему-то слову, чудесно оживает все вокруг: жужжат буксующие в песке грузовики, красноармейцы, покряхтывая, несут плоские ящики со снарядами, бутылками с горючей жидкостью, патроны, гранаты, хлеб, сухари, колбасу, пакеты пищевых концентратов. Баржа оседает все ниже и ниже. А немецкий огонь не прекращается ни на минуту. Но теперь он не прицельный, наблюдатели противника не видят, что происходит на берегу, не видят темной шири реки. Мины со свистом перелетают через Волгу, рвутся, освещая на миг красными вспышками деревья, холодный белый песок. Осколки, пронзительно голося, разлетаются вокруг, шуршат меж прибрежной лозы. Но никто не обращает на них внимания.
Погрузка идет стремительно, слаженная, великолепная своей будничностью. Под огнем немецких минометов и артиллерии люди работают, как работали всегда на Волге: тяжело и дружно.

Люди работают, как работали всегда на Волге: тяжело и дружно.
Их работа освещена пламенем горящего Сталинграда. Ракеты поднимаются над городом, и в их стеклянно-чистом свете меркнет мутное, дымное пламя пожаров. Тысяча триста метров волжской воды отделяют причалы лугового берега от Сталинграда. Не раз слышали бойцы понтонного батальона, как в короткой тишине над Волгой проносился приглушенный, кажущийся издали печальным звук человеческих голосов: «а-а-а…» – то поднимается в контратаку наша пехота.
Это протяжное «ура» пехоты, дерущейся в пылающем Сталинграде, этот вечный огонь, дымное дыхание которого доходило через широкую воду, придавали бойцам переправы силу творить свой суровый подвиг. Все они понимали значение своей работы.
Переправа питает сталинградские дивизии хлебом и снаряжением. Танки, полки пополнения – все идет через переправу. И переправа работает: идут к Сталинграду баржи, лодки, тральщики, моторные катеры. Работал до последнего времени штурмовой мостик, наведенный с острова на правый берег Волги. Его строили у берега. Стук сотен топоров и визг пил, режущих сосновые и еловые бревна, заглушали в людских сердцах тревогу, трудовой гул покрывал шум германских воздушных моторов, раскаты артиллерийской стрельбы. Люди за трое суток построили мост через Волгу – шестьдесят пять станов плотов с двумястами балками-поперечинами были скреплены цинковым тросом, прочными планками, покрыты тесом.
Мост завели верхним концом по течению, и вода стала заносить его на правый берег. Шесть человек внесли на мост пятнадцатипудовый якорь. И когда мост стал подходить к правому берегу, якорь спустили в воду. Штурмовой мостик лег через Волгу. Вероятно, из того количества металла, которое потратили немецкие летчики, артиллеристы и минометчики на разрушение этого штурмового мостика, сделанного из сосны и ели, можно было бы создать конструкцию огромного железного моста.
Бойцы понтонного батальона все почти ярославцы. Живут ярославцы на редкость дружно, большим братским землячеством.
Заместитель командира батальона по политической части Перминов, сам волгарь, человек с темно-красным от солнца и речного ветра лицом, находится на переправе с первого дня. Голос у него громкий, привыкший к команде, привыкший перекрикивать грохот рвущихся снарядов; он даже во время бесед говорит, словно команду отдает.
– Эх, люди у нас в батальоне, – говорит Перминов, – золото-люди! Гордятся: мы ярославцы. Недавно в газете статья была большая о Ярославле, так эту газету вконец зачитали, собрание устроили – обсуждали. Как петухи, гордятся: «Про наш Ярославль как пишут!» И вот удивительная вещь: ведь работа на переправе – горькое дело, последние дни авиация тучей над нами висит. Поверите ли, за один день насчитали мы тысячу восемьсот заходов! Глохнешь от этого воя и рева, а люди так любят свой батальон, так своей работой гордятся, что заикнитесь только об откомандировании человека – трагедия будет. Эвакуировали мы на-днях в тыл двух раненых красноармейцев: Волкова и Лукьянова. Особенно досталось Волкову: в шею ему осколок попал и лопатку рассекло. Проходит несколько дней. Зовут меня красноармейцы: Волков и Лукьянов явились! Я глазам своим не поверил: ведь тридцать километров то попутными машинами, то ползком добирались. И как-то трогательно до слез и зло берет: ведь удрали, черти, из госпиталя! Что с ними тут делать? Их ведь лечить надо, а под огнем, в земле сидя, какое лечение? Дождались ночи, посадили их на машину и обратно отправили в госпиталь. И они от обиды плакали, и у нас всех такое чувство было, словно мы нехорошее дело сделали. Да, народ привык к вечному огню, сам удивляешься.
Днем переправа не работает. Днем безлюден берег, пустынна Волга; темная вода бежит под облачным осенним небом – холодом веет от нее. Лишь изредка промчится среди бурунов пены, резко меняя курс, быстроходный моторный катер с мощным зисовским мотором. Гудит берег от бомбовых разрывов, летят в воздух тучи земли, дыма, желтая листва осенних деревьев. Зловеще свистят над водой мины, пущенные из тяжелых немецких минометов. С рассветом понтонный батальон отдыхает. Похрапывают в блиндажах и землянках бойцы под оглушительный рев немецкой авиации, с тупым бешенством корежущей землю.
– Как можно спать при такой бомбежке? – спрашиваю я бойцов.
– Да вот спим, – говорят понтонеры. – День не поспишь, второй не поспишь, а потом ляжешь. Да поустанешь как следует и все равно заснешь.
И здесь, на переправе, идет во время дневного отдыха обычная жизнь. Кухни, зарытые в землю, варят обед; русская печь, хитро и умело построенная в земле, печет пышный, легкий подовый хлеб, и пекари посмеиваются, гордятся своим отличным мастерством. Бойко работает подземная баня, и отчаянно парятся в ней, лупцуют себя вениками сорокалетние бойцы сталинградской переправы, пока вокруг них, совсем рядом, рвутся тяжелые бомбы немецких пикировщиков. При слабом свете, проникающем в блиндаж, пишут бойцы письма, не забывают послать поклон всей близкой и дальней родне, чтоб, не дай бог, не обидеть невниманием деда Ивана Дмитриевича или бабку Марию Семеновну. А о себе пишут в этих письмах сурово и кратко: «Живу хорошо. Пока жив».
И ничто не изменит справедливого отношения бойца к жизни.
Немцы неистовствуют над полосой волжского берега. Немецкие летчики разнесли прямым попаданием бомбы русскую печь, где пекся хлеб, но печь снова отстроили. Воздушной волной снесло трубу с бани, но снова дымит труба и парится в бане ярославец. В блиндаж заместителя командира батальона вбежал повар и одновременно веселым и злым голосом крикнул:
– Разрешите доложить: кухня во второй роте взлетела, вся чисто, вместе со щами. Двухсоткой, прямое попадание!
– Немедля варить второй обед в котле, – сказал Перминов.
Жизнь упряма, крепок наш человек – его не сломать всей силой немецкого огня. Но тяжело ему. Пусть никто не думает, что легко здесь воевать, что привычка к огню снимает тяжесть войны. Смерть идет рядом с жизнью, дороги их здесь слились. Недалеко от штаба – кладбище. Среди желтых опавших листьев стоят строгие холмики – могилы, простые дощатые памятники с фамилией, именем, датой смерти.
Когда-нибудь здесь будет стоять суровый и темный гранитный обелиск, памятник героям сталинградской переправы. И люди прочтут на нем имена двадцати восьми бойцов-ярославцев, прочтут имя комбата Смеречинского, основателя переправы, прочтут имя его преемника – чеченца капитана Езаева, прочтут о Шоломе Аксельроде, командире технического взвода, убитом миной при наведении переправы. И людям расскажут, как в темные ночи, как при свете полной луны, когда Волга горела синим огнем, молча стоял у раскрытой могилы батальон, какую речь говорил бойцам Перминов и как сурово гремел в холодном осеннем воздухе салют.
Часто бывает, что один человек воплощает в себе все особенные черты большого дела, большой работы. И, конечно, именно сержант Власов – великий труженик мирных времен, шестилетним мальчиком пошедший за бороной, отец шестерых старательных, небалованых ребят, человек, бывший первым бригадиром в колхозе и хранителем колхозной казны, – и есть – выразитель суровой и будничной героичности сталинградской переправы.
Власов – человек долга. В колхозе народ в его бригаде покряхтывал иногда: очень уж суров был этот никогда не улыбающийся темнолицый человек с карими, тяжело и яростно глядящими глазами. Дома ребята побаивались отца, бывал он строгонек с ними, и даже старший сын, служащий теперь в гвардии, робел, когда Павел Власов говорил ему: «Алексашка, гляди у меня! Я не баловал в жизни, не вильнул ни разу, и ты не балуй!»
Власов был колхозным казначеем, на руках у него хранились большие тысячи. Когда колхоз сплавлял лес по Волге, Власова избрали главным бригадиром на плотах – уж больно хорошо знали его плотовщики. Получив извещение из военкомата, Власов пошел в правление, сдал все деньги до копейки, отчитался в своей бригадирской работе, простился со стариками и сказал уходя: «Работал я честно, в колхозе не последним был, а убьют на войне – за мной долгов не останется, во всем отчитался». Дома он простился с семьей просто и сурово, словно уходил в поле или лес заготовлять, велел детям слушаться мать, писать, как справляются с работой.
Провожали его родные без водки, без песен – Власов не пил вина. Взял он в мешок смену белья, стираных портянок, хлеба, десяток луковиц, соли и пошел в ночь, высокий, прямой, с плотно сжатыми губами, пошел, не оглянувшись на родную деревню, – человек могучей души, ни разу не слукавивший перед народом и самим собой, жестоко и неистово требовательный к другим и к себе.
И вот сержант Власов строит штурмовой мостик от острова к заводскому берегу. Трое суток, семьдесят пять часов, не спал он, не ел щей, лишь торопливо во время короткой передышки съедал ломоть хлеба, запивал его несколькими глотками волжской воды и вновь брался за топор. В этой исступленной жестокой работе узнали Власова бойцы его отделения, товарищи по походам и боевым трудам, живущие с ним в одном блиндаже: Мальков, Лукьянов, Новожилов, узнали все бойцы понтонного батальона, научились любить и уважать суровую, железную силу его. Не только любить, но и бояться ее.
Здесь, на волжской переправе, во всю высоту распрямилась фигура Власова. В долгие осенние ночи, глядя на сумрачные лица бойцов, переправляющихся через Волгу, на тяжелые танки и пушки, поблескивающие в свете горящих нефтехранилищ, глядя на сотни раненых в рыжих от пропитавшей их крови, изодранных осколками шинелях, прислушиваясь к мрачному вою германских мин и к далекому протяжному «ура» нашей пехоты, поднимающейся на контратаки, думал Власов одну тяжелую, большую думу.
Вся сила его духа обратилась к одной цели: держать переправу нашего войска. Это дело было свято. Это дело стало единственной целью, смыслом его жизни. И всякий человек, мешавший работе переправы, становился для Власова смертным врагом, будь он хоть сын ему, хоть брат.
Был такой случай. Немец разбил пристань на правом берегу. Власову с его отделением приказали на быстроходном моторном катере переправиться через Волгу, исправить причал. День был ясный, светлый, и немец, едва увидев катер, открыл огонь – вода вскипала от частых разрывов. Шофер-моторист Ковальчук изменил курс, причалил к острову и сказал:
– Вылезайте. На тот берег не пойду, мне жизнь дороже разных там причалов.
Как только не просил, не уговаривал его Власов!
– Вылазь к чертям собачьим! – кричал Ковальчук.– Я на переправе работать не буду. Лучше в плен попасть, чем здесь работать.
Власов рассказал мне об этом случае тяжелыми, медленными словами. Вот дословно его рассказ:
– Знал бы я мотор, я бы его живо спéшил… Весь день мы по острову, как зайцы, бегали. А обратно нас лодки с острова тоже не везут: «дезертиры вы», говорят. Пришлось хитрость делать – перевязали себя бинтами. Змеев, тот ногу подвязал, палку в руки взял. Перевезли под видом раненых. Такого со мной в жизни не было. Никогда я в жизни не хитрил. А переправа полночи не работала. Вот оно что… Через несколько дней выстроили батальон, вывели этого. Прочел Перминов приговор, сказал слово про кровь сотен и тысяч бойцов. Стал этот проситься, плакал. Да какая тут жалость! Будь моя воля – я б его без приговора растерзал. Целый день, как заяц, бегал…
Темное лицо Власова спокойно и неподвижно, яркие карие глаза его смотрят прямо на меня, впалые щеки и упрямый рот придают всему облику его выражение скорбное и суровое. В нем, в этом сорокадвухлетнем человеке, отце шестерых детей, человеке великого и тяжкого трудового долга, словно воплотилась гневная сила нашего народа…
– Потом Перминов сказал: «Кто хочет привести приговор в исполнение?» Я вышел из строя, взял у товарища винтовку и пристрелил того. Какая тут жалость!
И вот сержант Власов стоит на носу тяжелой баржи, медленно плывущей через Волгу. На барже четыре тысячи тонн снарядов, гранат, ящиков с горючей жидкостью, на барже четыреста красноармейцев. Эта баржа идет днем, положение таково, что некогда дожидаться ночи. Власов стоит, прямой, угрюмый, и смотрит на разрывы мин, пенящие воду.
Он оглядывает молодых бойцов, стоящих на барже. Он видит: людям страшно. И сержант Власов, человек с черными, начавшими серебриться волосами, говорит молодому бойцу:
– Ничего, сынок, хоть бойсь, не бойсь – нужно!
Тяжелая мина прошипела над головой и взорвалась в десяти метрах от баржи, несколько осколков ударилось о борт, и тотчас вторая мина разорвалась, не долетев.
– Сейчас угодит, подлец, по нас, – сказал Власов и посмотрел на бойцов, легших вдоль борта.
Мина пробила палубу недалеко от выезда, проникла в трюм и там взорвалась, расщепила борт на метр ниже воды. Наступил страшный миг. Люди заметались по палубе. И страшней вопля раненых, страшней тяжелого топота сапог, страшней, чем разнесшийся над водой крик: «Тонем!», был глухой и мягкий шум воды, ворвавшейся в развороченный борт баржи. Катастрофа произошла посредине Волги. И в эти страшные минуты, когда в полуметровую дыру хлестала вода, когда страх смерти охватил людей, сержант Власов сорвал с себя шинель и страшным усилием, преодолевая напор воды – плотной, словно стремительный свинец, сильной, словно вся Волга напружилась своим огромным, тяжким телом, чтобы прорваться в пробоину, – втиснул свернутую кляпом шинель в эту пробоину, навалился на нее грудью.
Несколько мгновений, пока подоспела помощь, длилось это единоборство человека с рекой. Пробоину забили. Власов уже был наверху, он перевалился всем телом за борт, сержант Дмитрий Смирнов держал его за ноги, а Власов, с лицом, налившимся темной кровью, шпаклевал мелкие пробоины паклей.
Обстрел продолжался. И едва баржа была спасена от потопления, как раздался крик: «Горит, пламя пошло!» Это загорелись бутылки с горючей жидкостью.
Власов, покоривший своей железной душой всех, кто был на барже, закричал:
– Скидай шинели, плащ-палатки сюда давай!
И пламя, сжигающее стальные танки, было потушено здесь, на барже, везущей четыре тысячи тонн боеприпасов.
Власов прошел на нос и снова стал на посту.
Боеприпасы, четыреста бойцов достигли сталинградского берега.
Мне кажется, что этого человека можно назвать великим человеком.
4 ноября 1942 г.


ГЛАЗАМИ ЧЕХОВА
Много дней и много ночей эти всевидящие глаза смотрят с пятого этажа разрушенного дома на город. Эти глаза видят улицу, площадь, десятки домов с провалившимися полами, пустые мертвые коробки, полные обманчивой тишины. Эти коричневые круглые, чуть желтые, чуть зеленоватые глаза – не поймешь, светлые они или темные – видят далекие холмы, изрытые немецкими блиндажами, они считают дымки костров и кухонь, машины и конные обозы, подъезжающие к городу с запада. Иногда бывает очень тихо, и тогда слышно, как в доме напротив, где сидят немцы, обваливаются небольшие куски штукатурки, иногда слышна немецкая речь и скрип немецких сапог. А иногда бомбежка и стрельба так сильны, что приходится наклоняться к уху товарища и кричать во весь голос, и товарищ разводит руками, показывает: «Не слышу».
Анатолию Чехову идет двадцатый год. Он прожил невеселую жизнь. Сын рабочего химического завода, этот юноша с ясным-умом, добрым сердцем и недюжинными способностями, обожавший книги, знаток и любитель географии, мечтавший о путешествиях, любимый товарищами, соседями, завоевавший неприступные сердца рабочих-стариков своей готовностью помочь обиженному, он с десятилетнего возраста познал темные стороны жизни. Отец его пил, жестоко и несправедливо обращался с женой, сыном, дочерьми. Года за два до войны Анатолий Чехов оставил школу, где шел по всем предметам круглым отличником, и поступил работать на казанскую фабрику. Он легко и быстро овладел многими рабочими специальностями, стал электриком, газосварщиком, аккумуляторщиком, незаменимым и всеми уважаемым мастером.
29 марта 1942 года его вызвали повесткой в военкомат, и он попросился в школу снайперов.
– Вообще я в детстве не стрелял ни из рогатки, ни из чего, жалел бить по живому, – говорит он. – Ну, я хотя в школе снайперов шел по всем предметам отлично, при первой стрельбе совершенно оскандалился – выбил девять, очков из пятидесяти возможных. Лейтенант сказал мне: «По всем предметам отлично, а по стрельбе плохо. Ничего из вас не выйдет».
Но Чехов не стал расстраиваться, он добавил к дневным часам занятий долгое ночное время. Десятки часов подряд читал теорию, изучал боевое оружие. Он очень уважал теорию и верил в силу книги; он в совершенстве изучил многие принципы оптики и мог, как заправский физик, говорить о законах преломления света, о действительном и мнимом изображении, рисовать сложный путь светового луча через девять линз оптического прицела.
Лейтенант ошибся – при стрельбе из боевого оружия по движущейся мишени Чехов поразил «в головку» всеми тремя данными ему патронами маленькую юркую фигурку. Он кончил снайперскую школу отличником, первым, и сразу же попросился в часть добровольцем, хотя его оставили инструктором – учить курсантов снайперской и обычной стрельбе, пользованию автоматом и различными гранатами. Так уж повелось, что в школе, и на производстве, и в военном деле он легко и в совершенстве овладевал пониманием различных предметов.
Этому юноше, которого все любили за доброту и преданность матери и сестрам, не пулявшему в детстве из рогатки, ибо он «жалел бить по живому», захотелось пойти на передовую.
– Я хотел стать таким человеком, который сам уничтожает врага, – сказал мне Чехов.
На марше он тренировал себя по определению расстояния без оптического прибора. Анатолий загадывал: «Сколько до того дерева?» – и шагами проверял. Сперва получалась полная ерунда, но постепенно он научился определять большие расстояния на глаз с точностью до двух-трех метров. И эта нехитрая наука помогла ему на войне не меньше, чем знание сложной оптики и законов движения луча через комбинацию девяти двояковыпуклых и выгнутых линз.
Первые свои сталинградские дни Чехов командовал пехотным отделением, а затем минометным взводом. Чехов сам себе ставил задачи и сам остроумно и тонко решал их, и в этих решениях ему приходилось напрягать не только свои сильные молодые руки и ноги, ясные совершенные глаза, но и думать, думать напряженно, быстро, трудно, как, пожалуй, не случалось ему при решении самых сложных задач по физике и алгебре, которые любил для устрашения школяров закатывать педагог.
Чехов получил свою снайперскую винтовку перед вечером. Долго обдумывал он, какое место занять ему – в подвале ли, засесть ли на первом этаже, укрыться ли в груде кирпича, выбитого тяжелой фугаской из стены многоэтажного дома. Он осматривал медленно и пытливо дома переднего края нашей обороны – окна с обгоревшими лоскутами занавесок, свисавшую железными спутанными космами арматуру, прогнувшиеся балки межэтажных перекрытий, обломки трельяжей, потускневшие в пламени никелированные остовы кроватей. Его пытливый глаз ловил и фиксировал все мелочи. Он видел велосипеды, висевшие на стенах над пропастью пяти обвалившихся этажей; он видел поблескивающие осколки зеленоватых хрустальных рюмок, куски зеркала, порыжевшие и обгоревшие усы финиковых пальм на подоконниках, покоробившиеся куски жести, развеянные дыханием пожара, словно легкие листы бумаги, обнажившиеся из-под земли черные кабели, толстые водопроводные трубы – мышцы и кости города.
Чехов сделал выбор – он вошел в парадную дверь высокого дома и по уцелевшей лестнице стал подниматься на пятый этаж. Местами ступени были раздроблены. Этажи различались лишь по разной окраске стен: квартира второго этажа была розовой, третьего – темно-синей, четвертого – фисташковой, с коричневой панелью. Чехов поднялся на площадку пятого этажа: это было то, что он искал. Обвалившаяся стена открывала широкий обзор: прямо и несколько наискосок стояли занятые немцами дома, влево шла прямая широкая улица, дальше, метрах в шестистах-семистах, начиналась площадь. Все это было немецким. Чехов устроился на лестничной площадке у остроконечного выступа стены, устроился так, чтобы тень от выступа падала на него. Он становился совершенно невидимым в этой тени, когда вокруг все освещалось солнцем. Винтовку он положил на чугунный узор перил, поглядел вниз. По пустынной улице шли два немецких солдата. Они остановились в ста метрах оттого места, где сидел Чехов. Четыре минуты юноша смотрел на немцев. Он медлил. Это чувство нерешительности знакомо почти всем снайперам перед первым выстрелом. О нем рассказывал Чехову знаменитый Пчелинцев, приезжавший в школу снайперов и вспоминавший о своем первом снайперском, охотничьем выстреле по фашистскому солдату. Немцы прошли.
Вскоре наступила ночь. Голубое небо стало темно-синим. Словно серые тихие покойники, стояли высокие обгоревшие дома. Взошла луна. Она стояла в небесном зените, большая, ясная, – толстое стальное зеркало танкиста, равнодушно отражающее жестокую картину битвы.

Взошла луна. Она стояла в небесном зените, большая, ясная, равнодушно отражая жестокую картину битвы.
Луна была медово-желтой, спелой, а свет ее, словно отделившийся от меда сухой белый воск, казался легким, не имеющим ни вкуса, ни запаха, ни тепла. Этот восковой белый свет тонкой пленкой лег на мертвый город, на сотни безглазых домов, на поблескивающий, как лед, асфальт улиц и площадей.
Чехову вспомнились книги о развалинах древних городов, и страшная, горькая боль сжала его молодое сердце. Ему показалось, что он задыхается, так остро и мучительно было желание увидеть этот город свободным, вновь ожившим, шумным, веселым, вернуть из холодной степи эти тысячи девушек, которые, кутаясь в шубки, ожидали на грейдере попутных машин; этих мальчишек и девчонок, со старческой серьезностью провожавших глазами идущие в сторону Сталинграда войска; этих стариков, кутающихся в бабьи платки; городских бабушек, надевших поверх кацавеек сыновьи пальто и шинельки.
Тень мелькнула по карнизу. Бесшумно прошла большая сибирская кошка, распушив хвост. Она поглядела на Чехова, глаз ее засветился синим электрическим огнем.
Где-то в конце улицы залаяла собака, за ней вторая, третья… Послышался сердитый голос немца; пистолетный выстрел, отчаянный визг собаки и снова злобный, тревожный и дружный лай: это верные жилью псы мешали немцам шарить в ночное время по разрушенным квартирам.
Чехов приподнялся, посмотрел; в тени улицы мелькали быстрые темные фигуры – немцы несли к дому мешки, подушки. Стрелять нельзя было – вспышка выстрела сразу же демаскировала бы снайпера. «Эх, чего наши смотрят!» подумал с тоской Чехов, и сразу же, едва появилась у него эта мысль, где-то сбоку густо, с железной злобой заработал советский пулемет. Чехов встал и осторожно, стараясь не хрустеть блестящими при луне осколками стекол, стал спускаться вниз.
В подвале здания разместилось пехотное отделение. Сержант спал на никелированной кровати, бойцы лежали на полуобгоревших обрывках плюшевых и шелковых одеял. Чехову налили чаю в жестяную кружку; чайник только что вскипел, и края кружки обжигали рот. Есть Чехову не хотелось, и он отказался от пшенной каши, сидел на кирпичиках, рассматривал пепельницу с надписью «Жена, не серди мужа» и слушал, как в темном углу подвала красноармеец сталинградец рассказывал о былой жизни: какие были кино, какие картины в них показывали, о водной станции, о пляже, о театре, о слоне из зоологического, погибшем при бомбежке, о танцевальных площадках, о славных девчатах. И, слушая его, Чехов все еще видел перед собой картину мертвого Сталинграда, освещенного полной луной. Он рано, с самых детских лет, познал тяжесть жизни. «Отец часто шумел – мне и читать и уроки учить трудно было, своего уголочка не имел», печально сказал он мне. Но в эту ночь он впервые во всей глубине понял страшную силу, зла, принесенного немцами нашей стране; он понял, что малые горести и невзгоды ничто по сравнению с великой народной бедой. И его молодое и доброе сердце стало горячим, оно жгло его.
Сержант проснулся, заскрипел пружинной кроватью и спросил:
– Ну что, Чехов, много на почин убил сегодня немцев?
Чехов сидел задумавшись, потом вдруг сказал бойцам, вернувшимся недавно из боевого охранения и налаживавшим патефон:
– Ребята, патефон сегодня я прошу не заводить.
Утром он встал до рассвета, не попил, не поел, а лишь налил в баклажку воды, положил в карман, несколько сухарей и поднялся на свой пост. Он лежал на холодных камнях лестничной площадки и ждал. Рассвело, кругом все осветилось, и так велика была жизненная сила молодого утреннего солнца, что даже несчастный город, казалось, печально и тихо улыбнулся. Только под выступом стены, где лежал Чехов, стояла холодная серая тень. Из-за угла дома вышел немец с эмалированным ведром. (Потом уже Чехов узнал, что в это время солдаты всегда ходят с ведрами, носят офицерам мыться.) Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл кверху крест нитей – он отнес прицел от носа солдата на четыре сантиметра вперед и выстрелил. Из-под пилотки мелькнуло что-то темное, голова мотнулась назад, ведро выпало из рук, солдат упал на бок. Чехова затрясло. Через минуту из-за угла появился второй немец; в руках его был бинокль. Чехов нажал спусковой крючок. Потом появился третий – он хотел пройти к лежавшему с ведром, но не прошел. «Три!» сказал Чехов и стал спокоен. В этот день много видели глаза Чехова. Он определил дорогу, которой немцы ходили в штаб, расположенный за домом, стоявшим наискосок, – туда всегда бежали солдаты, держа в руке белую бумагу – донесение.
Он определил дорогу, по которой немцы подносили боеприпасы к дому напротив, где сидели автоматчики и пулеметчики. Он определил дорогу, которой немцы несли обед и воду для умывания и питья. Обедали немцы всухомятку – Чехов знал их утреннее и дневное меню: хлеб и консервы. Немцы в обед открыли сильный минометный огонь, вели его примерно тридцать-сорок минут и после кричали хором: «Русс, обедать!»
Это приглашение к примирению привело Чехова в бешенство. Ему, веселому, смешливому юноше, казалось отвратительным, что немцы пытаются заигрывать с ним в этом трагически разрушенном, несчастном и мертвом городе. Это оскорбило чистоту его души, и в обеденный час он был особенно беспощаден. Он быстро научился отличать солдат от офицеров. У офицеров были тужурки, фуражки; они не носили поясного ремня, ходили в ботинках. Солдат он сразу отличал по сапогам, ремню, пилотке. Ему хотелось, чтобы немцы не ходили по городу во весь рост, чтобы они не пили свежей воды, чтобы они не ели завтраков и обедов. Он зубами скрипел от желания пригнуть их к земле, вогнать в самую землю.
Юный Чехов, любивший книги и географию, мечтавший о далеких путешествиях, нежный сын и брат, не стрелявший в детстве из рогатки, – «жалел бить по живому», – стал страшным человеком: истребителем оккупантов. Не в этом ли железная, святая логика Отечественной войны?
К концу первого дня Чехов увидел офицера. Офицер шел уверенно; из всех домов выскакивали автоматчики, становились перед ним навытяжку. И снова Чехов повернул дистанционный маховичок, поплыл кверху крест нитей, офицер мотнул головой, упал боком, ботинками в сторону Чехова.
Чехов заметил, что ему легче стрелять в бегущего человека, чем в стоящего: попадание получалось точно в голову. Он сделал одно открытие, помогавшее ему стать невидимым для противника. Снайпер чаще всего обнаруживается при выстреле по вспышке, и Чехов стрелял всегда на фоне белой стены, не выдвигая дуло винтовки до края стены сантиметров на четырнадцать-двадцать. На белом фоне выстрел не был виден.
Он желал теперь лишь одного: чтобы немцы не ходили по Сталинграду во весь рост; он желал пригнуть их к земле, вогнать в самую землю. И он добился своего: к концу первого дня немцы не ходили, а бегали, к концу второго дня они стали ползать. Утром солдат не пошел уже за водой для офицера. Дорожка, по которой немцы ходили за питьевой водой, стала пустынной: они отказались от свежей воды и пользовались гнилой из котла. Вечером второго дня, нажимая на спусковой крючок, Чехов сказал: «Семнадцать». В этот вечер немецкие автоматчики сидели без ужина.
Чехов спустился вниз. Ребята завели патефон, ели кашу и слушали пластинку «Синенький скромный платочек». Потом все пели хором «Раскинулось море широко». Немцы открыли бешеный огонь – били минометы, пушки, станковые пулеметы. Особенно упорно «тыркали и гремели» голодные автоматчики. Они уже больше не кричали: «Русс, ужинать!»








