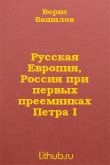Текст книги "Меньшой потешный"
Автор книги: Василий Авенариус
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
XV
Один из самых главных приверженцев царевны, начальник стрелецкого войска, пронырливый и смышленый думный дьяк Шакловитый взялся оборудовать дело. В загородную усадьбу его под Девичьим монастырем, были созваны в ночную пору наиболее влиятельные стрельцы: пятисотенные, пятидесятники и пристава – всего числом 30. Хотя каждый из них был глубоко предан милостивой к ним правительнице, тем не менее они были немало смущены неслыханным предложением Шакловитого: бить челом царевне, чтобы единолично возложила на себя царский венец.
– А что же цари-то наши венчанные – Иван да Петр? – послышались робкие возражения.
– Царь Иван обо всем повещен, – отвечал Шакловитый, – а что до малолетка-брата его, то ужели же нам ребенка неразумного слушать?
– Да не так же он теперь уже мал, и патриарх тоже за него…
– Ноне патриарх один, завтра другой: все в руках великой нашей государыни-правительницы…
– Так-то так… Но бояре… да и товарищи наши стрельцы…
– Ступайте же, келейно опросите товарищей. Что скажут, на том и порешим.
Но начальник стрельцов напрасно слишком полагался на бессловесную их покорность к нему: долг совести превозмог у стрельцов, и они довольно согласно высказались против предложения начальника – насильственно отторгнуть у двух братьев-царей их царский венец.
Шакловитый изготовил было уже и челобитную от имени стрельцов, назначил и день для венчания царевны, но опомнившаяся Софья приказала объявить стрельцам, что Шакловитый не так-де ее понял и что «челобитной подавать ей непотребно»…
Чтобы, однако, отвести глаза народу и войску, она объявила новую войну Крымскому хану; пока же шли ратные сборы, она озаботилась другим путем обкарнать брату-орленку крылья. Те же две постельницы, Нелидова и Сенюкова, притворно соболезнуя о богопротивном будто бы житье молодого царя Петра Алексеевича, якшавшегося с нехристями в Немецкой Слободе, принялись напевать, причитать о нем с утра до ночи матушке-царице Наталье Кирилловне. Закручинилась бедная царица о своем ненаглядном детище, стала уговаривать его не губить души своей. Но малый совсем из воли материной вышел, речи ее мимо ушей пропускал. Долго ли вконец ему было сбиться с пути? А тут еще эта сумасбродная затея с кораблями на Плещеевом озере… Храни Господь, потонет! Что делать-то с ним, что делать?
И шепнули матушке царице добрые советчицы – окрутить сынка. Ухватилась она за совет, как утопающий за соломинку. И то ведь, малый на возрасте! Авось-де молоденькая красавица-жена его утихомирит, к белым ручкам приберет, заживут ладно и советно…
И подыскали малому подобающую невесту – дочь окольничего царского Федора Абрамовича Лопухина. Была она, Авдотья Федоровна, и молода-то, как он сам, и собой писаная краля, а паче того богомолица и скромница.
Петру и семнадцати лет еще не минуло, но пригожая невеста ему приглянулась, и 27 января 1689 года он принял с нею брачный венец. Сам Петр тем более торопил свадьбой, что очень уж занимало его свадебное празднество, и целый месяц до того он лично с наперсником своим – Данилычем – руководил приготовлениями к «огненному апофеозу». И точно: треска и огня было столько, как никогда еще дотоле. Тотчас после брачного обряда был торжественный обеденный стол, завершившийся пушечной пальбой без ядер. Затем следовал церемониальный развод потешных, шедших друг на друга «мнимым боем» и обстреливавшихся холостыми зарядами. В заключение, когда стемнело, был сожжен в полном смысле слова «блистательный» фейерверк, длившийся не более, не менее как три часа. Не обошлось при этом, правда, без беды: в скучившуюся перед редким зрелищем толпу черни упала с вышины пятифунтовая римская свеча и наповал уложила какого-то мещанина. Но молодой царь, узнав о прискорбном случае, тотчас распорядился пожизненным обеспечением оставшейся после пострадавшего семьи.
Кручина у матушки-царицы отошла от сердца; у сестры-царевны на душе тоже полегчало. Но расчет их оказался ошибочным: пылкому юноше было еще не до радостей тихой семейной жизни. Его тянуло по-прежнему на свет и простор: нараставшие в нем богатырские силы просили развернуться во всю свою мощь, требовали постоянного упражнения в живом деле для предстоявших подвигов.
Едва лишь в апреле месяце Плещеево озеро сбросило с себя ледяную кору, как Петр со своими корабельщиками был уже снова там, на месте, и писал матери в Преображенское:
«Вселюбезнейшей и паче живота телесного дражайшей моей матушке, Государыне Царице и Великой Княгине Наталии Кирилловне. Сынишка твой в работе пребывающий, Петрушка, благословения прошу, а о твоем здравии слышать желаю. А у нас молитвами твоими здорово все. А озеро все вскрылось сего 20-го числа, и суды все, кроме большого корабля в отделке; только за канатами станет. И о том милости прошу, чтобы те канаты, по семисот сажен, из Пушкарского Приказу, не мешкав, присланы были… По сем паки благословения прошу. Из Переяславля, апреля 20, 1689 года»[5]5
Как это, так и последующие письма, за небольшими сокращениями, мы приводим дословно, исправив только неудовлетворительную орфографию, затрудняющую чтение.
[Закрыть].
Прискакал в Переяславль нарочный от матушки-царицы, чтобы пожаловал-де государь к 27 апреля в Москву, к панихиде по покойному старшему братцу своему Феодору Алексеевичу. Но оторваться Петру от дорогих ему кораблей было куда не по душе.
«…Недостойный сынишка твой Петрушка, о здравии твоем присно слышать желаю, – отписал он в ответ. – А что изволила ко мне приказывать, чтоб мне быть к Москве, и я быть готов; только, гей-гей, дело есть! И то присланный сам видел: известит явнее… По сем и наипокорственнее предаюся в волю вашу. Аминь.»
Встосковалась по отсутствующему и молодая жена-царица Авдотья Феодоровна, послала ему душевную весточку:
«Государю моему радости, Царю Петру Алексеевичу. Здравствуй, свет мой, на множество лет! Просим милости, пожалуй, Государь, буди к нам не замешкав. А я при милости матушкиной жива, женишка твоя Дунька челом бьет».
Нечего было делать: со вздохом вернулся молодой муж восвояси. Но прошел месяц времени – и он опять усердно рубил и стругал на переяславской верфи; а ввечеру, на досуге, усталою рукою на лоскутке бумаги набрасывал пару строк в утешенье жене и матери, уверяя, что «присылкам» их радуется, «яко Ной о масличном суке», но вместе с тем простосердечно хвалясь «о судах паки подтверждаю, что зело хороши все!» В конце же записки, словно каясь в вине своей перед ними, расписался: «Недостойный Petrus».
Но не одним топором работал Петр: он брался за всякое попадавшее ему на глаза рукомесло, и не было, кажется, такого ремесленного орудия, которое не побывало бы у него в руках. Недаром несколько лет спустя (в 1697 г.) курфирстина Софья-Шарлотта, отзывалась о Петре, что он – мастер в четырнадцати ремеслах.
XVI
Второй Крымский поход царевны Софьи был мало чем удачнее первого. Двадцать тысяч русских легло на месте, пятнадцать тысяч попало в плен, да кроме того отбито было у них семьдесят орудий, не говоря о множестве других воинских снарядов. Чтобы заглушить ходившие по этому предмету в народе неблагоприятные слухи, Софья намеревалась щедро наградить главных военачальников: князя Василия Васильевича Голицына, Гордона и других. Но Петр этому положительно воспротивился.
Вскоре нашелся у них еще новый повод к раздору, который привел к окончательному разрыву.
В день Казанской Божией Матери, 8 июля, из Кремля в Казанский собор, по стародавнему обычаю, имел быть торжественный крестный ход.
С утра еще небо заволокло кругом облаками; когда же призванное участвовать в крестном ходе духовенство со всех «сорока сороков» московских церквей стало собираться к кремлевскому Успенскому собору, то свет в окнах соборных разом померк, точно на дворе ночь наступила, и тут же разразилась страшная гроза. Внутренность храма поминутно озарялась снаружи ослепительной молнией, громовой раскат следовал за раскатом, а оконные стекла так и дребезжали от хлеставшего в них бокового ливня.
В самый разгар грозы явилась в церковь царевна Софья в сопровождении старшего царя – Ивана Алексеевича и, отряхнув с себя струи дождя, стала рядом с прибывшим ранее младшим братом Петром, который богатырским ростом своим выделялся между всеми окружающими царедворцами.
Петр наклонился к ней с тихим вопросом:
– Ты, сестрица, разве пойдешь тоже в крестный ход?
– Конечно, пойду! – был ему надменный и холодный ответ.
– Но ведь ты видишь, какая непогода?
– Так что ж!
– Но я убедительно прошу тебя, слышишь, прошу – не идти!
Он проговорил это с особенным ударением и глядевшие на нее в упор темные глаза его вызывающе засверкали.
Царевна изменилась в лице, и голос ее, несмотря на все ее самообладание, дрогнул, когда она с притворным смирением, но с прорывающейся горечью заметила:
– Скажи уж лучше напрямки, что мне девушке-царевне негоже идти рядом с тобою, царем, всенародне в крестном ходе!
– Сама же ты, сестрица, догадалася. Спокон веку ведь на Руси у нас этого не важивалось.
– Послушай, братец милый, – с тою же сдержанностью, притворным задушевным тоном заговорила Софья, хотя углы рта у нее нервно подергивало. – Вот тебе Никола Святитель, приняла я на себя за твоим малолетством все тяготы правления.
– И власть забрала непомерную! – порывисто досказал брат.
– Из одной, братец, любви к тебе и к брату Ивану…
– Любит и кошка мышку…
– А! Вот как… – пробормотала глубоко оскорбленная сестра и гордо выпрямилась во весь рост. – Ты вершишь в свою голову… Добро! Дай срок… Теперь не время. Видишь: уж подняли иконы.
И, кивнув старшему брату, чтобы не отставал от нее, царевна скорой поступью пошла к выходу, где в ожидании ее стояло уже с крестами и хоругвями, в чинном порядке, в праздничных облачениях, духовенство.
Сейчас еще яростно бушевавшие небесные стихии вдруг присмирели будто разом истощили всю свою необузданную силу. Когда крестный ход из Кремля Ильинскими воротами, мимо Лобного места и Гостиного двора, двинулся через Красную площадь, дождь вовсе прекратился, проясневшие облака разорвались дымчатыми клочьями, и из-за них сперва засинело чистое небо, а вслед затем брызнули жгучие лучи июльского солнца. Только свежая, блестящая на солнце грязь да мутные ручьи дождевой воды, весело журчавшие по обмоинам обширной площади, обличали миновавшую сейчас летнюю грозу. Попрятавшийся было от бурного ливня в Гостином дворе народ высыпал опять навстречу святым хоругвям.
Но чтобы это значило? С иконой Божией Матери «О Тебе радуется» в руках, с высоко вскинутой головою, следом за первосвященным патриархом Иоакимом шествуют лишь правительница-царевна со старшим братом; юный же царь Петр Алексеевич при самом выходе из Кремля свернул в сторону, в народ. Приближенные, переполошась, следуют за государем.
Сам патриарх неодобрительно озирается на удаляющихся. Но царевна Софья властно подает знак рукою – и торжественная процессия неуклонно продолжает свое шествие к Казанскому собору.
К вечеру вся Москва толковала только о том, что между правительницей и ее меньшим братом совершился полный разлад, так как он-де зело за что-то осерчав на сестру, прямо с Красной площади укатил вон из города.
Недели две спустя царевна Софья, одумавшись, сделала еще последнюю попытку протянуть руку примирения брату и выслала к нему в Преображенское посредником князя В.В. Голицына. Не без внутренней борьбы, после особенных убеждений Меншикова, Петр пошел на некоторую уступку, изъявив наконец согласие наградить «отличившихся» в Крымском походе военачальников. Но от личного свидания с сестрою он наотрез отказался. Отказ этот имел для обоих роковое значение.
XVII
В ночь с 7 на 8 августа того же 1689 года Петр был внезапно разбужен среди крепкого юношеского сна. Верный наперсник его, меньшой потешный Меншиков наклонился над ним с всклокоченной со сна головой и изо всех сил тряс его за плечи.
– Проснись, государь, проснися!
Петр быстро приподнялся на постели и, не придя еще хорошенько в себя, испуганно уставился на говорящего.
– Не полошайся, государь, – продолжал впопыхах Меншиков. – Стрельцы…
– Что такое, Данилыч? Что – стрельцы?
– Елизарьев Ларион, пятисотенный Стремянного Циклерова полка, прислал к тебе сейчас гонцов – товарища своего Мельнова и денщика Шакловитовско-го, Ладогина…
– Ну, ну?
– Оба они тоже преданы тебе. Шакловитый, мол, именем будто бы царевны замыслил нонешнею ночью со своими стрельцами пожаловать к нам сюда, в Преображенское, и выкрасть разом все «гнездо» твое: князя Бориса Алексеевича (Голицына), Нарышкиных всех до единого, Лопухиных, Апраксиных…
Оторопь Меншикова заразила и его царственного господина.
– Так надо упредить их, скликнуть сейчас наших потешных, – заговорил он.
– Где уж, государь! Забыл ты, видно, что вечор опять в Немецкой Слободе пировали. Ты-то сам спозаранку выбрался, а те все с Зотовым загулялись далеко за полночь и теперь, я чай, их и пушками не добудишься. Да и где их соберешь поодиночке по угодьям. А стрельцы, того гляди, нагрянут. Изготовься-ка бежать…
– Убегом бежать? Ни за что! Лучше запрусь в фортеции нашей в Пресбурге…
– Да удержим ли мы там с тобой одни, без потешных?
Тут в царскую опочивальню ворвался один из гонцов, Мельнов.
– Прости, государь, но мешкать тебе, ей-же-ей нельзя. Утекай отселе.
– Но зазор…
– Э, батюшка! Где волком нельзя быть – там зайцем прикинешься либо лисою: волка зубы кормят, зайца ноги носят, лису хвост бережет. Садись на коня моего и скачи без оглядки: он еще свеж и стоит тут у крыльца.
– Но куда я поскачу?
– Куда глаза глядят.
– Нет, государь: прямо в лавру к Сергию, – вмешался Меншиков. – Святые отцы там тебя, слава Богу, давно знают и схоронят от злодеев.
– Да как же мне оставить здесь матушку, молодую жену…
– Их, женщин, не тронут, – убежденно сказал Мельнов. – Но князя Бориса Алексеевича мы всячески упредим: доставил бы их только завтрашний день в лавру.
– Вот это так. Ну, с Богом!
Наскоро приодевшись, Петр вышел на крыльцо.
– Я с тобой, государь, – сказал Меншиков, – благо есть тут и другой конь.
Второй гонец, Ладогин, не посмел прекословить и уступил своего аргамака товарищу царскому. Так-то среди глухой ночи, без всякого конвоя, два юноши, распустив удила, помчались из Преображенского за семьдесят верст – в Троицко-Сергиевскую лавру.
Каково было изумление, каков переполох монастырской братии, когда в шесть часов утра в ворота лавры на измученных, взмыленных конях влетели молодой царь и его единственный провожатый, меньшой потешный.
– Где отец-игумен? – спросил Петр, когда его, донельзя избитого бешеной скачкой, дюжий отец-вратарь с молодым послушником приняли с седла и провели в келарню, а здесь обступили их старцы-монахи в камилавках и кафтырях, протирая глаза: не сонное ли то видение!
С трудом опираясь на свой старческий посох, ведомый под руки двумя послушниками, появился тут старец-игумен, благословил беглецов и с безмолвным ужасом выслушал повесть об опасности, грозившей юному помазаннику царского престола.
– Премудры Твои дела, о, Господи! – вздохнул он из глубины груди и вновь осенил Петра крестным знамением. – Как ты один-то, государь, бежать решился?
– Не один, вдвоем вон с Данилычем, – отвечал Петр, дружески оглядываясь на Меншикова, – да и кони попались доброе.
– Здесь, за каменой стеной, что за каменной горой, вас и пальцем не тронут! – подхватил Меншиков.
– Коли Господь не попустит, так помазанника Его не тронут, – внушительно заметил игумен… – Ты не взыщи, государь, не изготовились мы принять тебя, как подобало бы.
Того же числа, к немалому успокоению молодого царя, в Троицу прибыл форсированным маршем единственный преданный ему стрелецкий Сухарев полк; а вечером Петр имел радость обнять матушку-царицу и молодую жену, которых со всем придворным штатом сопровождали в лавру оба потешные полка – Преображенский и Семеновский.
XVIII
Под охраной святыни монастырской и трех верных ему полков Петр мог считать себя до времени в безопасности. Но прибывшие к вечеру принесли с собой весть из Москвы, что на завтра, 9 августа, в Кремль созваны для чего-то все стрельцы. Очевидно, там опять что-то готовилось.
Капрал Преображенского полка Лука Хабаров был тотчас отряжен обратно в Преображенское за пушками, мортирами и порохом; а один из царедворцев – в Москву к царевне-правительнице с запросом о причине созыва стрельцов. Последний вернулся с не совсем правдоподобным ответом, что царевна-де собирается на богомолье в Донской монастырь и стрельцы идут с нею. Но вместе с тем посланец донес, что народ в Москве сильно встревожен удалением царя в лавру и что назначенный в Кремле тогда же торжественный прием малороссийского гетмана Мазепы не мог состояться за недомоганием правительницы: зело, мол, разгорячена тем, что брат, крадучись, ушел.
И было отчего серчать царевне: среди стрельцов ее началось брожение – пошел явный раскол. Особенно полагалась Софья на стрелецкого полковника Циклера, и вот он был вызван в лавру с пятьюдесятью стрельцами, да так и застрял там. Что день после того – стрелецкие начальники не досчитывались в своих полках нескольких человек.
Приходилось царевне сделать шаг навстречу непокорливому брату: отрядила она к нему посредником князя Троекурова, затем князя Прозоровского и духовника царского, наконец патриарха Московского Иоакима. Первые трое вернулись ни с чем; последний же так и остался в лавре. Между тем, к стрельцам приходили от молодого царя указы за указами – явиться «без всякого мотчанья» в лавру «по царскому делу», и несмотря на все уговоры Шакловитого, число перебежчиков к прямому царю со дня на день возрастало.
Скрепя сердце, Софья решилась сама двинуть к упрямцу в Троицу. Но за десять верст оттуда, в селе Воздвиженском, поезд ее был внезапно остановлен комнатным стольником молодого царя, стариком Бутурлиным.
– Я к тебе, государыня, с низким… – начал он.
– От брата Петра? – холодно и резко оборвала его царевна Софья.
– От пресветлейшего государя нашего Петра Алексеевича.
– А сам чего навстречу к нам не пожаловал?
– Не удосужился он, государыня… Заместо себя меня да вон Меншикова Александра Данилыча, меньшого и… набольшого потешного своего к тебе выслал.
Правительница теперь только, казалось, заметила вошедшего вместе с Бутурлиным бывшего пирожника. Что царственный брат вместо себя выслал, между прочим, этого безбородого юношу, чуть не мальчишку неведомого рода и племени, – за кровную обиду ей показалось. Скользнув лишь молниеносным взглядом по-отрочески стройной фигуре Меншикова, она царственным движением руки указала на выход.
– Поди!
Меншиков не тронулся с места, а вопросительно оглянулся на своего старшего спутника.
– Вон, говорю я! – повторила повелительно царевна.
– Осмелюсь доложить тебе, великая государыня, – почтительно, но твердо заговорил Бутурлин: государю нашему угодно было в товарищи мне назначить своего первого любимца, и ты, я так чаю, соблаговолишь выслушать нас обоих.
В Софье, видимо, происходила глубокая внутренняя борьба. Но она совладала с собою и, по-прежнему не удостаивая Меншикова взгляда довольно сдержанно отвечала:
– Тебя, боярин, я готова слушать, а этого… – она подбирала выражение и, не отыскав, только пренебрежительным жестом повела в сторону меньшого потешного, – этого я тотчас вышлю вон, ежели он при мне хоть рот раскроет!
– Я буду молчать, пожалуй… – произнес Меншиков слегка дрогнувшим голосом.
Царевна подняла руку, как бы с тем, чтобы зажать ему рот. Наступило минутное молчание. Софья остановила свои неумолимо строгие глаза на царском стольнике.
– Ну?
– Скорбно мне говорить-то… – переводя дух, начал Бутурлин. – Но я, прости, чиню лишь волю цареву…
– Так сказывай!
– Не изволь ехать далее, государыня!
Запальчивая царевна в порыве гнева готова была, кажется, огненным взором испепелить посланца.
– Не ты, старик, остановишь меня! – вскричала она.
Сановитый старик со скромным достоинством тронул рукой свои серебристые седины.
– Стар я, царевна, – точно: поседел на службе царской, но и опытом жизни тоже умудрен супротив многих иных. Брат твой, а наш великий царь Петр Алексеевич вошел ныне в возраст и, поверь мне, старику, слова поперечного себе он отнюдь не попустит. Неугодно, слышь, его царской милости видеть тебя у себя в лавре…
Какого усилия стоило надменной правительнице, чтобы не вспылить снова, можно было судить по тому, как окрасились сразу ее бледные щеки, как на висках ее налились жилы.
– Не ладны твои речи, боярин, не дело ты говоришь, – глухо пробормотала она, кусая свои тонкие губы. – Зачем ему бежать-то было? Кто его гнал? Не сам ли он, скажи, как ножом отрезал себя от родной семьи: от сестер и брата…
– Кто кого отрезал, не мне рабу, судить, – отвечал старик-стольник, – но ломоть отрезан, и к хлебу его не приставишь.
Тупо уставясь в пол, Софья крепко-накрепко стиснула руки и вдруг хрустнула пальцами.
– Владычица многомилостивая! – почти в отчаянии вырвалось у нее. – Разве я за него ответчица?
– Кому какая планида, государыня, – успокоительно заметил Бутурлин. – На роду тебе, знать, так уже написано было. От походов твоих противу хана Крымского, сама знаешь, не столько славы было матушке-России, сколько сраму и тягот великих, всю же вину в том, кого ни спроси, валят на тебя.
– Так подай же мне, старик, по чистой совести совет, что мне делать? – упавшим уже голосом промолвила царевна. – Что мне делать?
– Что тебе делать? Да вот тебе, государыня, нелицеприятный совет мой, прости ты меня: вернись-ка восвояси, в кремлевский терем свой, к сестрицам-царевнам и жди там с ними приказа царского.
– Чтобы я теперь ни с чем вернулася, чуть не из-под стен троицких!..
– Вернися, родимая, послушай ты старика; не упрямься, не злобься по-пустому, – продолжал увещевать Бутурлин. – Опомнись, доколе не натворишь пущих бед. Смиренье – ожерелье девичье.
– Девица я, правда твоя, боярин, но не теремная затворница, а великая царевна, сокол вольный!
– И сокол, государыня, выше солнца не летает, – сорвалось тут у безмолвствовавшего до сих пор Меншикова. – А вкруг солнца нашего царя Петра Алексеевича собралася целая стая юных соколов – нас, «потешных» его…
– Ну, вот, ну вот!.. – задыхаясь, бормотала царевна, как бы не заметив, что последние слова принадлежали уже не старику-стольнику, а меньшому потешному, которому она и рот раскрывать строго наказала. – Каково-то мне слышать это, правительнице и самодержице! Давно чуяла ведь, что потехи эти к добру не поведут… Как я их ненавижу, этих «потешных»! О, как ненавижу! И стрельцов моих верных туда же совратили… Гром Божий на всех вас! Уходи, старик! Уходите оба, сгиньте с глаз моих!
Кровь хлынула в голову и маститому стольнику. Но он и на этот раз превозмог себя, чинно отдал уставный поклон, перекрестился на образ в углу и пошел к выходу.
– А ты-то что же? – недоумевая, свысока спросила Софья, видя что меньшой потешный и не помышляет еще следовать за своим старшим спутником.
– Твоя воля, государыня! – безбоязненно, но со всем придворным «вежеством» отвечал Меншиков. – Без твоего ответа нам не велено являться пред очи нашего великого государя. Что прикажешь сказать ему от тебя: что все же будешь к нему в лавру?
– Вестимо, буду! Мое слово твердо.
И она ногою еще притопнула. Теперь и Меншиков, согнув покорно спину, молча удалился.
Но прежде, чем царевна двинулась опять в путь, в Воздвиженское к ней прискакал царский гонец, боярин Иван Борисович Троекуров с повторительным наказом, чтобы отнюдь-де не изволила в Троицкий монастырь идти: «ежели же дерзновенно придет, то с ней нечестно поступлено будет».
Было то как раз накануне тогдашнего Нового Года, под 1 сентября. С небывалым сокрушением правительница Софья должна была наконец сказать себе, что брат ее взял верх, что собственная звезда ее меркнет, заходит и никогда уже не взойдет.