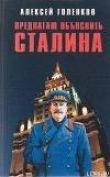Текст книги "Тюрьма и мир"
Автор книги: Василий Аксенов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
После операции и следствия меня наконец списали в резерв. В характеристике появилась замечательная фраза: «Эмоционально неустойчив». Всякий раз, когда меня теперь просят прояснить, я отвечаю: «Ну, обидчив». Заехал я также в училище якобы для того, чтобы забрать свои книги, а на самом деле для того, чтобы бросить взгляд на свою, столь странно молчавшую все это время «романтическую историю». Вдруг оказалось, что ее больше не существует. Да не переехала никуда, а просто ее нет. Прости, сейчас не могу об этом говорить, скажу лишь, что именно в тот день я сломал челюсть полковнику Маслюкову и попал в военную тюрьму. Дело мое разбиралось довольно долго, потому что возникло противоречие. Приличные ребята в трибунале шили мне то, что и было на самом деле: оскорбление старшего офицера действием в состоянии аффекта, мотивированного ревностью, за что полагался жуткий срок штрафбата. Ну, а гады, которых в трибунале было больше чем достаточно, с подачи Маслюкова накручивали «соучастие в шпионаже», а за это, как вы сами понимаете, итурупскому лорду Байрону полагалась пулька в затылок.
0'кей, о'кей, как-нибудь я вам подробнее обо всем этом расскажу, не сейчас, одно только хочу, чтобы вы знали: вырвался я из этой преисподней только благодаря дружбе с вами. Как так, а вот так. В округ приехал с инспекцией маршал Ротмистров, ну и мой ангел каким-то образом подсказал ему завернуть в военную тюрьму. Кто был этот ангел? Странные вы вопросы задаете, Борька. Мой ангел значит мой ангел-хранитель, только это я и имею в виду. Там, в тюрьме, какой-то приличный парень из администрации подсунул маршалу мое дело: ну, мол, герой, потерял ногу в тылу врага, остался в строю, в общем, «Повесть о настоящем человеке»; тоже, конечно, моего ангела делишки. Маршал вызвал меня к себе, и мы с ним два часа проговорили. Оказалось, что он слышал о нашей высадке в Варшаве и даже лично знал Гроздева, ну, помните. Волка Дремучего. Потом вдруг спрашивает: а вы Борю Градова там встречали? Оказалось, что они были близкими друзьями с вашим отцом и деда вашего он со страшной силой уважает, бывал не раз в Серебряном Бору. Вот таким образом вся маслюковская интрига закрутилась в обратную сторону. Не исключаю даже, что подонок пережил серьезные неприятности, впрочем, такие хмыри умеют выкрутиться из любой истории. Из одной только истории ему не выкрутиться, из отношений со мной, а когда-нибудь у меня снова дойдут до него руки. Короче говоря, мое дело закрыли, меня сактировали по состоянию здоровья, и я вот уже год, как обретаюсь в Москве, влачу тут жалкое существование, влачу, как бурлак, свое тяжелое, как баржа с говном, существование, вот так, Борька, волокусь без руля и без ветрил, копеек не считаю, но они меня сами считают, сучки... досчитали и дотерли до дыр... я весь в дырах, old fellow, как сыр голландский... только без слезы... кореш, в присутствии ангела своего заявляю: слезы от меня не дождутся, клянусь бронетанковыми войсками маршала Ротмистрова!..
Боря Градов, мотобог и счастливый обладатель лучшей любовницы Москвы, положил ему руку на плечо:
– Сашка, вашу-так-и-разэтак, пусть наше «прямое действие» провалилось, но мы ударим во фланг! Никто нам не помешает ударить во фланг! И никто не осудит! Маршал Ротмистров не раз бил во фланг, а потом уже мой папа валил всей ватагой! По флангам, друг! Как Костя Симонов писал: «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла, такая уж поговорка у майора была!» У майора, старик! Такая вот, старик, была поговорка у старого майора Китчинера! А Маслюкова твоего мы вдвоем возьмем и повесим его яйца на сук! Помнишь тот ласковый вальс: «Тихо вокруг, только не спит барсук, яйца свои повесил на сук и тихо танцует вокруг»?..
Вот так, обмениваясь вот такими монологами, друзья покинули «Есенинский» подвал, выбрались в безмикробный мир морозного социализма и, тихо подтанцовывая под «Вальс барсука», пошли через Театральный проезд к памятнику первопечатнику Федорову, чтобы у его подножия прикончить взятую на всякий случай чекушку. И так начали заново дружить в своей лепрозорной столице.
Александр Шереметьев, что называется, вышел из армии с волчьим билетом и, в отличие от нашего Бабочки, без денег. О продолжении образования не могло быть и речи. Мать, конечно, не потянула бы здоровенного инвалида. Надо было искать работу и приработки. Со вторым, пожалуй, было легче, чем с первым: можно было давать уроки английского или делать технические переводы, однако требовался официальный статус для милиции; не хилять же, в самом деле, за инвалида с гармошкой: «Он был батальонный разведчик, подайте, братья и сестры...» От таких Москва в те годы брезгливо и надменно освобождалась. В конце концов после немалых мытарств (подозревал даже, что, несмотря на заступничество могущественного маршала, идет за ним «хвост» от дальневосточных особистов), в конце концов нашел себе официальное место работы, в которой души не чаял, а именно в отделе переводов Государственной библиотеки имени В.И.Ленина, которую в обиходе народ московский называл «Ленинкой» и этим привносил в торжественное звучание некоторое легкомысленное фрондерство. Там, в бесконечных залах с книгами, в коридорах и особенно в курилке, Шереметьев свел знакомство с незаурядными людьми своего возраста и постарше, ребятами, которые свободное после работы в разных «почтовых ящиках» время проводили в Ленинке за чтением философской литературы. Много спорили о прошлом, об исторических судьбах России, о характере русского человека и человека вообще. Обменивались старыми изданиями Достоевского и Фрейда. Средняя школа и вузы все-таки оставляют сейчас в образовании молодого человека много белых пятен. Хочешь стать мыслящей личностью, без самообразования не обойтись, а в Ленинке, если там работаешь и постепенно становишься своим человеком, можно получить доступ к уникальным, чаще всего закрытым, печатным материалам. В конце концов в этой группе знакомых читателей образовался интеллектуальный костяк, который стал собираться для обмена мнениями на квартирах или, в теплое время, за городом, на Истре или на Клязьме, под рыбалку или под костерок с бутылочкой, и все это называлось, разумеется не для афиширования, а так, между собой, «кружок Достоевского».
Как ни странно, именно на членов этого кружка натолкнулся в ту памятную метельную ночь мастер спорта Боря Градов. Он-то их принял за обычных барыг и похабников, а они просто-напросто собрались в «Москве» для того, чтобы обмыть крупную премию, которую получил их товарищ Николай, инженер по самолетным крыльям. Конечно, все тогда, во втором часу ночи, были основательно под газом, однако рассказ Николая о его приключениях в Сокольниках вовсе не был бахвальством и издевательством. Он стал делиться с друзьями своим недавним опытом, поскольку ему показалось, что в этой истории сложилась весьма «Достоевская» ситуация. Вот такой произошел разнобой: вместо того чтобы опознать в Борисе Градове человека с довольно сильной интеллектуальной потенцией, его приняли за стилягу, который напрашивается.
Разъяснив все эти дела старому другу, Александр Шереметьев как-то сказал, что, по его мнению, Борис вполне мог бы стать одним из членов «кружка Достоевского» и даже подружиться все с тем же самым Николаем, который, разумеется, еще со школьных лет носил в районе Зубовской площади кличку Большущий.
А почему бы нет, вполне возможно, что эти типусы – вполне славные ребята. Боря Градов в эти дни готов был обнять весь мир. В сокрушительной американской куртке он прогуливался по улице Горького или по Невскому проспекту в Ленинграде, куда нередко ездил в двухместном купе «Красной стрелы» со своей красавицей Верой Гордой. Все у него прекрасно получалось, везде успевал, даже зачеты институтские больше на шее не висели. Больше стал и на льду заниматься к предстоящим соревнованиям конца зимы; особенно, конечно, усердствовал, когда Вера приходила на стадион и хлопала ему меховыми рукавицами. Значительно меньше стал кирять, потому что исчез главный стимул пьянства – задерзить, заинтриговать и потом заполонить демимо-дентную красавицу певицу в луче прожектора. Эта la femme fatale теперь превратилась в нежнейшее и преданнейшее существо. Блаженство переполняло его, и он побаивался: не слишком ли сильно перебирает в безоблачности, не возмутится ли природа?
Тучки, впрочем, иногда набегали, закручивались самумчиками ревности: а вдруг она вот так же, как со мной, с ходу, в темпе, кому-нибудь еще дает, где попало: в лифте, в поезде, на лестнице – что ей стоит? Она мгновенно ощущала закручивание этих туч, садилась к нему на колени, увещевала щекочущим шепотом в ушную раковину. Перестань торчать в ресторане и караулить! Разве ты не видишь, что я влюблена в тебя, как кошка, даже и подумать не могу ни о ком другом. У меня и вообще-то до тебя никого не было. Нет, не вру, а просто так ощущаю, все, что было, из памяти просто вычеркнула!
Все-таки к концу программы он шел ее встречать в гостиницу. Завсегдатаи сразу смекнули, что Горда переменилась, завела себе мальчика, и больше не беспокоили. Остались, однако, заезжие безумцы, всякие там полярники, летчики, моряки, закавказские директора и партработники, с этими иногда приходилось проводить сеансы самбо, хотя Вера сердилась, говоря, что она и сама с этим дурачьем легко справится.
Он хотел, чтобы она переехала к нему, что называется, с вещами. Она хоть и проводила на Горького большую часть своего времени, с вещами – отказывалась. Иной раз, чаще всего по воскресеньям, она исчезала, отправлялась куда-то на такси, никогда не позволяла Борису заводить «хорьх» ради этих оказий. Как он понял, в доградовское время она жила на два дома: где-то был заброшенный муж («Ну жалкое существо, ну просто самое жалкое существо!»), а в другом месте обреталась в трущобной коммуналке любимая тетка, старшая сестра умершей матери. Утонченная, прелестная, беззащитная, вся семья пропала на Колыме. Вот эта тетка, похоже, была главным предметом Beриных забот.
Где-то в пучинах Москвы обретался и ее отец, но это была полумифическая личность, старый холостяк, чудак, бывший футурист, а ныне профессор-шекспиролог. Оказалось, что сценическое имя Горда не с потолка слетело, а было взято от настоящей отцовской фамилии Гординер. Звучит по-еврейски, но мы не евреи, настойчиво повторяла Вера, скорее уж шляхтичи польские. В общем-то отец из-за каких-то старых распрей с туберкулезной маменькой единственную дочку Веру почти не признавал, во время ее визитов – очень редких, может быть не чаще одного раза в год, – держался сухо, отчужденно. Исключительным высокомерием по отношению к ней отличался и его мыслящий кот Велимир.
– Вот ты, Бабочка, во мне свою маму Веронику компенсируешь... – однажды вполне небрежно сказала она, – а мне отца никто не компенсирует, потому что у меня его и не было никогда.
Борис задохнулся. Во-первых, откуда она узнала его детское, смешное и немного, в самом деле, по нынешним-то временам, по отношению-то к офицеру разведки и мастеру спорта обескураживающее прозвище? А во-вторых, оказывается, самый его глубоко подкожный секрет, то, в чем и самому себе почти никогда не признавался, оказывается, для нее вовсе и не секрет. Ну да, это ведь так и было: в первый же момент, когда он ее увидел, она поразила его сходством с матерью. Может быть, сейчас в своем Коннектикуте мать наконец-то постарела, ведь ей уже сорок семь, но он ее помнил только молодой, ослепительной Вероникой. Потому-то и еле сдерживался тогда, в первую ночь с Гордой, чтобы не выкрикнуть: «Мамочка, мамочка моя!»
Оказалось, что Вера даже один раз видела его мать. Да-да, это было в конце 1945-го. Она тогда уже пела в «Савое», и там был банкет американских союзников, и она пела по-английски из «Серенады» и из «Джорджа». Не исключено, что она даже видела Бабочкиного отчима, во всяком случае это был длинный, немолодой полковник, с которым его мать в тот вечер все время танцевала, настоящий джентльмен. А Вероника... ох, это была женщина... какой класс... как я мечтала тогда, вот бы мне стать когда-нибудь такой, как эта знаменитая маршальша Градова, вот бы мне выйти замуж за американца! Слава Богу, что не вышла, а то я бы не встретила тебя, мой сыночек Бабочка!
Тут она начинала бурно и лукаво хохотать, чтобы спровоцировать его на очередную атаку, и, надо сказать, никогда эти провокации не оставались без ответа.
Впрочем, однажды она пришла печальной и, заведя разговор о матери, старалась показать всем своим видом, что сейчас не до излияний подспудных чувств и не до эротики.
– Ты должен быть осторожен, Боря, – сказала она. – Каждый момент должен быть начеку. За тобой очень пристально наблюдают. Для тебя, конечно, не секрет, что у нас почти все музыканты, да и вообще весь персонал гостиницы, по негласному договору обязаны являться к этим, ну, определенным товарищам. Ну, и они там вопросы свои задают. Ну, в общем, ты знаешь, как это бывает. Ну, а со мной, знаешь, у них как бы особые отношения, ну, в общем, потому что однажды я попала в очень неприятную историю, мне грозила тюрьма, ну, и они как бы меня выручили, ну, и теперь как бы своей считают, ну, Боря, ты только на меня так не смотри. Мне тридцать пять лет, я всю жизнь в ресторанах и с лабухами провела, ты же не ожидал, что Зою Космодемьянскую в постель затаскиваешь, правда? А вот теперь ты, пожалуйста, не отворачивайся и посмотри на меня. Ну, и скажи теперь: какой я агент? Я им всегда все путаю, чепуху всякую несу, они ко мне не очень серьезно относятся. А вот вчера вдруг с булыжными такими физиономиями явились трое. Мы, говорят... прибавь, пожалуйста, громкости в радио... мы хотим, говорят, с вами о вашем новом друге потолковать... Что, кто были старые друзья? Ну, Боря, ну, нельзя же так, ну, не было же никого, я же тебе говорила, маленький, что никого до тебя не было, вообще ничего не было в моей жизни, кроме тебя. Ну, в общем, они говорят, мы, конечно, не возражаем против вашего романа, они не возражают, понимаешь, Боря, как тебе это нравится, все обсудили и не возражают, Борис Градов, говорят, сын дважды героя, маршала СССР, сам боевой офицер, разведчик, наш кадр...
– Никогда я их кадром не был! – немедленно вклинился Борис. – У них своя компания! У нас своя!
– Да я знаю, знаю, но не буду же я с ними на эту тему спорить. Только брови удивленно поднимаю, как глупая кукла. Однако, они говорят, нам сейчас нужна о нем кое-какая дополнительная информация в связи с его сложными семейными обстоятельствами, а также в связи с некоторыми странностями в поведении. Ну вот, говорят, например, у нас есть сведения, что он участвовал в распространении антисоветских анекдотов в «Коктейль-холле». Вы слышали что-нибудь об этом? С американскими журналистами держался запанибрата... такие вещи не красят мастера спорта СССР. По последним, вот, данным, завел дружбу с человеком весьма сомнительной репутации, неким Александром Шереметьевым. При наличии родной матери в США, да еще замужем за пресловутым мистером Тэлавером, который сейчас одну за другой антисоветские статьи печатает в машине американской пропаганды, вашему другу построже надо себя держать, пособранней. Ну, я тут сразу начала соловьем заливаться: и какой ты патриот, и как ты нашего Иосифа Виссарионовича любишь, а что же, ведь и есть за что, он нас к победе привел, и с каким презрением ты к американскому империализму относишься, а сама дрожу от страха, как бы сейчас про ночной подарок не спросили. Нет, знаешь ли, не спросили и вообще вопросов мало задавали, мне даже показалось, что они просто хотели через меня как бы на тебя подействовать, сделать такое серьезное предупреждение...
– И вот ты его сделала, – печально произнес Борис. – И вот ты его сделала, – повторил он в острой тоске. – И вот ты его сделала, – в третий раз сказал он, и тут на мгновение его затошнило. Она прижалась к нему, зашептала в ухо:
– Милый, если бы ты знал, как я их боюсь! Я когда их вижу в зале, за микрофон хватаюсь, чтобы не упасть. Но их же все боятся, их нельзя не бояться, ты тоже их боишься, сознайся!
– Я не боюсь, – шепнул он ей в ответ прямо во внутреннее ухо, то есть в отверстие, окруженное дужками внешнего уха, уравновешенными нежной висюлькой мочки, в свою очередь уравновешенной бриллиантовой абстракцией серьги.
Какой странный орган – человеческое ухо, почему-то подумал Борис. И мы все равно находим в нем красоту, если оно принадлежит женщине. Мы его увешиваем серьгой. Первый раз они прижимались друг к другу не для любви, а для того, чтобы их не услышало некое большое нечеловеческое ухо.
– О чем ты думаешь? – спросила она.
– О человеческом ухе, – ответил он. – Такая странная форма. Не понимаю, почему мне оно так нравится.
– А ты знаешь, что мочка уха не стареет? – спросила она, снимая серьги. – Все тело обезображивается, а мочка по-прежнему молода.
В ее природе было забывать побыстрее о всяких гадостях, в частности, о контактах с «органами», что она и делала в данный момент, быстро и деловито снимая серьги, поворачиваясь к Борису, чтобы расстегнул пуговки на спине.
– Вот я вся скоро постарею, скукожусь, а ты все будешь любить мочку моего уха.
О чем только не болтают эти придурки, думал недавно размещенный на чердаке маршальского дома слухач, старший сержант Полухарьев. У него уже барабанные перепонки от оперетты «Мадемуазель Нитуш», через которую он ровным счетом ни хрена не слышал, когда вдруг неизвестно поему заржавевшая с войны аппаратура стала оглушительно передавать любовный шепот про уши. Ну что несут, рычал сержант, как будто попросту поебаться не могут.
Я их не боюсь, все чаще думал Борис. Мне ли их бояться? Ну, в конце концов, посадят. Немедленно убегу, мне это не составит труда. Ну застрелят при побеге или расстреляют по приговору суда, однако я ведь столько раз рисковал своей жизнью за четыре года службы, мне ли бояться такой элементарной штучки, как пуля. Вот пытки, это другое дело, не уверен, что и пыток не боюсь. Нас готовили психологически, как сопротивляться пыткам, однако я не уверен, что я их не боюсь. Нас к тому же знакомили с тем, как вести «активный» допрос. Слава Богу, не пришлось самому никого «активно» допрашивать, однако вспомни: ведь ты же видел, как Смугляный, Гроздев и Зубков допрашивали пленного капитана Балансиагу, хотели узнать его настоящее имя. Нет, я не уверен, что психологически готов к пыткам...
Да что это я себя стал так накручивать? Почему я стал просыпаться среди ночи рядом со своей красавицей и вместо того, чтобы любить ее, лежу и думаю о них? Почему мне раньше никогда в голову не приходило, что она связана с ними? Я живу так, как будто их нет, а они есть, они повсюду. Они даже мою любовь обмазали, хотя она ни в чем не виновна. В чем ты ее можешь обвинить, когда ты сам весь замазан, охотник из польских лесов? Они, наверное, к каждой красивой бабе в Москве подлезают на всякий случай, потому что красивая баба всегда может быть приманкой. Они, как крысы, прожрали все вокруг...
Ну вот, докатился уже до прямой антисоветчины, еще минута – и зашиплю, как мой названый кузен Митька Сапунов: «Ненавижу красную сволочь». Вот парадокс, ненавидел чекистов и коммунистов, а погиб за родину, вот вам простой парадоксишко нашего чокнутого века. Трудно поверить тетке Нинке, будто она видела Митькино лицо в колонне предателей, которых там кончали в овраге, скорее всего, ей просто померещилось: на войне часто кажется, что видишь вокруг знакомые лица. В конце концов разница между отдельными людьми очень небольшая, это особенно видно, когда смотришь на трупы. Инопланетянам, возможно, мы все покажемся на одно лицо, никаких красивых и некрасивых, что Вера Горда, что гардеробщица тетя Клаша, все одно. Жалко Митьку, какой страшной была его короткая жизнь! Мне-то еще повезло, я не видел того, через что он, через что мои родители прошли. Бабушка Мэри и дедушка Бо умудрились среди всего этого бедлама сохранить серебряноборскую крепость. Вот только там-то и не было их. Постой, постой, как это не было их? Ты что, забыл свою самую страшную ночь, когда они уводили твою мать, а ты идиотом смотрел, как накладывают сургуч? Ну да, они, может быть, туда иногда проходили, но они никогда не могли там жить, потому что там Мэричкин Шопен, дедовские книги, Агашины пироги, а они этого не выдерживают и, если не могут сразу разрушить или подменить фальшивкой, тогда испаряются.
Вот так и надо делать – жить так, как будто их нет, создавать среду, в которой они задыхаются. Жить с аппетитом, со страстью, мучить любовью Веру Горду, гонять мотоцикл на предельных оборотах, одолевать медицину, дружить с этим чертовым одноногим суперменом, всем их предостережениям вопреки, танцевать под джаз, пить водку, когда весело, а не когда тошно! В конце концов все здесь у нас, в России, образуется, ведь у нас все-таки не кто иной, как Сталин, во главе, личность исключительных параметров! Значит, я их не боюсь!
Убедив себя, что жить можно только так, без страха, Борис так и старался не бояться, однако то и дело ловил себя на том, что слишком упорно как-то не боится, слишком старается о них не думать, на самом же деле думает почти всегда и не то чтобы боится, но в большой компании почти всегда и почти бессознательно прикидывает, кто тут стучит и как вот в данном конкретном случае может выглядеть информация о поведении Бориса Никитича Градова.
Встречаясь с Сашей Шереметьевым и его друзьями-достоевцами, в том числе и с Николаем Большущим – он оказался вполне приличным парнем, хорошим волейболистом, хоть немного и задвинутым на своей мужской неотразимости, – Борис охотно включался в их беседы о российском гении, которого в те времена выкинули из школьных программ и прибрали с библиотечных полок как «писателя, проникнутого реакционным пессимизмом и мистицизмом, несовместимыми с моралью социалистического общества». И все-таки, встречаясь и включаясь, Борис не раз ловил себя на том, что не одобряет друзей за их игру в некоторое подобие какой-то свободомыслящей организации. Ну, и собирались бы, как сейчас все собираются, под «банку», под селедку, под огурчики, зачем же называть-то себя «кружком Достоевского», зачем тем давать возможность сварить из этого грязное варево?
Ну вот, пожалуйста, что и требовалось доказать! Однажды Сашка пришел к нему и сказал, что его выгнали с работы. Борис ударил кулаком в ладонь:
– Ну вот, доигрались со своим «кружком Достоевского»!
– При чем тут «кружок Достоевского»? – холодно спросил Шереметьев. Борис вдруг понял, что как-то нехорошо в этот момент раскрылся перед другом, показал тому, что, хоть и посещал собрания, всегда все-таки имел какие-то двойные мысли насчет кружка.
– Ну, в общем-то, Сашка, я иногда думал, что в этом есть какой-то риск, вот так называться – «кружок Достоевского», – промямлил он. – Какие-нибудь идиоты могут и подпольщину пришить...
Шереметьев нервно хромал по комнате. Он снова начал отпускать бороду и сейчас с двухнедельной щетиной на щеках напоминал известную фотографию в профиль молодого бунтаря Coco Джугашвили.
– Риск? – хохотнул он. – Ну, что ж, конечно, риск! Совсем неплохое, между прочим, слово – риск!
Оказалось, что к делу о его увольнении из библиотеки «кружок Достоевского» имеет только косвенное отношение. Получилось так, что, пользуясь своим служебным положением, Саша Шереметьев вынес из спецхрана книгу реакционного философа Константина Леонтьева «Восток, Россия и Славянство». Конечно, не первый уже раз он пользовался расположением спецхрановских девчонок, которые и в самом деле видели в прихрамывающем молодом атлете некий байронический тип и прямо умирали, когда Александр на польский манер целовал «паненкам рончики». Обычно книга исчезала из спецхрана на неделю, а за это время знакомая машинистка распечатывала ее в трех экземплярах, которые потом поступали в кружок. Никому и в голову не приходило хватиться какого-нибудь забытого всеми на свете «реакционера», и вдруг случилась инспекция из ЦК или из каких-то других соответствующих органов, обнаружилось опасное несмыкание корешков на спецполках, проверили каталоги, началось ЧП, вызвали девчонок, и те под нажимом признались, что это просто Саша Шереметьев взял – полистать на сон грядущий. Ну вот, все и завершилось изгнанием из рая, да еще с такой характеристикой, с какой и в преисподнюю на работу не устроишься, а это, как ты понимаешь, грозит неприятностями с участковым, с милицией.
– Хреново, – сказал Борис и тоже стал ходить по комнате, только по другой диагонали. В этот момент Вера в оставшемся от Вероники ярко-синем длинном с кистями халате внесла в столовую кастрюлю с дымящимися сосисками. Срезав гипотенузу, по короткому катету Борис подошел к буфету и извлек графин с напитком.
Ни хрена с ним пить не буду, подумал Шереметьев. И зачем я ему все это рассказал здесь, да еще почти при этой шалаве-аристократке с кистями?
Впервые он почувствовал какую-то социальную зависть к старому другу. Почему это у него всегда так все здорово: квартира, в которой заблудиться можно, дед-академик, обе ноги целы, хер в хорошей, постоянной работе?
– Сашка, у меня идея! – вдруг подпрыгнул Борис. – Я вам дам работу! Будете моим личным тренером!
Он быстро развил перед изумленным Шереметьевым простейший и гениальнейший план. В «Медике» он единственный мастер спорта по мотоспорту. С ним носятся, как с кинозвездой. Приближаются зимние мотогонки на льду, у спортобщества впервые появился шанс на медаль. Мне нужен тренер, а тренера в «Медике» нет. Вдруг я случайно налетаю на гениального мототренера, который как раз на этом деле потерял ногу и приобрел огромный опыт. Некий Александр Шереметьев. Практически Александр Шереметьев – это единственный шанс задрипанного «Медика»! В полном восторге совет подписывает с тобой договор и кладет зарплату, о которой ты мог только мечтать в своем хранилище знаний, 1200 рублей плюс талоны на питание во время соревнований.
Секунду или две они смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, бросились к хрустальному графинчику – запить подтекст. Этот скрытый подтекст был отчетливо ясен обоим: не важно, получит Сашка в «Медике» работу или нет, важно, что предложение сделано, значит, дружба сохраняется, значит, Борька Град все еще понимает не только уродство, но и красоту слова «риск»!
«Медик» Шереметьева на работу взял по первой же рекомендации своего чемпиона, и вот теперь, в марте 1951 года, личный тренер мастера Градова замеряет его прикидки, да еще так вошел в роль, что и советы дает строгим голосом.
Между тем на Бориса Градова, делающего круги по ледяному стадиону, смотрели не только всезнающие бездельники-ветераны, но и два человека, что были явно при деле, два полковника ВВС в своих несусветных мерлушковых папахах, больше подходящих для казачьей конницы, чем для современной авиации. Похоже было даже на то, что эти двое пришли на стадион именно по Борисову душу. Стоя на утоптанном снегу второго яруса под огромным лозунгом: «Великому Сталину и родной Коммунистической партии наши победы в спорте!», один из них внимательно, в бинокль, изучал физиономию Бориса, его посадку, его движения и его мотоцикл, второй тем временем пускал в ход хронометр, замерял прикидки и делал пометки в блокноте.
– Ну, что скажешь? – спросил один полковник другого, когда Градов закончил тренировку, передал мотоцикл своему тренеру и пошел в раздевалку.
– Вполне, – таков был лаконичный ответ.
Через пятнадцать минут Борис вышел из раздевалки. Поверх свитера с высоким горлом на нем была его знаменитая на всю Москву американская «бомбовая» куртка. В длинном и широком проходе под трибунами курили два офицера в полковничьих папахах. При виде Бориса оба одновременно загасили каблуками свои папиросы. Это его рассмешило – как будто гангстеры из кинофильма «Судьба солдата в Америке».
– В чем дело, ребята? – спросил он.
– Привет, чемпион! – сказал один полковник. – А мы, собственно говоря, по вашу душу!
– Не продается, – быстро схохмил Борис.
– Что ты сказал? – спросил второй полковник.
– Мы из спортклуба ВВС, – сказал первый, кладя осаживающую ладонь на большую ватную грудь второго.
– Добро пожаловать, – все-таки сказал второй.
– Здоровеньки булы, – ответил ему Борис фразой модного конферансье Тарапуньки.
– Давайте сразу быка за рога, – сказал первый полковник. – По-моему, вам, Борис, спортсмену такого калибра, давно пора переходить из вашего жалкого «Медика» в наш славный ВВС.
– Да ну, что вы, полковник, – улыбнулся Борис. – Я же студент Первого МОЛМИ, так что мое место в «Медике». Кроме того, я отдал армии четыре года жизни, этого и мне, и ей достаточно.
– Это кому это «ей»? – спросил второй полковник.
– Ну подожди, Скачков, – опять первый сдержал второго, потом весь сосредоточился на многообещающем мотоциклисте. – Вы, может, меня не совсем поняли, товарищ Градов? От таких предложений спортсмены сейчас не отказываются. Вы знаете, кто руководит нашим спортклубом?
Борис пожал плечами:
– Кто же этого не знает? Вася Сталин.
– Вот именно! – с энтузиазмом воскликнул первый полковник. – Командующий ПВО МВО, генерал-лейтенант Василий Иосифович Сталин! Никто лучше него не понимает спорт! Мы уже сейчас лидируем во многих видах, а в будущем у нас вообще не будет равных!
Второй полковник тут пошел всей грудью вперед.
– Вот ты прикинь, Борис, что ты будешь у нас сразу иметь. Чин капитана, оклад плюс спортивная стипендия плюс пакеты и премиальные после выступлений. Бесплатный пошив одежды в нашем ателье. – Он сильно и мясисто подмигнул. – Самые модные лепехи заделывают! Путевки на ЮБК и Кавказ, подчеркиваю, бесплатно! Это сразу, а в недалеком будущем отдельная, подчеркиваю, отдельная двухкомнатная квартира со всеми удобствами!
– Ну ладно, – сказал Борис, отходя в сторону под напором. – Это несерьезно, товарищи офицеры.
Первый полковник все же подцепил его под руку:
– Обождите, Борис Никитич. Я вам хочу сказать, что матобеспечение конечно, важная вещь, но для спортсмена – не это главное. Главное в том, что только у нас вы сможете развить свой незаурядный талант мотогонщика.
– Простите, спешу. Позвоните мне по телефону А15-502, – сказал Борис, чтобы отвязаться, но в этот момент в тоннель влился говор многих голосов и шум шагов.
В просвете появилась плотная куча неторопливо приближающихся людей. Из них дюжины две парней были значительно выше остальных, потому что передвигались по бетонному полу на коньках, будучи облаченными в полную боевую хоккейную форму и снабженными главным своим оружием, клюшками. Когда они приблизились, Борис узнал новый состав хоккейной команды ВВС, ведомый все тем же легендарным Всеволодом Бобровым. Месяца два назад старый состав гробанулся разом в самолетной катастрофе возле Свердловска, а Бобров, о везучести которого по Москве ходили мифы, умудрился с девочкой загулять и опоздал на фатальный рейс.