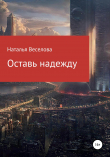Текст книги "Негатив положительного героя (Сборник)"
Автор книги: Василий Аксенов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Таков в общих чертах был этот Абулфазл Фазал, чьи деньги сильно перевешивали его хрупкую фигурку, хотя слегка и уравновешивались трагическим иранским лицом с буревестниками бровей.
В Театр «Ланком» в тот вечер съехалась «вся Москва», вернее, то, что от нее в тот вечер осталось, учитывая «четвертую волну» эмиграции и крушение «железного занавеса». Этот театр еще недавно назывался «Ленком», однако публика в духе времени вроде бы даже не заметила изменения первой гласной, тем более что вместо красной портяночки здесь и впрямь стало попахивать французской парфюмерией.
Давали в тот вечер пьесу под сходным названием «Экскьюзе муа», которое, как и имя театра, давало возможность разных толкований. Действие происходило в морге. Где же еще может происходить действие пьесы 90-х годов? «Цветы зла», как выразился тогда ведущий филолог постсовковизма, пышно расцветали даже на письменных столах профессиональных апологетов добра.
Дело не в пьесе, совсем не в ней. Многие театры начинаются с вешалки, то есть с раздевания в гардеробе, «Ланком» же всегда начинался с перерыва, с прогулки по паркетным фойе. Абулфазл всегда оживлялся в перерывах пьес, вот и сейчас он немедленно задействовал свою перерывную активность и вручил свои визитные карточки двум театралкам, у которых ноги начинались на уровне его подбородка. Девушки сразу поняли, с кем имеют дело, и вспыхнули неподдельным девичьим чувством, ибо не было в Москве ни одной длинноногой девушки, которая не слышала бы о загадочном персидском набобе.
Здесь мы не можем не позволить себе короткого лирического отступления по адресу новых девиц. Откуда они явились на российскую землю в эти смутные времена? Ведь прежде нашу гордую страну можно было назвать чем угодно, но только не питомником высоченных манекенщиц. Красавицы России никогда не отличались чужеродной долговязостью, как вдруг подрос урожай семидесятых, этих жирафчиков с кукольными личиками, постоянно пребывающими в состоянии несколько глуповатой задумчивости.
По мере того как перестройка становилась все более необратимой, их полку прибывало. Некоторые из них позировали на танках во время Августовской революции, предотвращая своим присутствием газовую атаку коммунистического спецназа. Есть что-то таинственное в их наружности, тем более что мужская половина этого поколения не может похвастаться никакими особыми качествами, кроме искусственно выпяченных подбородков. Кто они, эти тонкие и долгие дочки России, что появились так вовремя на высшей точке декаданса, если у этого понятия может быть такая вещь, как высшая точка? Может быть, это своеобразные мутанты, возникшие под влиянием каких-то еще не изученных радиации? Во всяком случае, они теперь заметны повсюду, в том числе и в Театре «Ланком» во время его знаменитых перерывов.
Кроме девиц присутствовали здесь также и многие представители новой администрации, то есть представители старой администрации, поменявшиеся друг с другом местами, то есть слагаемыми суммы. Были и лица, сильно взметнувшиеся к вершинам из худосочия прежней командно-административной системы. Так, например, в толпе солидно прогуливался подполковник Зубцов, знакомый Фазы еще по рязанской школе высших наук. Еще недавно этот Володька Зубцов за триста двадцать рэ мудачил в Пятом управлении комитета, а теперь вот заседает в новой рыночной структуре «Рострум-траст», торгует «дизелькой» и тем, что на этой «дизельке» быстро ходит по небу, то есть реактивными перехватчиками. В комитетские времена этот хмырь Зубцов навытяжку тянулся перед каким-нибудь генералом идеологического сыска Бобцовым, а теперь этот сумеречный генерал у него на подхвате, консультантом, то есть просто чтобы не сдох в период отвязанной инфляции.
Зубцов, похоже, хотел ограничиться солидным, едва ли не вельможным кивком в адрес Фазала, однако тот сразу напомнил ему о субординации, пригласив приблизиться легким спуском правого века и еле заметным сгибательным движением ладони. Зубцов тут же сообразил, что неправильно себя повел. За годы работы в своем сраном комитете он усек, что в мышечной системе человека недаром имеется в два раза больше сгибателей, чем разгибателей. И немедленно подскочил на цирлах.
Такова была постоянная тактика Фазы на подобных московских тусовках. Будучи крошкой и всегда опасаясь, как бы не затерли бокастые и жопастые мужланы полупреступных сфер, он разработал немало способов создания вокруг себя определенного пространства, в котором доминировал. Так и сейчас, на десятой минуте ланкомовского перерыва вокруг него оформился кружок отечественных и иностранных проходимцев, изъяснявшихся на International Commercial English и обращавшихся к нему за уточнениями. Разговор вылеплялся примерно вот в таком стиле: «А ты его на хер пошли выз сач пропозышнз! Уот эбаут Ебург прайм рэйтс, Дык? Вова, белив ми, там на тебя наедут! Каман, Марчело, уи эр ол хьюман бынгс...»
Разговаривая в таком стиле, Фазал высматривал, куда пропал друг, «альбатрос богемы» Модест Орлович, и, найдя его наконец в окружении «своих», то есть актеров, писателей и художников, бросил денежную шпану и немедленно к ним устремился, к своим. При всех своих финансовых, торговых и еще неизвестно каких мероприятиях он все-таки считал себя человеком московской богемы. «Олег, Сашка, Ниночка, Ляля, Витюха, эй, после спектакля не разбегаемся, о’кей, дальше двинем, лады?»
В этот как раз момент из глубины фойе ухмыльнулось ему толстогубое и неумолимое наваждение, что месяц назад вдруг вынырнуло, то ли из подполья, то ли из подсознания, в Долине Бекаа. Уже тогда он понял, что, как бы мимолетно оно ни пролетело, от него не уйти, что адресовано оно лично ему, маленькому воспитаннику Ивановского спецдетдома, что никакие дяди теперь уже его не защитят.
Гремел третий звонок. Публика, начисто забыв первое отделение пьесы «Экскьюзе муа», перлась на второе, а Фаза, потеряв эквилибриум – вот именно, эквилибриум! – нелепо разъехался на навощенном паркете. Руками хватался за гладкую поверхность, а руки скользили, как будто и ладони превратились в итальянские полированные подошвы. Что меня тогда туда понесло, прямо в пасть? Вечно я ищу на свою маленькую жопу больших приключений. Он бормотал чепуху, как будто речь шла просто о просчете, о неправильной стратегии, то есть о вещах хоть и ужасных, но поправимых, бормотал, бормотанием отгоняя подспудную уверенность в неотвратимости гнуснейшего, грязнейшего наваждения, уверенность в том, что и вне Бекаа-Вэлли оно бы появилось перед ним как завершение какой-то тысячеходовой бессмысленной манипуляции.
Еще утром, когда его команда заправлялась бензином без очереди на станции «Ажип», толстогубая ухмылка мелькнула перед ним за крышами десятков машин и мгновенно растаяла, оставив его со сбившимся дыханием и затрепетавшим пульсом и с твердым ощущением того, что вот теперь-то на него окончательно «наехали».
Весь день, пока ездили по идиотским многомиллионным делам, он рыскал взглядом во всех направлениях, подавлял трепетание порциями коньяку, но ничего больше не замечал. Глава охраны Кеша Тригубский, человек с железной башкой гонщика и скалолаза, и тот заволновался: «Где-то непорядок, шеф?» Фазал прикрыл ладошкой маленький шарикоподшипник уха, принадлежащего шварценеггеровидному человеку: «Кеша, на меня наезжают!»
«Кто? – выстрелил вопросительной ракетой Тригубский. – Только скажи, сейчас же поедем, разберемся по-хорошему. Башку в пакете привезем, если прикажешь».
Эх, Кеша, Кеша, рыцарь охраны, как я могу ответить на твой вопрос? Кто может на него ответить? Москва, которая столько уж лет была у Фазы за пазухой, теперь стала выпирать дикобразными иглами. Да ведь не ехать же к тем, первичным дядечкам, за протекцией! Да ведь их, наверное, на прежних-то местах и не осталось, рассосались все по коммерческим структурам. Да и вообще чего от них ждать!
К концу дня измученный Фаза решил отправиться к «своим», то есть к теплому корешу, «альбатросу богемы» Модику Орловичу. Модька ведь и сам к нему иной раз притаскивался потрепетать о своих собственных «глюках». Толстомясая ухмылка может быть забыта, если раскрутить, как в прежние времена, хороший артистический дебош. И впрямь, мастерская в Китай-городе, потный хлопотливый Модест, театр, антракт, новые девушки – все это вроде бы укрепило вегетативку, как вдруг в самый неожиданный момент оно снова ухмыльнулось ему, и вновь вокруг и внутри стал раскручиваться серпантин Долины Бекаа, населенной убийцами сверх всякой меры. Интродукция и рондо-каприччиозо, почему-то пробормотал он, пытаясь на всех своих скользящих добраться до угла опустевшего теперь фойе.
Художник Орлович, во время антракта в болтовне, конечно, забывший отлить, теперь спешил из туалета в зрительный зал и на ходу задергивал главный подъезд своих длинных штанов. Вдруг увидел в углу скорчившегося Фазу, своего лучшего друга, о котором, надо признаться, никогда не думал, пока тот сам не появлялся. При его появлении Орлович, надо сказать, всегда испытывал смутные угрызения совести. Вот, я о нем не думаю, а он хочет со мной общаться. А ведь он мне, между прочим, ящик денег подарил, которые мы даже не пересчитали.
Хотел было проскакать в рассеянности, как бы в борьбе с ширинкой, мимо друга, однако косячком заметил его глаза лошадиные. Замер на бегу и увидел: «за каплищей каплища по морде катятся, прячутся в шерсти»... Разными приемами представляя читателю международного дельца, гражданина Исламской Республики Иран и постоянного резидента Российской Федерации Абулфазла Фазала, мы все-таки до сих пор еще не упомянули его плотную бородку, обтягивающую нижнюю часть лица, как своеобразное трико.
Не знаем, что имел в виду поэт, говоря о том, что у упавшей лошади «каплищи» прячутся в шерсти. Может быть, гриву? Но тогда переворачивается вся картина упавшей лошади. Мы же, употребляя здесь широкоизвестную цитату, не допускаем никакой поэтической вольности. Слезы просто стекали из глаз Фазы и прятались в его бороде.
«Модик, умоляю, пойдем отсюда! В этом театре что-то такое есть... нетипичное... Давай сваливать!» Дружба часто измеряется рубахою. «Последнюю рубаху другу отдаст», ну и так далее. Орлович тоже тут прибегнул к рубашечным критериям. Выпростал подол из штанов и вытер оным другу измученное влагой лицо.
Началась типичная для этого круга людей московская ночь, из тех, что иногда весь этот сброд называл «сдвиг по Фазе». Поехали куда-то на «Мерседесе» в сопровождении уже не одного, а двух полувоенных автомобилей. Фаза глотал коньяк из выдвижного бара, да и Модест не отставал. По сафьяновой книге султан звонил своим пэри в разные концы Москвы, в пригороды, в Санкт-Петербург, иногда и за границу, в частности, по лозаннскому телефону некоей Розали, которой говорил: «Дарлинг... бэби... заткнись, бляди кусок, я знаю все!»
Иногда караван останавливался возле какого-нибудь подъезда, и оттуда выпархивала, дыша духами «Мистик», то есть почти впрямую «духами и туманами», нимфа сексуальной Москвы. Приникала к измученной щеке покровителя, шептала: «Милый... Фазочка... что с тобой... ну ничего-ничего, мы вместе...» Таких заездов Модест насчитал пять или семь. Пришлось потеснить охрану в их вездеходах.
Чтобы не рассусоливать эту сладкую жизнь вдоль бывшей Горькой улицы (мы ведь не раз тут уже рассусоливали, тут и репутацию навек погубили), перечислим лишь кратко те места, по которым прошла наша ночная экспедиция. Ну, разумеется, «Метрополь», где в Морозовском зале устаканивали фонтаны шампанского «Дом Периньон» под блины с кавиарами. Ну джаз-клуб «Таверна Аркадия», где друзья молодости Алекс Козлоу и Герман Лукиан, похожие на профессоров среднеатлантических колледжей, вместе со своей ритм-группой, похожей на студентов тех же колледжей, приветствовали компанию ностальгической бравурой Now’s The Time. Ну и, наконец, наиболее, так сказать, скандально известный притон Moscow Flights, что можно перевести, хоть и неточно, но близко к сути, как «Московские Атасы».
Когда Тригубскому назвали последнее направление, он нахмурился. «Это серьезно, шеф, – предупредил он. – „Атасы“ в четыре утра и с нашим контингентом – это очень и очень серьезно, дорогой шеф!»
Сваливать надо, с порядочным уже унынием думал художник Орлович. Любовью он был в своей жизни более чем сыт, даже и пить – вот такая чепуха – больше в эту ночь не хотелось. Даже уже и верные пэри начинали очаровательно позевывать, а те, что поближе, шептали в маленькие ушки: «В постельку, Фазик, в Барвиху, котик?» Абулфазл, однако, был неутомим и неумолим. Этот цикл должен быть завершен, как в лучшие времена, решил он и твердой рукой направил экспедицию к известному дому в окрестностях Пушки, над которым когда-то парила каменная дева социализма, а теперь сияет тавро рынка недвижимости, Малка, еврейская царица.
По телефону из машины были уже заказаны столы. Отказать Фазе, конечно, нигде не могли, однако с некоторой истерической надеждой попросили: «Может, перенесем на завтра? У нас тут сейчас неспокойно, друг!» «Вот и хорошо, что неспокойно! – взвизгнул в ответ Фаза. – Мы покоя не ищем!» Он ткнул Тригубского в железную спину: «Скажи ребятам, чтоб были наготове!» Почему-то он был уверен, что в этой дискотеке, в этом почти незамаскированном борделе, где телок снимают по три сотни баксов за штуку, вот именно в этих «Атасах», и произойдет решительное столкновение с глумливой толстогубой улыбкой из Долины Бекаа. Прятаться не буду, думал он, от вас не спрячешься.
«А ты бы меня сбросил, Фаза, а? – предложил Орлович. – Знаешь, тянет к холстам. Вдохновение какое-то посетило, боюсь упустить».
«Разве тебе не интересно, друг, присутствовать при закате Фазы?» – усмехнулся тут друг, да так холодно и отчужденно, как будто вовсе и не богатый жулик, как будто что-то в нем открылось врубелевское, по всем оттенкам лилового, как будто маленький демон.
Возле входа в бардак стояло отделение ОМОНа, десять молодцов в белых касках. Стояли вольно, курили «Мальборо». Похабными взглядами проводили девичью свиту, четырнадцать великолепных ног. Внутри оглушительно ухала колотушка музыки. В пятнах света извивалась ламбада, показывала товар лицом. Жадная толпа мужских хищников медленно приближалась к вновь прибывшим. Семеро девушек преданно стояли за спиной своего маленького набоба, делали вид, что хищнические инстинкты местной своры не имеют к ним никакого отношения. Тригубский со своими «альфистами» выдвигался на передовую позицию.
Дежурный по залу, господин Фаддеев, сам человек с богатым прошлым, солидно пожал руку дорогому гостю, после чего сообщил с полублатным наклоном, что атмосфера сгущается. Пришли три «афганца» и положили на стол штуку баксов. Давай, говорят, шеф, работай! Нам надо эту штуку за два часа устаканить. Тащи три ботла «Белой лошади», три ботла «Чинзано», три упаковки пива и «Наполеон», только, падло, неразбавленный! Остыньте, ребята, остыньте и спрячьте ваши баксы под камуфляж, такой им дается сейчас совет. Тут бутылками не обслуживают. В дискотеках обслуживают дрынками, ясно? Может, вам в задней комнате накрыть, господин Фаза, с вашим комсомолом?
«Дорогу!» – коротко, как сами видите, сказал Абулфазл Фазал и пошел прямо на мужскую стену. За ним все четырнадцать туфелек зацокали.
«Прошу внимания! – в отчаянии закричал диск-жокей. – Дамы и господа, отдадим дань ностальгии! Белый вальс! Приглашают девушки!»
Началось давление нескольких противостоящих мужских масс, и художника Орловича каким-то чудом вынесло на улицу. Быстро зашагал в сторону. С горечью думал: мне там нечего делать. Пусть Фаза один наслаждается своей гибелью. Ничем не могу ни отдалить, ни приблизить. Мы все-таки даже не смежники. Я художник красок, а ты художник денег. Вот когда умру и мои цены в ебаном Соцебу пойдут на лимоны, тогда мы сомкнемся, тогда мы сомкнемся. Сейчас мы далеки. Даже твои девушки мне чужды, слишком хороши. Никакого сравнения с Музой Борисовной или Птицей-Гамаюн, не говоря уже о чистейшей Кимберлилулочке! Тебя, мой друг, защищает центурион Тригубский, а мне ОМОН первому проломит голову. Все знают, что я противостоял бульдозерам в борьбе за родное искусство. Не из-за страха сейчас ухожу, а из-за непричастности. Хватятся: где Орлович? Попробуйте догадаться. Где же ему быть, если не в суровом своем ателье, не у сурового холста, не над крышами своего перевернутого града?!
В девятом часу утра Абулфазл Фазал добрался наконец до своего соснового оазиса в поселке Барвиха. Хаотическая разборка в «Московских Атасах» закончилась, как ей и надлежало, установлением его полного господства. Хоть и без Модика, но со всеми своими девушками он пил шампанское и с удовольствием смотрел, как протаскивали по полу и вышвыривали на Тверскую всяких там то ли настоящих, то ли фальшивых «афганцев». В целом все получилось недурно. Несколько раз откуда-то куда-то стреляли, однако у Фазы в целом не осталось никакого зловещего осадка. Гибельная рожа так и не выплыла и не повисла перед ним, даже и не промелькнула, как дважды случилось за прошедший день, хотя, если уж и завелась эта пакость в Москве, где же еще ей осесть, как не в «Атасах».
К рассвету Фаза развез по домам всех своих пэри и, к удивлению последней, пятнадцатилетней отличницы учебы Анюты, остался один. Везти приказал себя в Барвиху, к розовеющим уже восточными щечками соснам.
Дача, словно живая, шестью большими окнами смотрела, как он приближается к ней по асфальтовой дорожке. Он знал, что, когда откроет дверь, жилище заиграет для хозяина какую-нибудь музыку. Однако какую в этот раз? Прокофьева ли, Россини ль, что-нибудь из барокко? Нехитрое это устройство с музыкальным приветом он внедрил повсюду, где у него были дома: и в Лозанне, и в Париже, и на острове, извините за выражение, Ибица.
Поворот ключа, и мгновенно начинается мощный скрипичный концерт, «Интродукция и рондо-каприччиозо» Сен-Санса. Вот этого он почему-то не ожидал. Или как раз этого и ждал? Растерянность втянула его внутрь, и он начал ступать как бы в ритме скрипок – не слишком ли поспешный ритм? – от дверей к лестнице, по ковру, пересекая чуть колеблющийся узор, отпечаток рассвета.
«Фаза, – тихо позвал сзади Тригубский. Он стоял с пистолетом в вытянутой руке. – Прости, не хотел в спину», – сказал он с симпатией.
«Ты не прав, Кеша! Ты не прав! Ты ошибаешься!» – вскричал Абулфазл. Концерт продолжался. Еще два-три такта, и он должен был замереть, уступив место тишине большого дома. У Тригубского больше нечего было сказать, и Абулфазл начал ловить пули. Одна, другая... В этот момент все окна дачи залепила мясистая улыбка Долины Бекаа. Третью пулю он поймал ртом.
На панихиде много говорили о вкладе, который Абулфазл Фазал внес в развитие экономики, а также в науку менеджмента, эту новую отрасль знаний в возрождающейся России. Модест Орлович был весьма удивлен: оказалось, что его покойный друг был не только бизнесменом, но и теоретиком бизнеса. Под разными псевдонимами он напечатал в журналах Востока и Запада статьи, повлиявшие на общий поворот мирового рынка восьмидесятых годов. Один из ораторов отметил также, что, чужеземец по рождению, Абулфазл Фазал был подлинным патриотом России и всегда настаивал на особом пути, которым должна идти к счастью его вторая родина.
«Грустно», – сказал стоявший рядом с Орловичем верный оруженосец Фазы Кеша Тригубский, одетый, как и все присутствующие, в строгий однотонный костюм.
III. Досье моей матери
Архив Татарии. Портрет Дзержинского.
Все те же арии.
Либретто свинское.
Давно уж дуба дал дух коммунарии,
Шамиев шубу сшил,
Дыр бул шил,
Персек Татарии.
Колода тленная, а масть крапленая.
Башка у Ленина теперь зеленая.
Ислам марксистовый в склоненье дательном.
Калым неистовый. Чекист старательный.
Воняет охрою, тряпьем, говной,
И те же вохровцы на проходной.
Да, нет-нет, это, конечно, просто эмоциональное, предвзятое, необъективное. Конечно, многое изменилось даже здесь, на волжском «острове социализма». Кто бы тебя сюда раньше пустил? Читать досье матери из архива «Черного Озера»? Отправили бы полечиться. Теперь ты приходишь вместе с профессором Литвиным, и вохра тебя как бы и не замечает. Больше того, за тобой вкатывается московская киногруппа – Света, Сережа и Катя. Ничего особенного, просто съемка эпизода «Ознакомление Аксенова с делом его арестованной в 1937 году матери».
Тому кусок истории назад
Товарищ Бекчентаев выбрал папку.
Она была сера, как весь совдеп,
Как курс истории марксизма-ленинизма.
Вот вам энкавэдэ, вот стойкость матерьяла:
Кусок истории прошел, истлели судьбы,
А папочка с тесемочками, курва, цела.
Я родился на улице тишайшей, что Комлевой звалась в честь местного большевика, застреленного бунтующим чехословаком. Окошками наш дом смотрел в народный сад, известный в городе как Сад Ляцкой, что при желании можно связать и с ляхом.
Поляк и чех присутствовали здесь, и стало быть, Центральная Европа каким-то образом тут прогулялась. Мы говорим «Центральная», поскольку Татарское Заволжье, господа, географически еще Европа.
Наш скромный дом соседствовал с шикарнейшим модерном в три этажа. Там на фронтоне зиждилась скульптура, ошеломлявшая дитя, когда бы ни взглянул. Скульптура такова: стеклянный шар земной в широтах и меридианах, а на нем верхом орел, простерший два крыла отменной бронзы. Не понимая, что к чему, ребенок застывал перед фронтоном, и всякий раз при взгляде на орла ему хотелось пить.
Ребенок, словно собачонка,
Не очень часто замечает небеса,
Но вот однажды, вскинув головенку,
Он видит: темная большая колбаса
Плывет над садом. Дикая картина,
Не черт, не шут, акула, но без жабр...
Тут слышится над ним басок партийный:
Се гордость родины, советский дирижабль!
Неделя не прошла, как в том же небе —
Июльско-серый свод над купами дерев —
Восьмимоторный монстр, кумирня плебса,
На Азию прошел, триумфом проревев.
Ребенок созерцал свой переулок главный,
Свой главный окоем и в центре главный дом,
Тот обреченный дом Евгении и Павла,
Где рост его отмечен был мелком
На дверце спальни, где ружьем с липучкой
Был он к пяти годам вооружен
И где в конце концов замок сургучный
Чекистом тихим был сооружен.
Следовательские подписи под протоколами допросов: Бекчентаев, Елыпин, Веверс – безымянная чекистская шелупень, обретшая имена и даже лица благодаря одной из множества их подследственных, отправленных либо на Колыму, либо в подвал, где тюкали пачками для выполнения плана террора. Сволочь сереньких папочек с кальсонными тесемками, превратившаяся на страницах «Маршрута» из мерзостной чернильной размазни в персонажей кириллицы, латиницы и японских иероглифов. Не подозревая о будущей трансформации, хмыри подшивали к делу фотографии своего автора, которого они наверняка между собой называли «эта евреечка». Анфас и в профиль. Ей было тогда тридцать два года. Взгляд затравленного подростка, бабушкина «кофтюля» на исхудавших плечах.
Переворот еще нескольких страниц, и из дела выпадает фотография «троцкистского» демона казанской интеллигенции, профессора Эльвова. Я столько раз слышал это имя, а вижу его впервые. Круглая, несколько бабелевская физиономия, во всяком случае, истинно бабелевские круглые очки. Шевелюра, однако, не бабелевская, густая и волнистая. Рубашка без воротничка. Как они поступали с отобранными воротничками? Социалистическая законность, очевидно, требовала заприходовать всякую мелочь. Тщательный поиск может обнаружить на «Черном Озере» и воротничок профессора Эльвова. Снимки сделаны, должно быть, еще до начала пыток. И профиль, и фас еще хранят ироническое недоумение, то самое радековское выражение лица, которое так ненавидел Сталин. С этим антисталинским выражением лица, с чемоданами философии и джазовых патефонных пластинок, в очках европейской «левой», член оппозиции прибыл в ссылку, в Казань. Это было в начале тридцатых, в год моего рождения или чуть позднее.
Тихо жужжит закрепленная на штативе камера. Оператор в майке американского университета весело подмигивает: «Больше трагизма, Василий Павлович!»
Жив ли еще трагизм в грязно-кальсонной папке? Первоисточник симфонии «Маршрута». «Когда б вы знали, из какого сора...» Клаустрофобия гэбэшного архива распахивается на Колыму. Недаром мать особенно любила строчку: «Остальных пьянила ширь весны и каторги». Так поет трагедия. В конце пути возникает Франция. Только там, быть может, ей удалось хоть ненадолго забыть этот советский архив.
Из инвентарного списка реквизированных
при обыске квартиры вещей:
Костюм суконный, хороший.
Пальто женское, с меховым воротником.
Патефон, сто пластинок.
Игрушки детские, один ящик.
Полные собрания сочинений Л.Н.Толстого,
А.П.Чехова, А.С.Пушкина, Ф.М.Достоевского,
И.Канта...
«Вещи в себе», солидные издания «Академии»,
Увязаны шпагатом в чекистский бант.
С Достоевским все ясно, русская эпидемия,
Однако при чем здесь профессор Иммануил Кант?
Познать непознаваемое, экая премудрость!
Сделал опись при понятых, наляпал сургуч.
Что бы там ни говорили ницшеанские Заратустры,
Ленин был прав, внедряя наш «Всеобуч»!
Изъятая философия перестает философствовать,
Превращается просто в объем и вес.
Человек подлежит дознанию, тщательному следствию.
Собака любит мясо, а лошадь овес.
Из маминой папочки папочкины выпадают некоторые заявления и письма. Значит, несмотря на изоляцию супругов и десять тысяч километров тайги и тундры, между их папочками в казанской гэбухе существовал контакт. Вот и фото отца лагерного периода, анфас и в профиль, суворовский хохолок, в губах ирония, но не радековская, а общенародная, которая, быть может, его и спасла. Здесь же справка об ударной работе в управлении «Интауголь». Равнение на передовиков! Красная сволочь даже не думала о цинизме таких наград. Напротив, они ей казались проявлением человечности.
Наконец, из папочки выявляется и сам почти почетный посетитель, ныне почти почтенный писатель, снимаемый в данный момент для биографического фильма. Совершенно секретно. Март 1951 года. МТБ Татарской АССР запрашивает из Магаданского отдела МТБ копию дела Е.С. Гинзбург в связи с началом разработки ее сына Аксенова В.П., студента первого курса Казанского мединститута.
Так они начали и меня работать,
Хряки пролетарской революции, дети Свиньи,
В шевиотовых, с лампасами, штанах санкюлоты,
Матери своей многососковой похрюкивающие сыны.
А я разгуливал в закатный час по Казани,
Чьи шпили предполагали на Западе и Нью-Йорк, и Париж,
Уже подготовленный к революционному наказанию,
Не подозревающий, что вместо судьбы мне приготовлен шиш
Этой ебаной революции и воронок трехтонки...
Через сорок с чем-то я молча воплю:
«Не получилось, суки!»
По матери, и по отцу, и по профессору Эльвову на гэбэшные картонки
Я слезы невидимые, но сверхкислотные лью
И задыхаюсь от скуки.