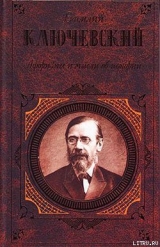
Текст книги "Афоризмы и мысли об истории"
Автор книги: Василий Ключевский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
Власть без ясного сознания своих задач и пределов и с поколебленным авторитетом, с оскудевшими материальными и нравственными средствами, общественное мнение, питавшееся анекдотами и пересудами, без чувства личного и национального достоинства, весь порядок, державшийся страхом и произволом и направляемый, по выражению Н. Панина, «более силою персон, нежели властью мест государственных», при крайне низком уровне гражданского чувства и сознания общего интереса, без любви к отечеству, – в таких чертах можно представлять себе, по рассказам людей екатерининского времени, наследство, доставшееся Екатерине II от эпохи временщиков и случайных правительств.
Люди второй половины XVIII в., так гордившиеся своим превосходством перед отцами в образовании и общежитии, естественно, наклонны были лучше помнить темные, чем светлые, стороны ближайшего к ним прошлого. Эта наклонность могла быть сама по себе только благоприятна для Екатерины: о первых шагах ее по воцарении должны были судить по сравнению ее с ближайшими предшественниками. В этом отношении чего стоило одно царствование Петра III! После него надобно было уметь царствовать непопулярно. Но Екатерине нельзя было пользоваться властью по-прежнему. Прежде власть привыкла искать самых надежных опор порядка в силе и угрозе, наиболее действительных народно-исправительных средств – в наказаниях. Екатерине надобно было искать таких опор и средств совсем в другом порядке влияний, обратиться к другим народновоспитательным приемам, более тонким, чем кнут и ссылка, и более справедливым, чем конфискация. По своему происхождению и воспитанию, по своей судьбе, по своему образу мыслей, наконец, она была слишком нова для России, чтобы сразу войти в привычную туземную, исторически пробитую колею. Она сама это сознавала и в первый год царствования признавалась французскому послу Бретейлю, что ей нужны годы и годы, чтоб ее подданные привыкли к ней. Притом ей нужно было слишком многое оправдать в своем положении, чтобы предупредить попытки повторить против нее соблазнительное дело 28 июня. Властью, так приобретенной, как она была приобретена, нельзя было пользоваться втихомолку. Но было недостаточно и привычной беседы с народом в области уголовного права. Предстояло объясниться с обществом прямо, начистоту и даже ввести такое объяснение в обычный порядок управления, чтобы привести политику «в пристойную знатность пред публикою», как внушал Н. Панин. Словом, надобно было обратиться к умам и сердцам, а не к инстинктам. В цепи отношений, связующих власть с обществом, не было одного важного звена, которое Петр I пытался вставить, но которое после него не было закреплено и выпало. Это звено – народное убеждение, совместное дело власти и общества, слагающееся, с одной стороны, из сознания общего блага, с другой – из уменья внушить это сознание и уверить в своей решимости и способности удовлетворить потребностям, составляющим общее благо. Екатерина понимала, как важно для успеха правительственных мер согласить с ними народное разумение. Объясняя Вольтеру некоторые статьи своего «Наказа», она писала, что единственное средство для законодателя заставить всех слушаться голоса разума, – это убедить, что его требования совпадают с основаниями общественного спокойствия, в котором все нуждаются и польза которого всякому понятна. Продолжая попытку Петра, Екатерина в эту сторону прежде всего направила свои усилия. Но, обращаясь к разуму народа, Екатерина будила в нем и чувства, которые способны были еще сильнее склонять умы на сторону законодателя.
Так предпринята была Екатериной достопамятная кампания, целью которой было завоевать народное доверие и сочувствие. Эта кампания велась выходами, поездками, разговорами, учащенным присутствием на заседаниях Сената, более всего указами и манифестами. Начиная с манифестов 28 июня и 6 июля 1762 г. о воцарении при всяком удобном случае – в указах о взяточничестве, о разделении Сената на департаменты, в манифесте о заговорщиках, в рескриптах русским послам и губернаторам, даже в частных беседах – настойчиво заявлялось о происхождении нового правительства, о его намерениях и заботах, о том, как оно понимает свои задачи и свое отношение к народу. Прежде всего предстояло выяснить источники приобретенной власти. Новое правительство было горячо приветствовано общественным мнением, и общественное мнение было провозглашено законным политическим фактором, органом народного голоса, его приветствие, скрепленное присягой, формальным актом народного избрания. Манифест 28 июня гласил, что императрица принуждена была вступить на престол, побуждаемая опасностями, какими грозило всем верноподданным минувшее царствование, «а особливо видев к тому желание всех наших верноподданных явное и нелицемерное», потому престол принят «по всеобщему и единогласному наших верных подданных желанию и прошению», как было прибавлено в рескрипте о восшествии на престол русскому послу в Берлине для сообщения тамошнему двору. Бецкий простодушно думал, что 28 июня совершился привычный гвардейский переворот, которому он сам содействовал, подговаривая гвардейцев и разбрасывая деньги в народ, и потому считал себя главным его виновником. Раз, вторгнувшись к Екатерине, он на коленях умолял ее сказать, кому она считает себя обязанной своим воцарением. «Богу и избранию моих подданных», – был ответ, который поверг Бецкого в совершенное отчаяние, так что он начал было снимать с себя александровскую ленту, считая себя недостойным этого знака отличия при таком непризнании его заслуг. Так как перемена на престоле произведена была, по словам манифеста, для избавления отечества от опасностей, какими грозило прежнее царствование, от потрясения православной веры, уничтожения русской славы и чести, ниспровержения внутренних порядков и даже «от неизбежной почти опасности империи сей разрушения», как выразился в одном документе сенатор А. П. Бестужев-Рюмин, то на медалях в память коронации Екатерины была сделана надпись: «За спасение веры и отечества». Церковные проповедники, особенно архиепископ новгородский Димитрий Сеченов, первый член Святейшего Синода, еще смелее и восторженнее провозглашали Екатерину защитницей веры, благочестия и отечества, восстановительницей чести и достоинства своих подданных, «всех скорбей и печалей наших окончанием» и признавали событие 28 июня делом Божиим, чудным строением не человеческого ума и силы, но Божиих несказанных судеб и его премудрого совета. «Будут чудо сие восклицать проповедники, – говорил в коронационном слове архиепископ Димитрий, – напишут в книгах историки, прочтут с охотою ученые, послушают в сладость некнижные, будут и последние роды повествовать чадам своим и прославлять величие Божие». Екатерина, разумеется, охотно усвоила взгляд церковных проповедников на дело 28 июня и думала увековечить его в законодательстве как достопамятный исторический факт: в сохранившемся собственноручном черновом проекте манифеста о престолонаследии она писала, что чудный Промысел Всевышнего «вручил нам самодержавство сей империи образом человеческим предвидением непостижимым».
На восторженные приветствия Екатерина отвечала решительным осуждением павшего правительства и заявлением широкой программы и совершенно нового направления начавшегося царствования. В манифестах и указах читали о вреде самовластия и гибельных следствиях, какие от самовольного, необузданного и никакому человеческому суду не подлежащего властителя произойти не могут. С высоты престола пред Богом целому свету сказывалось, «что от руки Божией прияли всероссийский престол не на свое собственное удовольствие, но на расширение славы его и на учреждение доброго порядка и утверждение правосудия в любезном нашем отечестве», заявлялось правило неоспоримое, что тогда только обладатели государства прямо наслаждаются спокойствием, когда видят, что подвластный им народ не изнурен от разных приключений, а особливо от поставленных над ним начальников и правителей, возвещалось искреннее и нелицемерное желание прямым делом доказать, «сколь мы хотим быть достойны любви нашего народа, для которого признаваем себя быть возведенными на престол», и наиторжественнейше обещались императорским словом государственные учреждения прочные, на законах основанные, и выражалось упование предохранить этим целость империи и самодержавной власти, «бывшимнесчастием несколько испроверженную, а прямых верноусердствующих своему отечеству вывести из уныния и оскорбления». И все это с уверениями в ежедневном материнском «о добре общем» попечении. Власть была достигнута переворотом не во имя права, не лицом династии, неправильно устраненным, как при воцарении Елизаветы, была захватом, а не возвратом права. Казалось бы, такой акт нуждался в оправдании, с ним надобно было как-нибудь примирить общество. Екатерина не делает ни того, ни другого: оправдывать приобретенную власть значило бы напрашиваться на сомнение в правильности ее приобретения; стараться примирить с ней общество значило бы заискивать у противников, выпрашивать у них то, что уже было взято, наводить на мысль о ненужности случившегося, в том и другом случае ронять авторитет власти.
«Наказ» был систематическим изложением начал, которые заявлялись в манифестах и указах первых лет, приступом к исполнению наиторжественнейшего обещания, данного в манифесте 6 июля 1762 г., установить государственные учреждения, в которых управление шло бы по точным и постоянным законам. Многое в нем по новизне предметов могло показаться большинству читателей невразумительным, иное – неожиданным. Сам автор предвидел, что некоторые, прочитав «Наказ», скажут: не всяк его поймет. Непривычным к политическому размышлению умам нелегко было усвоить и объединить четыре определения политической свободы, одно отрицательное и три положительных. Государственная вольность по «Наказу»: 1) не в том состоит, чтобы делать все, что кому угодно, 2) состоит в возможности делать то, чего каждому надлежит хотеть, и в отсутствии принуждения делать то, чего хотеть не должно, 3) она есть право все то делать, что законы дозволяют, и 4) есть спокойствие духа в гражданине, происходящее от уверенности в своей безопасности. Русские умы впервые призывались рассуждать о государственной вольности, о веротерпимости, о вреде пытки, об ограничении конфискаций, о равенстве граждан, о самом понятии гражданина—о предметах, о которых рассуждать дотоле не считалось делом простых людей, – а те, чье это было дело, рассуждали о том очень мало. Всего более должны были поразить русского читателя те статьи «Наказа», где власть определяет самое себя, свое назначение и отношение к подданным. Слова сами по себе не могут составлять преступления по оскорблению величества; в самодержавии благополучие правления состоит отчасти в кротком и снисходительном правлении; великое несчастье для государства, когда никто не смеет свободно высказывать своего мнения; есть случаи, где власть должна ограничивать себя пределами, ею же самою себе положенными; лучше, чтобы государь только ободрял и одни законы угрожали; самодержавство разрушается, когда государь свои мечты ставит выше законов; льстецы твердят владыкам, что народы для них сотворены, «но мы думаем и за славу себе вменяем сказать, что мы сотворены для нашего народа, и по сей причине мы обязаны говорить о вещах так, как они быть должны».
«Никогда еще монархи не говорили с подданными таким пленительным, трогательным языком», – восклицал Карамзин в своем «Похвальномслове», воспроизводя впечатление первых русских читателей «Наказа». И сама власть, кажется, никогда еще не принимала в России такого облика и не становилась в такое отношение к обществу, как в екатерининских указах первых лет и в этом «Наказе». Она привыкла только требовать жертв от народа; теперь она за славу себе вменяла жертвовать собой для народа. Общее благо, прежде поглощаемое властью, теперь в ней олицетворялось. Она непосредственно обращалась к народу или с признаниями в принимаемых на себя обязанностях, или с проповедью новых руководящих ею начал и понятий. Ее указы – чаще изложение оснований общежития, уроки политического благонравия или обличения чиновничьих и общественных пороков, чем повелительные законы: они, говоря тогдашним языком, больше просвещают умы и наклоняют волю к добру, чем предписывают действия или устанавливают отношения. Общее благо состоит в том-то и том-то, у нас то и это не в порядке, я денно-ночно пекусь об общем благе, каждый гражданин да разумеет, как подобает ему поступать в видах общего блага, – таков смысл и тон этих указов и манифестов. О полицейских предостережениях, о взысканиях за неисполнение упоминается как бы мимоходом, неохотно; разум и совесть призываются на место судьи и судебного пристава. Законодатель обращался к подданным не как к будущим преступникам, а как к настоящим гражданам и как бы говорил им: государство в вас самих и в ваших домах, а не в казармах или канцеляриях, в ваших мыслях, чувствах и отношениях. Предполагалось перевоспитать государевых холопов в граждан государства, и в воспитательных уроках с ними обходились уже как с благовоспитанными гражданами. Потому знать мнение «публики» считалось полезным для правительства: в 1766 г. Екатерина приказала Сенату обсудить, не лучше ли новое положение о дворянских банках напечатать в виде проекта за полгода до введения его в действие, чтобы желающие могли сообщить поправки и дополнения, даже не подписывая своих имен.
Когда люди, мнением которых мы дорожим, отказывают нам в достоинствах, которые у нас есть, мы обыкновенно падаем духом, как будто потеряли их, а когда приписывают нам достоинства, каких мы в себе не подозревали, мы ободряемся и стараемся приобрести их. Когда с людьми, привыкшими к рабьему уничижению перед властью, эта власть заговорила, как с гражданами, как с народом свободным, в них как бы в оправдание оказанной им чести стали вскрываться чувства и понятия, дотоле прятавшиеся или дремавшие. Началось это сверху, с ближайшего окружения власти, и, расширяясь, разрослось в устойчивое общественное настроение. Когда Сенат благодарил императрицу Елизавету за отмену внутренних таможен, она отвечала, что за удовольствие поставлять себе будет «авантажи своих подданных собственным своим предпочитать». Итак, собственные авантажи торжественно отделены от государственных или народных. Согласно с таким разделением Елизавета под конец жизни, а после нее и Петр III усиленно копили деньги и казенные доходы удерживали у себя, ничего или почти ничего не отпуская на государственные нужды, так что редко кто из служащих получал жалованье. Когда у них просили деньги на государственные потребности, они сердились и отвечали: «Доставайте, где знаете, а эти прибереженные деньги наши». Во время пожара в Лефортовских палатах в 1754 г. вытаскивали и поставленные там сундуки императрицы Елизаветы с серебряною монетой; у многих из них не оказалось дна, и пришлось штыками отгонять народ, хватавший рассыпанные по земле деньги. В первые дни царствования Екатерины II, когда ей доложили о крайней нужде в деньгах и о том, что русская армия в Пруссии уже восемь месяцев не получала жалованья, императрица в полном собрании Сената объявила, что, принадлежа сама государству, она считает и все ей принадлежащее собственностью государства и чтобы впредь не было никакого различия между интересом государственным и ее собственным, и приказала выдать из своих комнатных денег сколько было надобно на государственные нужды. У всех сенаторов выступили на глазах слезы; все собрание встало и в один голос благодарило императрицу за такой великодушный образ мыслей. Так рассказывала сама Екатерина. Сенат как главный орган власти и руководитель управления первый должен был воспринять и сообщить подведомственным местам новое направление: восставая против пытки, ему приказывала Екатерина преступников обращать к чистому признанию больше милосердием и увещанием, нежели строгостью и истязанием, вести дела без отягощения народного, без новых налогов, покрывая новые расходы «другими, благопристойнейшими способами»; генерал-прокурору Сената в секретнейшем наставлении ставилось на вид, что в высшем управлении «одна лишь форма канцелярская исполняется, а думать еще иные и ныне прямо не смеют, хотя в том и интерес государственный страждет», а губернаторам настойчиво предписывалось утесненных людей защищать. Простые люди, до которых не доходили такие предписания или которым не все было понятно в манифестах, постигали дух и направление нового правительства по слухам об ограничении пытки и конфискаций, по распоряжениям против монополий и взяточничества, по указам о свободе торговли и удешевлении соли, о производстве подушной переписи без разорительных воинских команд, по отмене задержек на городских заставах и других мелких стеснений, устранение которых, однако, значительно облегчало общежитие и давало всем чувствовать, что башмак меньше прежнего жмет ногу.
«Все души успокоились, все лица оживились», – говорит Карамзин, воспроизводя настроение, постепенно складывавшееся в обществе из всех этих столь непривычных впечатлений, какие оно тогда переживало. Это настроение восторженно выражалось при народных встречах Екатерины, особенно во время ее путешествия по Волге в 1767 г. Екатерина писала с дороги, что даже «иноплеменников», т. е. дипломатический корпус, ее сопровождавший, не раз прошибали слезы при виде народной радости, с какой ее встречали, а в Костроме граф Чернышев весь парадный обед проплакал, растроганный «благочинным и ласковым обхождением» местного дворянства, что в Казани готовы были постелить себя вместо ковра под ее ноги, а в одном месте в церкви мужики принялись свечи подавать, прося поставить их перед матушкой-царицей: это простонародный волжский ответ парижским философам, величавшим Екатерину царскосельской Минервой. Чтение «Наказа» в Комиссии 1767 г. депутаты слушали с восхищением, многие плакали, особенно от слов 520-й статьи: «Боже сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив и, следовательно, больше процветающ на земли; намерение законов наших было бы не исполнено – несчастие, до которого я дожить не желаю». Плакали при встречах императрицы, при чтении ее манифестов и «Наказа», плакали за парадными обедами в ее присутствии, плакали от радости при мысли, что бироновское прошлое уже не вернется; никогда, кажется, не было пролито в России столько радостных политических слез, как в первые годы царствования Екатерины II.
В этих слезах было много серьезного: сквозь них проступал новый взгляд общества на власть и на свое отношение к ней. Из грозной силы, готовой только карать, о которой страшно было говорить и думать, власть превращалась в благодетельное, попечительное существо, о котором не могли наговориться, которым не умели нахвалиться. Эта политическая чувствительность постепенно приподнимала людей, наполняя их смутным ощущением наступающего благополучия. Эта приподнятость особенно выразительно сказалась в Комиссии 1767 г. Собрано было со всего государства свыше 550 представителей самых разнообразных вер, наречий, племен, состояний, умоначертаний, от высокообразованного представителя Святейшего Синода митрополита Новгородского Димитрия до депутата служилых мещеряков Исетской провинции муллы Абдуллы мурзы Тавышева и до самоедов-язычников, которые, как им ни толковали в Комиссии, никак не могли понять, что такое закон и для чего это людям понадобились законы, – всероссийская этнографическая выставка, представлявшая своим составом живые образчики едва ли не всех пройденных человечеством ступеней культуры. Депутаты призваны были со своими местными «нуждами и недостатками» для «трудного и кропотливого дела – составления кодекса законов, соглашенных с этими нуждами и недостатками». Вступая в Комиссию, депутаты присягали по однообразной формуле, клятвенно обещаясь начать и окончить великое дело «в правилах богоугодных, человеколюбие вселяющих и добронравие к сохранению блаженства и спокойствия родачеловеческого». На первом же шагу депутат переносился со своими низменными местными нуждами в область высоких идеалов человечества. При открытии Комиссии вице-канцлер в речи от имени императрицы призывал депутатов воспользоваться случаем прославить себя и свой век и приобрести благодарность будущих веков, порадеть об общем добре, о блаженстве рода человеческого и своих любезных сограждан. «От вас ожидают примера все подсолнечные народы, – говорил он, – очи всех на вас обращены». А недели через две маршал Комиссии Бибиков поднял тон еще октавою выше, в речи самой Екатерине говорил уже, что «во всеобщем благополучии мы первенствуем», и, поднося ей от Комиссии титул материотечества, прибавлял, что весь род человеческий долженствовал бы предстать здесь и принести ей титул материнародов. Позднее подобные фразы стали стереотипами, заменявшими чувства; тогда они впервые отливались из наличных чувств или вливали такие чувства в раскрытые сердца. Точно подхваченные воздушным шаром, депутаты со своими руководителями отрывались от своих родных уездных и даже российских видов, и с захватывающей дух высоты им открывались необъятно широкие кругозоры, виднелись будущие века, народы, весь род человеческий. Все это немного ходульно и театрально, но во всем этом выражалась простая любовь к отечеству и сказывалась непривычка выражать просто внушаемые ею чувства национального достоинства и патриотической гордости по новизне ли самых этих чувств или по недостатку случаев выражать их. Да, наконец, театральная маршировка все же приучает не умеющих хорошенько ходить к приличной походке. Но гордость отечеством обязывает быть достойным его сыном; без того она бахвальство и ничего более. Надобно быть справедливым к людям екатерининского времени: они остереглись одной опасности, какою грозит народная гордость, не поддались искушению приподняться на цыпочки, чтобы прибавить себе росту. Подъем духа сопровождался у них возбуждением умов, которое помешало им принять самомнение за национальное самосознание. Почувствовав важное значение своего отечества, они спешили хорошенько осмотреть себя, чтобы видеть, приготовлены ли они к выступлению на большую сцену. Они умели заметить и имели добросовестность сознаться, что не могут еще появиться в европейском свете так, как того требует достоинство их отечества, что величие и могущество империи, о чем Екатерина твердила иностранцам, опираются собственно на силы народной массы, а они, образованные и руководящие классы, обязанные выражать разум своего народа, еще не в состоянии стать достойными его выразителями. В этом сознании источник той горячей энергии, с какою заговорила при Екатерине журнальная и театральная сатира, по-видимому, так мало подходившая к блеску и успехам той эпохи. Самообличение было прямым следствием разумно направленного патриотического чувства: из любви к отечеству обличали себя, недостойных сынов его. Эта сатира не подняла заметно уровня жизни: частные и общественные недостатки и пороки остались на своих местах, но они были обличены и сознаны, т. е. стали менее заразительны, а это подавало надежду, что дети не все унаследуют от своих неисправимых отцов. Зато мысль необычайно оживилась, особенно благодаря «свободоязычию», простору, какой давала ей в литературе Екатерина, сама принимавшая деятельное участие в этом литературном движении. Обличая отечественные недуги, мыслящие люди того времени много передумали, и притом о таких предметах, что самая наклонность размышлять о них есть уже признак значительного подъема умов. В этом помогло им, конечно, влияние просветительной литературы. Из записок Порошина и Винского видим, что в людях образованных и даже полуобразованных это влияние возбуждало интерес к политике и морали, к изучению устройства государств и состава людских обществ. Порошин, преподаватель математики при великом князе Павле, разговаривал со своим учеником о сочинениях Монтескье и Гельвеция, о необходимости читать их для просвещения разума, приготовлял для великого князя книгу «Государственныймеханизм», в которой «хотел показать разные части, коими движется государство, изъяснить, например, сколько надобен солдат, сколько земледелец, сколько купец и пр. и какою кто долею споспешествует всеобщему благоденствию, что не может государство быть никоим образом благополучно, когда один какой чин процветает, а прочие в пренебрежении». Надобно много и много жалеть, что одному из образованнейших и благороднейших русских людей XVIII в. не удалось написать задуманного им сочинения, которое могло бы послужить прекрасным показателем роста русской политической мысли в том веке. Образованным людям екатерининского времени и принадлежит заслуга возбуждения целого ряда важных вопросов, над которыми много работала мысль дальнейших поколений: об отношении России к Западной Европе, об отношении новой России к древней, об изучении национального характера, о согласовании национального с общечеловеческим, самобытного народного развития с необходимостью подражать опередившим народам. Под влиянием непривычной работы мысли над вопросами морали, политики и общежития законодательный и литературный язык получил философско-моралистическую окраску, запестрел отвлеченной терминологией академического красноречия, выражающей нравственные основы и связи общежития. Пошли в ход слова «добронравие», или «благонравие», «человечество», «человеколюбие», «попечениеоблагеобщем», «блаженствообщееичастное», «отечество», «граждане», или «сограждане», «чувствительность», «чувствованиячеловеческого сердца», «добродетельныедуши» и т. п. Таким языком блестит и изданный 8 апреля 1782 г. Уставблагочиния, или Полицейский, где в «правилах добронравия» читаем такие статьи закона: «Не чини ближнему, чего сам терпеть не хочешь; в добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю не имеющему, напой жаждущего»; в «правилах обязательств общественных» изображено: «Муж да прилепится к своей жене в согласии и любви, уважая, защищая и извиняя ее недостатки, облегчая ее немощи», а в числе требуемых от определенного к благочинию начальства поставлены «здравый рассудок, человеколюбиеиусердиекобщемутруду». Особенно любимыми стали слова «общество» и «родчеловеческий». В 1768 г. граф Разумовский, благодаря Екатерину от имени Сената, присутственных мест и всего народа за пробное привитие оспы себе и сыну для примера подданным, говорил даже о «роде человеческом обоего пола», а по Учреждениюдляуправлениягуберний 1775 г. земский исправник обязан отправлять свою должность «с доброхотством и человеколюбием к народу» и в случае эпидемии стараться «о излечении и сохранении человеческого рода». В памятниках XVII в., когда русский народ был разбит на множество мелких служилых и тяглых разрядов, или чинов, с особыми обязанностями, без общих дел и интересов, изредка мелькает выражение «обществохристианское», ибо религия оставалась наиболее крепкой нравственной связью общежития. При Екатерине встречаем уже «российское общество»; Сенат в докладе императрице говорит об «обществе всех верноподданных», в жалованных грамотах 1785 г. установляются термины: «дворянскоеобщество», «обществоградское», а в депутатских наказах 1767 г. находим даже ходатайство «о выборе судей всем обществом всего уезда» как всесословной земской корпорацией. Так идея солидарности постепенно охватывала общественные слои, между которыми прежде не чувствовалось единения. В этом новом языке нет недостатка в красивых словах и неясных понятиях. Хорошие слова, став ходячими, в непривычном обществе скоро изнашиваются, теряют смысл, так что, произнося их, «человек ничего уже не мыслит, ничего не чувствует», как говорил Стародум в «Недоросле». Такие слова не оказывали прямого действия на нравы и поступки, на подъем жизни, но, украшая речь, приучали мысль к опрятности, заставляли ее держаться выше эгоизма и инстинкта, произвол личного понимания подчиняли требованиям общественного приличия. С этой стороны можно придавать народно-воспитательное значение указу 19 февраля 1786 г., предписавшему во всех деловых обращениях лиц к власти заменять слово «раб» словом «подданный». Хорошие слова часто, подобно костылям, поддерживают слабеющие мысли. Уж на что пылок был в защите сословных преимуществ дворянский депутат в Комиссии 1767 г. князь М. М. Щербатов, для которого сословное неравенство было своего рода политическим догматом, но и он в Комиссии оговаривался, что крепостные «суть равное нам создание», только «разность случаев возвела нас на степень властителей над ними». «Наказ» Екатерины иногда ссылается в своих положениях на закон христианский и закон естественный. Возражая на требование ограничения пытки и телесного наказания для одних только дворян, депутаты от городов, опираясь на те же законы – священный и естественный, которые «весьма не терпят лицеприятий», доказывали, что «вор – всегда вор, подлый он или благородный», и последнего, как человека просвещенного и знающего законы, следует наказывать даже строже, чем простолюдина, который часто совершает преступление по нужде или неведению. Да притом, прибавляли эти депутаты, по-своему становясь на точку зрения демократической монархии, в России от века монархическое, а не аристократическое правление, и «как подлый, так и благородный – все равно подданнейшие рабы всемилостивейшей государыни». Модные слова подсказывали новые идеи, а идеи внушали дела, по крайней мере проекты дел. Одним из таких слов было тогда просвещение, о котором твердили и манифесты и журналы. В то время, когда свои и чужие наблюдатели уверяли, что русское дворянство считает невежество своим сословным правом (Винский), что цивилизовать его труднее, чем даже крестьян (Макартней), из среды этого культурно безнадежного класса посланы были в ту же Комиссию требования, чтобы при церквах учреждены были школы для крестьянских детей, «дабы знанием закона хотя мало поправить нравы их» (наказы копорского и ямбургского дворянства), чтобы церковные причты обучали крестьянских мужеска пола детей, «от чего впредь уповательно подлый народ просвещенный разум иметь будет» (наказ крапивенского дворянства). В 1764 г. архангело-городский гражданин В. Крестинин, определенный магистратом наблюдать за начальным обучением и потом издавший ряд дельных исторических сочинений о своей двинской родине, представил Сенату даже проект обязательного обучения с хорошо обдуманным планом малых школ, в которых обучались бы всякого чина и обоего пола дети в городе все без исключения.








