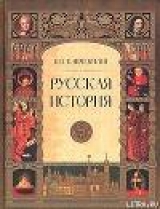
Текст книги "Русская история. Полный курс лекций"
Автор книги: Василий Ключевский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 93 (всего у книги 122 страниц)
ЛЕКЦИЯ LXIX
РУССКОЕ ОБЩЕСТВО В МИНУТЫ СМЕРТИ ПЕТРА ВЕЛИКОГО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ. ВПЕЧАТЛЕНИЕ СМЕРТИ ПЕТРА В НАРОДЕ. ОТНОШЕНИЕ НАРОДА К ПЕТРУ. ЛЕГЕНДА О ЦАРЕ-САМОЗВАНЦЕ… ЛЕГЕНДА О ЦАРЕ-АНТИХРИСТЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЕИХ ЛЕГЕНД ДЛЯ РЕФОРМЫ. ПЕРЕМЕНА В СОСТАВЕ ВЫСШИX КЛАССОВ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ. ИХ СРЕДСТВА. ЗАГРАНИЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ. ГАЗЕТА. ТЕАТР. НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ. ШКОЛЫ И ПРЕПОДАВАНИЕ. ГИМНАЗИЯ ГЛЮКА. НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ. КНИГИ, АССАМБЛЕИ; УЧЕБНИК СВЕТСКОГО ОБХОЖДЕНИЯ. ПРАВЯЩИЙ КЛАСС И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К РЕФОРМЕ.
Обращаюсь к третьей части вопроса о значении реформы Петра, к вопросу о том, что сделали из этой реформы по смерти преобразователя. Определяя это значение, как вы припомните, я сделал оговорку, что оно не вполне выражается в явлениях, наблюдаемых в пределах жизни Петра, что в оценку его дела должны войти следствия реформы, обнаружившиеся по смерти преобразователя. Эти следствия проливают дополнительный и яркий свет на реформу, освещая ее с новой стороны, остававшейся в тени для самого Петра. Не достигнув всего, к чему направлялась реформа, она принесла или подготовила много такого, чего не предвидел преобразователь и чему, может быть, он не был бы рад, если бы предвидел. Попытаемся представить себе русское общество, каким покидал его Петр.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. Для того чтобы понять настроение русского общества в минуту смерти Петра, нелишним будет припомнить, что он умер, начав второй мирный год своего царствования, через пятнадцать месяцев по окончании персидской войны. Выросло целое поколение, которое знало и чувствовало новыми налогами и рекрутскими наборами, что Русь все воюет – с турками, со шведами, с персами, даже сама с собой, с астраханцами, казаками. Наконец-то она ни с кем не воюет. С Ништадтского мира международное положение России было довольно прочно, хотя и несколько щекотливо. Швеция, главный враг ее, долго могла только бредить об отместке; к тому же у нее не случилось и маленького Густава Адольфа, каким был Карл XII, а после его смерти восстановление власти аристократического сената сделало Швецию настоящей анархической Польшей, по отзыву тогдашнего русского резидента в Стокгольме. Оборонительный союз со Швецией 22 февраля 1724 г. ограждал правый северный фланг европейского положения России. Вскоре, в августе 1726 г., союзом с Австрией укреплен был и левый южный фланг, после того как правительству Екатерины I не удалось продать Франции русские интересы за надоевший всему дипломатическому миру брак дочери Петра Елизаветы с французским королем или хотя бы с каким-нибудь завалявшимся французским принцем крови. Среди складывавшихся тогда двух коалиций, австро-испанской и англо-франко-прусской, международное положение России с ее преобразованными силами не внушало русским патриотам больших тревог. Сухопутная русская армия пользовалась полтавским почетом на Западе, и пока русский флот донашивал свои гангудские паруса, Россия считалась даже солидной морской державой. Петербург стал дипломатической столицей европейского Востока. Менее удобны были культурные отношения России к Западу. Перед старой романо-германской Европой с выработанными формами общежития, с нормами порядка, превратившимися в общественные привычки и даже в предрассудки, с громадным запасом знаний, идей и материальных сбережений, накоплявшихся чуть не со времен Ромула и Рема, предстала новая русская Европа с одними способностями, подававшими только надежды, с большим количеством рекрутов и вывозного сырья, но без прочных культурных запасов: общежитие держалось только бытовой косностью, покоившейся на вере в стихийную неизменность отцовского и дедовского предания; вместо порядка существовала только привычка повиноваться до первого бунта, вместо знания одна любознательность, только что пробудившаяся; все юридическое сознание заключалось лишь в смутном чувстве потребности права, все богатство – в способности к терпеливой работе. И эти столь несоизмеримые исторические величины, как Россия и Западная Европа, стали не только соседками, но и соперницами, вошли в разнообразные прямые соприкосновения и даже вступали в столкновения; по крайней мере одна вовсе не расположена была щадить другую, а другая силилась не отстать от первой из страха стать ее жертвой. В этом интерес первой встречи глаз на глаз Западной и Восточной Европы. Здесь прежде всего важно уяснить себе, что мы наблюдаем – отношение ли двух культур, передовой и отсталой, которые будут вечно разделены раз установившимся расстоянием, или только встречу разных исторических возрастов со случайным и временным культурным неравенством. Для этого попытаемся представить себе русское общество, сколько это возможно, в минуту смерти Петра, настроение его низа и верха, отношение того и другого к реформе.
ВПЕЧАТЛЕНИЕ СМЕРТИ ПЕТРА. Очевидцы, свои и чужие, описывают проявления скорби, даже ужаса, вызванные вестью о смерти Петра. В Москве в соборе и по всем церквам, по донесению высокочиновного наблюдателя, за панихидой «такой учинился вой, крик, вопль слезный, что нельзя женщинам больше того выть и горестно плакать, и воистину такого ужаса народного от рождения моего я николи не видал и не слыхал». Конечно, здесь была своя доля стереотипных, церемониальных слез: так хоронили любого из московских царей. Но понятна и непритворная скорбь, замеченная даже иноземцами в войске и во всем народе. Все почувствовали, что упала сильная рука, как-никак, но поддерживавшая порядок, а вокруг себя видели так мало прочных опор порядка, что поневоле шевелился тревожный вопрос: что-то будет дальше? Под собой, в народной массе реформа имела ненадежную, зыбкую почву.
ОТНОШЕНИЕ НАРОДА К ПЕТРУ. Во все продолжение преобразовательной работы Петра народ оставался в тягостном недоумении, не мог уяснить себе хорошенько, что такое делается на Руси и куда направляется эта деятельность: ни происхождение, ни цели реформы не были ему достаточно понятны. Реформа с самого начала вызвала глухое противодействие в народной массе тем, что была обращена к народу только двумя самыми тяжелыми своими сторонами: 1) она довела принудительный труд народа на государство до крайней степени напряжения и 2) представлялась народу непонятной ломкой вековечных обычаев, старинного уклада русской жизни, освященных временем народных привычек и верований. Этими двумя сторонами реформа и возбудила к себе несочувственное и подозрительное отношение народной массы. Своеобразную окраску сообщали этому отношению два впечатления, вынесенные народом из событий XVII в. Тогда народ в Московском государстве видел очень много странных вещей: сначала перед ним прошел ряд самозванцев, незаконных правительств, которые действовали по-старому, иногда удачно подделываясь под настоящую привычную власть; потом перед глазами народа потянулся ряд законных правителей, которые действовали совершенно не по-старому, хотели разрушить заветный гражданский и церковный порядок, поколебать родную старину, ввести немца в государство, антихриста в церковь. Под влиянием этих двух впечатлений и складывалось народное отношение к Петру и его реформе. Народ по-своему взглянул на деятельность Петра. Из этого взгляда постепенно развились две легенды о Петре, в которых всего резче выразилось отношение народа к реформе, которыми даже в значительной степени определились ее ход и результаты: одна легенда гласила, что Петр – самозванец, а другая, что он – антихрист.
СКАЗАНИЕ О ЦАРЕ-САМОЗВАНЦЕ. Когда стали обнаруживаться признаки глухого и упорного противодействия реформе со стороны народа. Петр для подавления его учредил тайную полицию, Преображенский приказ, названный так по имени подмосковного села, где впервые возникло это учреждение. От этого приказа до нас дошло немало любопытных дел, которые служат материалом для изучения народного настроения при Петре. Эти канцелярские бумаги наглядно представляют нам возникновение и развитие обеих легенд. Та и другая имела свою историю, прошла известный ряд моментов в своем поэтическом движении, представляя притом редкий вид народного творчества, пропущенного сквозь фильтр тайной полиции. Первоначальную мысль, основной мотив легенды о самозванстве Петра подсказали те наблюдения, которые поразили народ с самого начала царствования Петра. Петр прежде всего дал народу почувствовать свою Деятельность новыми государственными тягостями. Государственные тягости не были новостью для народа: их больно чувствовали и в XVII в., но тогда за них винили не самого царя, а его правительственные орудия. Царь сидел где-то далеко и высоко над народом, редко являлся перед ним и был окружен в народном представлении ослепительным ореолом неземного величия. Все, что делалось непопулярного в государстве, приписывалось тому средостению, какое отделяло царя от простых подданных, т. е. боярскому и приказному правительству. Петр впервые спустился с заоблачной высоты, на которой скрывались его предшественники, вошел в непосредственное соприкосновение с народом, стал перед ним, каким был, перестал быть для народа политическим мифом, каким представлялись ему прежние цари. Народный ропот теперь и направился прямо против царя. Петр явился перед народом простым человеком, совсем земным царем. Но какой это был странный царь! Он предстал перед народом с таким непривычным обликом, с такими небывалыми манерами и принадлежностями, не в короне и не в порфире, а с топором в руках и трубкой в зубах, работал, как матрос, одевался и курил, как немец, пил водку, как солдат, ругался и дрался, как гвардейский офицер. При виде такого необычного царя, совсем непохожего на прежних благочестивых московских государей, народ невольно задавал себе вопрос: да подлинный ли это царь? В этом вопросе и лег зародыш легенды о самозванстве царя. Вопрос вызвал усиленную работу народного ума, точнее, народной фантазии. Бумаги Преображенского приказа дают возможность проследить все фазы народного воображения, развивавшего легенду из указанного зерна. Народные жалобы растили это зерно, питали фантазию. Прежде всего народная мысль остановилась на самом вопросе. Пошли народные толки, подслушанные полицией. Крестьяне жаловались: как бог его нам на царство наслал, так мы и светлых дней не видали; тягота на мир, рубли да полтины да подводы; отдыха нашей братье крестьянству нет. Сын боярский, подслушавший этот ропот, вторил крестьянину своими сословными горями: какой он царь Всю нашу братию на службу выволок, а людей наших и крестьян в рекруты побрал; никуда от него не уйдешь, все на плотах распропали (на морских постройках); и как это его не убьют? Как бы убили его, так бы и служба миновалась и черни стало бы легче. Солдатские жены развивали свою особую консервативную публицистику: какой он царь! Мужей наших в солдаты побрал, всех крестьян с дворами разорил, а нас с детьми осиротил и век плакать заставил. «Какой он царь!» – подхватывал холоп: он враг, оморок мирской; однако сколько ему по Москве ни скакать, а быть ему без головы. «Мироед! – вопияли другие. – Весь мир переел, все переводит добрые головы; только на него кутилку переводу нет». Этому хоровому всесословному протесту сам Петр помог перейти от вопроса о его загадочной личности к ответу, поддержал полет народной фантазии. Царь вел странный образ жизни и делал странные дела: переказнил стрельцов, сестру и жену запер в монастырь, сам все возился и пьянствовал в Преображенском с иноземцами, после нарвского поражения колокола стал снимать с церквей и переливать в пушки. Монах грозил: все-де это даром не пройдет, не добром кончится все это. Отсюда и извлекли ответ на поставленный вопрос. Прежде всего поспешили догадаться, что царя немцы испортили; нервность и вспыльчивость Петра поддерживали догадку. «Немцы обошли его: час добрый найдет – все хорошо, а в иной час так и рвет и мечет: вот уж и на бога наступил, с церквей колокола снимает». Притом заговорило раздраженное национальное чувство под гнетом непрекращавшегося наплыва и влияния иноземцев. Но все это не давало удовлетворительного ответа на главный вопрос: казалось невероятным, каким образом мог явиться на Руси такой царь, хоть и порченый, который не дорожит народными обычаями и верованиями. Тут наступает вторая фаза в развитии легенды. На вопрос является ответ тоже в виде вопроса: да русский ли он? Он сын немки, говорили одни. Да Лаферта, подсказывали другие. Так и додумались до сказания о самозванстве Петра: царица родила девочку, которую подменили немчонком. Однажды полиция подслушала на портомойне в Москве такую политическую беседу: крестьяне все измучены, все на государя встали и возопияли: какой он царь! Родился от немки беззаконной; он подмененный, подкидыш; как царица Наталья Кирилловна отходила сего света, и в то число она говорила ему: ты-де не сын мой, ты подменный; вот велит носить немецкое платье – знатно, что от немки родился. От этого соображения и отправляется легенда в своем дальнейшем развитии, по-своему связывая явления времени. Поездка Петра за границу указала ей направление и облегчила движение. Петр начал заводить новшества, бороды брить, платье немецкое вводить, царицу свою Авдотью Федоровну отставил, немку Монсову взял, проклятый табак курить велел – все по возвращении из чужих краев. Эта поездка к нехристям и послужила путеводной нитью для народной фантазии. Вероятно, до русского общества дошли слухи, что шведский король Карл ХII, покидая в 1700 г. Швецию для борьбы с Петром и его союзниками, оставил дома сестру свою Ульрику-Элеонору, которая впоследствии по смерти брата стала его преемницей. Слыхали также, что в Риге шведское начальство в 1697 г. наделало Петру каких-то неприятностей, не пустило его осмотреть рижские укрепления. Народная фантазия воспользовалась этим, чтобы отлить слухи в целое сказание. Петр поехал за границу – это так; да Петр ли воротился из-за границы? В ответ на этот вопрос уже к 1704 г. сложилась такая сказка. Как государь с ближними людьми был за морем, ходил он по немецким землям и пришел в Стекольное царство (Стокгольм), а то Стекольное царство в немецкой земле держит девица, и та девица над государем надругалась, ставила его на горячую сковороду да, сняв его с тое сковороды, велела бросить в темницу. И как та девица была именинница, стали ей говорить ее князья и бояре: пожалуй, государыня, ради такого дня выпусти его, государя. Она им сказала: подите посмотрите, коли он еще жив валяется, я его для вас выпущу. Те, посмотря, сказали ей: томен, государыня. – Ну, коли томен, так вы его выньте. И они, его вынув, отпустили. Пришел он к нашим боярам, а они, перекрестясь, сделали бочку, набили в нее гвоздья да в тое бочку хотели его, государя, положить. Уведал про то стрелец и, прибежав к государю, сказал: царь-государь, изволь встать и выйти, ничего ты не ведаешь, что над тобою чинится. И он, государь, встал и вышел, а стрелец лег на его место. Пришли бояре да того стрельца, с постели схватя, положили в тое бочку и бросили в море. Легенда в первое время не договаривала до конца, не знала, что сталось дальше с государем. Но потом к сказанию прицепили и конец, стали говорить в народе: это не наш государь, это немчин; наш государь в немцах в бочку закован да в море пущен. Вскоре по смерти Петра эта сказка изменилась: Петра считали погибшим при жизни и воскресили по смерти. Новая редакция гласила, что царствовавший государь был немчин, а настоящий царь освободился из немецкого плена, именно освободил его обманом русский купец, бывший в Стекольном царстве. Рассказчик добавлял: «И как это государь до сей поры не объявится в своем государстве?»
СКАЗАНИЕ О ЦАРЕ-АНТИХРИСТЕ. Легенда о самозванстве Петра, вся построенная на тягловых мотивах, очевидно, сложилась в тяглой среде, особенно в той массе, которая, быв дотоле свободной от податей, больно была захвачена указами о новых налогах и службах. Другая легенда, о Петре-антихристе, возникла или была разработана в церковном обществе, взволнованном новшествами Никона, и сплелась из других мотивов. Преобразовательная деятельность Петра представлялась народу прямым продолжением того непонятного и бесцельного посягательства со стороны правительства на чистоту родной веры и родных обычаев, какое началось при царе Алексее. Новое иноземное платье, брадобритье и тому подобные новшества затрагивали религиозные воззрения древнерусского общества. В конце 1699 г. последовала новость, еще более тревожная, чем немецкое платье или табак: изменен был русский православный календарь, велено вести летосчисление от рождества Христова, а не от сотворения мира и новый год праздновать не 1 сентября, по-церковному, а 1 января, как делалось у неправославных. Это новшество уж прямо вторгалось в церковный порядок. Люди, и без того встревоженные латинобоязнью никоновского времени, теперь еще сильнее встрепенулись на защиту старой веры. В полиции и на улице при Петре происходили иногда очень странные сцены. Раз в 1703 г. один нижегородец, простой посадский человек Андрей Иванов, пришел в Москву с изветом, т. е. с доносом, – на кого бы вы думали – на самого государя, что-де он, государь, веру православную разрушает, велит бороды брить, платье носить немецкое, табак тянуть: во всем этом обличить государя и пришел он, Андрей Иванов. В 1705 г. в Ярославле Димитрий, митрополит ростовский, в воскресный день идучи к себе из собора, встретился с двумя еще нестарыми бородачами, которые спросили его, как им быть: велено брить бороды, а им пусть лучше головы отсекут, чем бороды обреют. «А что отрастет, отсеченная ли голова или сбритая борода?» – переспросил владыка. В дом к митрополиту сошлось много лучших горожан, и начался диспут о бороде, об опасности брад обритая для душевного спасения, ибо сбрить бороду – значит потерять образ и подобие божие. Ученому владыке пришлось написать целый трактат об образе и подобии божием в человеке Вопрос о брадобритии разгорелся до народной агитации: в разных городах разбрасывались подметные письма, призывавшие православных восстать за бороду. Люди более серьезного образа мыслей не могли довольствоваться распространявшимся в темной массе сказанием о самозванстве Петра и искали более глубокого источника его непонятных и опасных нововведений. Поддразнивая пугливую совесть пустяками вроде брадобрития или безобразиями пьяного собора, Петр вызывал тревожные суеверные толки о конечной гибели благочестия, о последних временах и о необходимости вольного страдания ради спасения души. Эти толки, обращаясь на их виновника, и породили легенду о царе-антихристе. Мы встречаем ее в Москве в одном следственном деле уже 1700 г. Некто Талицкий, книгописец, значит, человек сравнительно образованный, составил для распространения в народе тетради о последнем времени и о пришествии в мир антихриста в лице государя. Тамбовский архиерей до слез умилялся этими тетрадями, а боярин князь Хованский плакался Талицкому на самого себя, что был ему послан мучения венец, да он его потерял, согласившись обрить себе бороду, а потом приняв шутовское поставление в митрополиты известного всепьянейшего собора. Но особенно широкое распространение получила легенда на олонецком и заонежском Севере, в краю, наиболее тронутом расколом, куда бежало от гонений множество подвижников древнего благочестия еще при царе Алексее. Уже к концу XVII в. эти беглецы в своем фанатизме выработали в борьбе с еретической церковью и антихристовым государством страшную форму вольного страдания за благочестие – самосожжение массами. По одному идущему от того времени староверческому сочинению насчитывали более 20 тысяч самосожженцев, сгоревших в 1675 – 1691 гг. На глухом поморском Севере, наполненном лесами, все известия, приходившие из Центральной Руси, отражались в искривленном виде: напуганная фантазия превращала их в чудовищные призраки. В одном погосте Олонецкого уезда раз священник и дьячок, вышедшие из церкви после литургии, разговорились о том, что делается на белом свете. Дьячок сказал: вот ныне велят летопись (летосчисление) вести от рождения Христова и платье носить венгерское. Священник прибавил: и я слыхал в волости, что у великого поста неделя будет убавлена, а после фоминой учнут в середы и пятки весь год молоко есть. Имея в виду последнее средство спасения поморцев, самосожжение, дьячок сказал: как пришлют эти указы к нам в погост и будут люди по лесам жить и гореть, и я пойду с ними в леса жить и гореть. Священник прибавил: возьми и меня с собой; знать, житье ныне к концу приходит. Дело относится к 1704 г. В том же году ладожский стрелец, возвращаясь домой из Новгорода, повстречался с неведомым старцем, который завел с ним такую беседу: ныне службы частые; какое ныне христианство! Ныне вера все по-новому: вот у меня есть книги старые, а ныне эти книги жгут. Когда зашла речь про государя, старец продолжал: какой он нам, христианам, государь! Он не государь, а латыш, поста не соблюдает; он льстец (обманщик), антихрист, рожден от нечистой девицы; что он головой запрометывает и ногой запинается, и то, знамо, его нечистый дух ломает; он и стрельцов переказнил за то, что они его еретичество знали, а стрельцы прямые христиане были, не бусурмане; вот солдаты – так те все бусурмане, поста не соблюдают; ныне все стали иноземцы, все в немецком платье ходят да в кудрях (париках) и бороду бреют. Стрелец по долгу службы заступился за государя и заметил, что Петр – царь, от царского племени. Но старец возразил: у него мать нешто царица? Она еретица была, все девок родила. Старец был поморский подвижник древнего благочестия, спасавшийся в лесах. На вопрос стрельца, откуда он, старец отвечал: я из Заонежья, из лесов; ко мне летом и дороги нет, а есть только зимой, и то на лыжах. В этом рассказе живо вскрывается настроение умов в северном Поморье. В 1708 г. ту же легенду встречаем и на юге, в Белгородском уезде (Курской губернии). Два священника разговорились, и один сказал: бог знает, что у нас в царстве стало: вся наша Украина от податей пропала; такие подати стали – уму непостижные, а вот теперь и до нашей братии священников дошло, начали брать с бань, с изб, с пчел, чего отцы и прадеды не слыхивали; никак в нашем царстве государя нет? Этот священник в церковном молитвословии вычитал сведение, что антихрист родится от недоброй связи, от жены скверной и девицы мнимой, от колена Данова. Он и задумался над тем, что это за колено Даново и где это родится антихрист, уж не на Руси ли. Однажды пришел к нему отставной прапорщик Белгородского полка Аника Акимыч Попов, человек убогий, промышлявший грамотным промыслом, учивший ребят грамоте. Священник и сообщил ему свое недоумение насчет антихриста: «В миру у нас ныне тяжело стало, а в книгах писано, что скоро родится антихрист от племени Данова». Аника Акимыч подумал и ответил: «Антихрист уже есть; у нас в царстве не государь царствует, а антихрист; знай себе: Даново племя – это царское племя, а ведь государь родился не от первой жены, от второй; так и стало, что он родился от недоброй связи, потому что законная жена бывает только первая». Так и пошло сказание о царе-антихристе.
ЗНАЧЕНИЕ ОБОИХ СКАЗАНИИ ДЛЯ РЕФОРМЫ. Оба этих сказания, разумеется, ставили народ в самое неблагоприятное отношение к реформе и много вредили ее успеху. Народное внимание было обращено не на те образовательные интересы, которым старался удовлетворить преобразователь, а на те противоцерковные и противонародные замыслы, какие чудились суеверной мысли в его деятельности. При таком отуманенном настроении реформа представлялась народу чем-то чрезвычайно тяжелым, темным. Немногие в народе, видавшие царя на работе, могли оказать лишь слабое противодействие темным толкам и пересудам. До нас дошли и такие сказания, которые показывают, какое чарующее впечатление преобразователь мог производить на массу своей личностью, своей работой. Один крестьянин Олонецкого края, передавая сказания о Петре, о том, как он бывал на Севере, как он работал, заключил свой рассказ словами: вот царь так царь! Даром хлеба не ел, пуще мужика работал. Но такое впечатление досталось в удел только немногим из народа, кто мог наблюдать Петра в его настоящем рабочем виде или кто способен был под оболочкой жестокой власти почуять внутреннюю нравственную силу, которою приводилась в движение эта видимо беспорядочная и порой опрометчивая деятельность. Один из прибыльщиков (Иван Филиппов) в записке, поданной самому Петру, обронил меткий о нем отзыв, которому может позавидовать историк, – назвал его «многомысленной и беспокойной главой», умеющей понимать того, кто ищет «правды, а народу оборону». Но фантазия народного множества, которому кнут и монах очертили дозволенные пределы мышления, нарядила Петра в самые постылые образы, какие нашлись в хламе ее представлений. Эти легенды питали и нравственно освящали порожденное государственными тягостями и немецкими новшествами общее недовольство всех сословий, о котором говорят свои и чужие наблюдатели, что оно к концу царствования достигло крайнего предела. Однако открытого восстания не ждали за недостатком вождя и в расчете на рабскую покорность народа. Боевые мятежные силы, какие были налицо, израсходовались на прежние бунты – стрелецкие, астраханский, булавинский. Разоруженную тяжбу с властью народ перенес теперь в высший суд мирской совести. Вскоре по смерти Петра стрельцы-раскольники рассказывали: когда государь преставлялся, он сам про себя говорил: еще бы мне жить было, да мир меня проклял. О великих трудах и замыслах Петра на пользу народа в ходячих народных толках не было и помину. Реформа пронеслась над народом, как тяжелый ураган, всех напугавший и для всех оставшийся загадкой.
ВЫСШИЕ КЛАССЫ. Высшие классы общества, стоявшие ближе к преобразователю, были глубже захвачены реформой и могли лучше понять ее смысл. Реформа давала им много побуждений усердно содействовать стремлениям Петра. Многообразными нитями эти классы успели связаться с западноевропейским миром, откуда шли преобразовательные возбуждения. Правительство, комплектуемое из этой среды, волей-неволей должно было поддерживать созданное Петром влиятельное положение России в Европе, а для успеха дипломатических сношений не ослаблять и культурных связей с нею. В ту же сторону тянули и перемены в социальном и племенном составе этих классов. В правительственном кругу при Петре удержались скудные остатки старой московской знати: несколько князей Голицыных да Долгоруких, князь Репнин, князь Щербатов, Шереметев, Головин, Бутурлин – вот почти и все представители родословного боярства, ставшие видными дельцами при Петре. Ядро правительственного Класса, слагавшегося в XVII в., образовалось из высшего столичного дворянства, из царедворцев, как его звали при Петре, – Пушкиных, Толстых, Бестужевых, Волынских, Кондыревых, Плещеевых, Новосильцевых, Воейковых и многих других. Сюда шел непрерывный приток из провинциального дворянства, к которому, например, принадлежали Ордин-Нащокин при царе Алексее, Неплюев при Петре, даже из «убогого шляхетства» и из слоев «ниже шляхетства», каковы были Нарышкины, Лопухины, Меншиков, Зотов, наконец, прямо из холопства – Курбатов, Ершов и другие прибыльщики. В 1722 г. именитый купец Строганов был пожалован в бароны. Вторжение этих новиков в чиновные ряды, не содействуя единодушию правящего класса, разрушая его генеалогический и нравственный состав, все же вносило туда некоторое оживление, похожее на соперничество, отучало от боярской спеси и стольничьей рутины. Рядом с выслужившимися доморощенными новиками становилось и получало важное значение множество чужаков, инородцев и иноземцев: барон Шафиров, сын пленного и крестившегося еврея, служившего во дворе боярина Хитрова, а потом бывшего сидельцем в лавке московского купца; Ягужинский, как рассказывали, сын выехавшего из Литвы органиста лютеранской церкви, в детстве пасший свиней; петербургский генерал-полицеймейстер Девиер, юнгой приехавший на португальском корабле в Голландию и там замеченный Петром; барон Остерман, сын вестфальского пастора, граф Брюс, генерал Геннинг, устроитель горных заводов инженер Миних, а потом потянутся в русскую знать родственники Екатерины I, с трудом разысканные по литовским деревням крестьяне, осыпанные в Петербурге титулами, чинами и богатствами, различные Скавронские, Ефимовские, Гендриковы. Многие из этих пришельцев были люди образованные и заслуженные, как Брюс, Шафиров, Остерман, и не были расположены порывать связей своего нового отечества с западноевропейским миром, а своим образованием и заслугами кололи глаза невежественному и дармоедному большинству русской знати.
ЗАГРАНИЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ. Наконец, и начатки образования кое-как привязывали высшие классы русского общества к тому же миру. При Петре, в первую половину царствования, когда еще было очень мало школ, главным путем к образованию служила заграничная посылка русских дворян массами для обучения. Некоторые, добровольно или по указу странствовавшие по Европе, уже будучи семейными людьми, в летах, записали свои заграничные наблюдения, показывающие, как труден и малоплоден был этот образовательный путь. Неподготовленные и равнодушные, с широко раскрытыми глазами и ртами, смотрели они на нравы, порядки и обстановку европейского общежития, не различая див культуры от фокусов и пустяков, не отлагая в своем уме от непривычных впечатлений никаких помыслов. Один, например, важный московский князь, оставшийся неизвестным, подробно описывает свой амстердамский ужин в каком-то доме, с раздетой дочиста женской прислугой, а увидев храм св. Петра в Риме, не придумал ничего лучшего для его изучения, как вымерить шагами его длину и ширину, а внутри описать обои, которыми были увешаны стены храма. Князь Б. Куракин, человек бывалый в Европе, учившийся в Венеции, попав в 1705 г. в Голландию, так описывает памятник Эразму в Роттердаме: «Сделан мужик вылитой медной с книгою на знак тому, который был человек гораздо ученой и часто людей учил, и тому на знак то сделано». В Лейдене он посетил анатомический театр проф. Бидлоо, которого называет Быдлом, видел, как профессор «разнимал» труп и «оказовал» студентам его части, осматривал богатейшую коллекцию препаратов, бальзамированных и «в спиртусах». Вся эта работа научной мысли над познанием жизни посредством изучения смерти привела русского наблюдателя к совету всем, кому случится быть в Голландии, непременно посмотреть лейденские «кориузиты», что-де доставит «многое увеселение». Несмотря на отсутствие подготовки, Петр возлагал на учебные посылки за границу широкие надежды, думая, что посланные вывезут оттуда столько же полезных знаний, сколько он сам набрал их в первую поездку. Он, по-видимому, действительно хотел обязать свое дворянство обучаться морской службе, видя в ней главную и самую надежную основу своего государства, как казалось людям, имевшим сношения с русским посольством в Голландии в 1697 г. С этого года он гнал за границу десятки знатной молодежи обучаться навигацким наукам. Но именно море возбуждало наибольшее отвращение в русском дворянине, и он из-за границы плакался своим, прося назначить его хотя бы последним рядовым солдатом или в какую-нибудь «науку сухопутскую», только не в навигацкую. Впрочем, с течением времени программа заграничной выучки была расширена. Из записок Неплюева, не в пример соотечественникам умно использовавшего свою заграничную учебную командировку (в 1716 – 1720 гг.), видим, чему обучались тогда русские за границей и как усвояли тамошнюю науку. Партии таких учеников, все из дворян, были рассеяны по важнейшим городам Европы: в Венеции, Флоренции, Тулоне, Марселе, Кадиксе, Париже, Амстердаме, Лондоне, учились в тамошних академиях живописному искусству, экипажеству, механике, навигации, инженерству, артиллерии, рисованию мечтапов, как корабли строятся, боцманству, артикулу солдатскому, танцевать, на шпагах биться, на лошадях ездить и всяким ремеслам, медному, столярному и судовым строениям, бегали от науки на Афонскую гору, посещали «редуты», игорные дома, где дрались и убивали один другого, богатые хорошо выучивались пить и тратить деньги, промотавшись, продавали свои вещи и даже деревни, чтобы избавиться от заграничной долговой тюрьмы, а бедные, неаккуратно получая скудное жалованье, едва не умирали с голоду, иные от нужды поступали на иностранную службу, и все вообще плохо поддерживали приобретенную было в Европе репутацию «добрых кавалеров». По возвращении домой с этих проводников культуры легко свеивались иноземные обычаи и научные впечатления, как налет дорожной пыли, и домой привозилась удивлявшая иностранцев смесь заграничных пороков с дурными родными привычками, которая, по замечанию одного иноземного наблюдателя, вела только к духовной и телесной испорченности и с трудом давала место действительной добродетели – истинному страху божию. Однако кое-что и прилипало. Петр хотел сделать дворянство рассадником европейской военной и морской техники. Скоро оказалось, что технические науки плохо прививались к сословию, что русскому дворянину редко и с великим трудом удавалось стать инженером или капитаном корабля, да и приобретенные познания не всегда находили приложение дома: Меншиков в Саардаме вместе с Петром лазил по реям, учился делать мачты, а в отечестве был самым сухопутным генерал-губернатором. Но пребывание за границей не проходило бесследно: обязательное обучение не давало значительного запаса научных познаний, но все-таки приучало дворянина к процессу выучки и возбуждало некоторый аппетит к знанию; дворянин все же обучался чему-нибудь, хотя бы и не тому, за чем его посылали.








