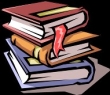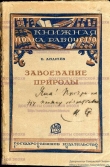Текст книги "Завоевание Индии"
Автор книги: Василий Голованов
Жанры:
Альтернативная история
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Василий Голованов
Завоевание Индии
Мираж
I
В 1713 году из Хивы в Астрахань приехал некий Ходжа Нефес, который, скоро сошедшись с комендантом Астрахани князем Самановым – авантюристом, крещеным персом из Гиляна, поведал ему о плане овладения Хивою, который он хочет предложить русскому царю: для этого, открыл он секрет, достаточно повернуть реку Аму-Дарью в старое русло, в Каспий, куда она и изливалась до тех пор, пока хивинцы, испугавшись бесчинств на море казаков Разина, не перегородили старое русло плотиной и не пустили реку в Арал. Также поведал он о золотом песке, который будто бы добывается при Аму-Дарье. Честолюбие Саманова запылало золотым огнем, и он немедля решился препроводить Нефеса в Санкт-Петербург, так и не выяснив толком, какое место занимает тот в Хивинском ханстве и с какой стати предлагает его русскому царю в качестве трофея.
Жизнь Хивы и Бухары – узбекских ханств, оставшихся от грандиозной империи Тамерлана, всегда была скрытой и полной интриг; мало того что эти ханства враждовали друг с другом, они вдобавок окружены были ордами подвластных им кочевников, киргиз-кайсаков, которые служили им охранительной оболочкой.
По происхождению Ходжа Нефес был туркмен. Туркмены в то время широко расселились в Средней Азии, они были союзниками Хивы и играли определенную роль при дворе. Ходжа Нефес мог быть посланцем правящего хивинского хана, который, зная о шаткости своего положения и о заговоре, грозившем не только его власти, но и жизни, пытался привлечь русского царя, чтобы сохранить престол. Хану не у кого было заручиться поддержкой, кроме русского царя, в подданство которого он однажды просился и благорасположением которого заручался, имея по крайней мере своего посла, Ашур-бека, в Санкт-Петербурге. Во всяком случае Нефес, призывая русских, преследовал какие-то очень конкретные, одному ему ведомые цели, о которых недалекий Саманов ничего не знал.
В Санкт-Петербурге Ходжа Нефес очень кстати сведен был с любимцем царя, князем Александром Бековичем-Черкасским. Бекович был родом из Кабарды, но, крестившись, принял княжеский титул. К тому же Бекович воспитывался в доме «дядьки» Петра, князя Бориса Алексеевича Голицына, и был женат на его дочери, и хотя к интересующему нас времени Голицын уже давно впал в немилость и доживал последний год жизни в монастыре, князь Бекович, молодой поручик лейб-гвардии Преображенского полка, в числе многих дворянских детей ездивший за границу обучаться морскому делу, по-прежнему был в фаворе у царя. Так состоялось свидание Ходжи Нефеса с Петром. Ходжа завлекал царя верноподданническими уверениями и золотым песком, не подозревая, что наибольшее впечатление произвели на Петра слова о перекрытом русле Аму-Дарьи и возможности повернуть ее обратно в Каспий, а следовательно, имея флот, проникнуть вглубь Азии, может быть – и к далекой Индии.
Как нередко бывает в подобных случаях, все тут стало подбираться одно к одному: явился рапорт сибирского губернатора князя Гагарина, что в Малой Бухарии, при городе Иркети (теперешний Яркенд в Китайском Туркестане), тоже найден золотой песок и он, князь Гагарин, готов выслать отряд из Тобольска, который бы, следуя на дощаниках по Иртышу, достиг Ямышева озера, построил здесь крепость, а другую на Балхаше… И хотя от Хивы до Балхаша – полторы тысячи километров, а от Балхаша до Яркенда – еще девятьсот, бывают минуты, когда все это не идет в расчет, царь загорелся, благо направление было одно – юго-восток, на Индию, и дал добро на обе экспедиции. Тогда же, обласкав хивинского посла Ашур-бека и отослав его в Хиву с подарками хану (6 пушек с порохом и снарядами), велел добраться до Индии и привезти ему в подарок барсов и попугаев. Новая затея определенно нравилась царю: теперь, как европейский государь, он тоже мог поучаствовать в розыгрыше мирового кубка под названием «Индия», в борьбу за который уже вступили Португалия, Голландия, Англия и Франция.
II
Неожиданности, связанные с новым замыслом, начались сразу. Не успел царь отправить в Хиву Ашур-бека и назначить князя Бековича-Черкасского главой хивинского посольства, как пришли вести о том, что старый хан хивинский Ходжа-Мухаммед, добровольныйроссийский подданный, убит и на престол Хивы взошел молодой хан Ширгазы. Ашур-бека с опасными дарами перехватили в Астрахани (они достались потом Бековичу и составили его артиллерию), посольство же Бековича решено было не отменять, а, как говорилось в указе Сенату, послать того в Хиву «с поздравлением на ханство, а оттоль ехать в Бухары к хану, сыскав какое дело торговое, а дело настоящее, проведать про город Иркет, сколь далек оный от Каспийского моря? и нет ли каких рек оттоль, или хотя не от самого того места, но поблизости в Каспийское море?». В конце указа государь предписал «господам Сенату» «с лучшею ревностию сие дело, как наискоряя, отправить, понеже – зело нужно» [1]
[Закрыть].
Астрахань петровского времени была окраинным городком, крепко истрепанным мятежами и лихоимствами, вокруг которого в ту пору почти не было укрепленных поселений кроме Гурьева-городка, основанного в начале XVII века рыбопромышленником Гурием на реке Яике (Урал), в нескольких верстах от впадения ее в море, и обнесенного частоколом для защиты от ногайцев. В 1645 году устроена была здесь, на самой окраине русских земель, каменная крепость с башнями и гарнизоном из стрельцов. Поэтому снаряжал экспедицию Бековича не астраханский, а казанский воевода – Салтыков, получив от царя указ «дать князю Черкасскому, отправленному для некоторого нужного дела, о котором сам объявит, в Астрахань и далее на Каспийское море, тысячи полторы воинских людей, пять тысяч рублей денег на все расходы и, сверх того, исполнить все другие требования князя Черкасского» [2]
[Закрыть]. По предписанию царя Бековичу надлежало: «Над гаваном, где было устье Аму-Дарьи реки, построить крепость человек на 1000, ехать к хану хивинскому послом, а путь иметь подле той реки и осмотреть, прилежно, течение оной реки, тако же и плотины. ‹…› Ежели возможно, оную воду паки [3]
[Закрыть] обратить в старый ток, к тому же протчия устья запереть, которые идут в Аральское море, и сколько в той работе потребно людей. ‹…› Отпустить купчину по Аму-Дарье реке в Индию, наказав, чтоб изъехал ее, пока суда могут идти, и оттоль бы ехал
в Индию, описывая водяной и сухой путь, а особливо водяной, к Индии» [4]
[Закрыть].
Поставленная задача была, в действительности, расплывчата примерно в той же степени, как задачи и представления голландских мореходов, в XVI веке искавших на курсе норд-ост путь в Камбалу и Китай. Тем не менее, глядя из будущего, можно сказать, что в некоторых своих пунктах задача эта была все же выполнима. Вопрос: а был ли князь Бекович, любимец царя, тем человеком, который мог бы таковую задачу исполнить? Сомнительно. Так, прибыв в Астрахань к осени 1714 года, князь решил выступать немедля, хотя к походу готов он не был и торопился лишь затем, чтобы не промедлить с исполнением царского указа.
7 ноября Бекович с отрядом в 2000 человек на 30 кораблях (а это, надо понимать, были те же морские струги, что и у Разина) вышел в море и направился (зачем?) в сторону Гурьева-городка; но флотилия как раз угодила в бурю, корабли разметало да затерло льдом, так что один из них пропал, а еще четыре зимовали – кто в устье Яика, кто в устье Терека. После этой совершенно бессмысленной вылазки князь возвратился в Астрахань. На будущий – 1715-й – год
Бекович, наоборот, промедлил с выступлением, но все ж 25 мая, пополнив войско людьми и артиллерией, ушел из Астрахани, заглянул, без видимого смысла, в Гурьев-городок, оттуда прямиком направился к мысу Тюп-Караган – ближайшему берегу на восточной стороне Каспийского моря. Мыс представляет собой огромную, совершенно бесплодную, лишенную малейшей растительности песчаную косу, едва достаточно возвышающуюся над морем, чтобы не быть перехлестнутой волнами. Тут Бекович остановился и, не осмеливаясь ни на шаг продвинуться вглубь берега, повел через Ходжу Нефеса переговоры с береговыми туркменами об Аму-Дарье, стараясь вызнать, правда ли, что русло ее повернуто и можно ли оное вернуть в Каспийское море. Туркмены отвечали, что прежде река Аму впадала в Каспий у Кызыл-Су (Красных Вод), да и теперь можно вернуть ее в прежнее течение, разобрав плотину, до которой они брались довести русскую партию, и прокопав канал верст на двадцать в известном им месте. С туркменами на верблюдах Бекович отправил двух офицеров – Николая Федорова и Ивана Званского вместе с Ходжой Нефесом. Несмотря на жарбы, стоящие летом в пустыне, отряд этот на восемнадцатый день, дойдя до урочища Карагач, обнаружил земляной вал длиною пять верст, высотой в аршин с четвертью (то есть всего около метра) и шириною сажени в три (то есть около 6 метров). Ясно, что такое сооружение не могло перекрывать главный ток Аму-Дарьи и служило лишь для подсобных целей, как, например, сдерживание паводковых вод. За валом путешественники увидели «большую воду на далекое пространство»: но, сделав правильный вывод, что это разлив Аму-Дарьи, они не стали заниматься выяснением глубины этой «воды» и практической пригодности ее для судоходства, а, удовлетворившись увиденным, повернули к Красным Водам. И здесь опять увидели то, что желал бы видеть царь: широкий дол на месте старого русла реки и по берегам этого дола – заброшенные селения и остатки арыков… Проводники-туркмены уверяли, что дол идет до самого Каспийского моря, но на третий день пути отказались сопровождать партию, опасаясь встретить в Красных Водах сородичей из враждебных племен. Бекович, который поджидал отряд, необычайно воодушевился, узнав о результатах экспедиции, и тут же велел проверить и уточнить добытые Федоровым и Званским сведения, послав вглубь пустыниастраханского дворянина Тарасовского с несколькими проводниками. Тарасовский, однако, еще не дойдя до плотины, вынужден был вернуться по причинам уже известным (проводники-туркмены боялись сородичей из враждебных кланов) [5]
[Закрыть]. На этом, собственно, и закончился поход 1715 года.
Вернувшись 9 октября в Астрахань, князь Бекович составил подробный отчет обо всем Петру и к отчету приложил и отправил в Санкт-Петербург карту морского берега, составленную морскими офицерами. Карты были слабостью Петра, а то, что самые смелые предположения его относительно возможности водным путем проникнуть если не прямо в Индию, то в далекую глубь Азии подтверждались, воодушевило его невероятно. Он вызвал Бековича в столицу, принял его, присвоил ему чин гвардии капитана, написал и отдал ему грамоты для ханов хивинского и бухарского, написал новый указ Сенату, в котором требовал во всем, что ни попросит князь Черкасский, «чинить ему отправление без задержания»; также вместе с князем отправил он в Астрахань поручика Кожина с заданием сверить карту каспийского берега и под видом купчины пробираться в Индию, ибо дело это казалось достаточно подготовленным.
Не тут-то было! Вернувшись в Астрахань, Бекович опять потерял уверенность. Впрочем, несомненная для всех историков этого похода потеря Бековичем душевного равновесия вызвана могла быть постигшим его несчастием: в самый день отплытия флотилии из Астрахани на глазах Бековича упали в воду и утонули его жена и две дочери! О, злой рок! Разумеется, такое горе могло разрушить любые планы да и вообще повредить психику человека. Однако Бекович от похода не отказался. Правда, он кампанию 1716 года употребил не на то, чтобы идти походом (или посольством) в Хиву, хотя теперь войско его достигло шести с лишком тысяч и состояло из трех пехотных полков, двух казачьих и шестисот человек драгун, а на устройство крепостей по каспийскому берегу. И хотя Петр поручил ему, заложив крепость, сразу идти на Хиву, Бекович, по какому-то внутреннему бессилию (или постигшей его после смерти жены рассеянности), всячески уклонялся от этой задачи и вместо одной крепости заложил две, на что и употребил всю осень. И это промедление обошлось ему потом очень дорого!
Первую крепость князь заложил на мысе Тюп-Караган, на той самой безжизненной песчаной косе у моря, где всякое строительство было бессмысленно: вокруг не было воды, а в колодцах, которые он приказал рыть, вода была сильно подсолена да к тому же в два дня протухала. Протесты его офицеров Кожина и фон дер Виндена ни к чему не привели. В недостроенной крепости посадил он Казанский полк с одиннадцатью орудиями, а сам направился в Красные Воды. Перед отплытием с Тюп-Карагана Бекович по старой караванной дороге отправил в Хиву послов – Ивана Воронина и Алексея Святого – с объявлением о мирных целях посольства и с подарками.
В Красноводском заливе, хорошо обжитом туркменами, Бекович тоже не стал утруждать себя подысканием сколько-нибудь подходящего места для укрепления, боясь, возможно, потревожить туркмен, и заложил у самого моря крепость, в точности подобную тюп-караганской, условия в которой были разве что «еще злее»; так, еще до начала похода большая часть войск экспедиции совершенно бесполезно для дела оставлена была умирать в безводных и зловонных прибрежных укреплениях. Так как время было уже зимнее, возле заложенных крепостей оставил Бекович и корабли, а сам с половиною войска вернулся в Астрахань. Тут стали происходить с ним вещи все более странные.
Готовясь к решительному выступлению на Хиву весной 1717 года, капитан лейб-гвардии Преображенского полка Александр Бекович-Черкасский первым делом обрил голову, облачился в восточную одежду и принял имя, которое носил до крещения, – Девлет-Гирей («Покоритель царств»). Тогда же были вызваны им из Кабарды братья, Сиюнча и Ак-Мурза, со своими нукерами. Разумеется, и прибытие этих странных гостей и, в особенности, престранная метаморфоза, происшедшая с самим главнокомандующим, повергли в полное недоумение офицеров отряда. Подозрения в том, что Бекович сошел с ума или, больше того, решился на измену, закрадывались в души его подчиненных до самого конца похода. Кожин, который еще осенью в пух и прах рассорился с Бековичем из-за закладки крепостей, не хотел уже участвовать в предполагаемой экспедиции, доказывая, что она не удастся, и требуя особого поручения в Индию. Осенью Кожин получил от калмыцкого Аюки-хана известие, что Хива раздражена строительством крепостей на территориях, лежащих у нее под данью, что хан Ширгазы собирает большое войско, а послов Бековича держит «не в чести». Кожин написал обо всем Петру, генерал-адмиралу Апраксину и князю Меншикову и уехал из Астрахани в Петербург, чтоб уличить Бековича в намерении «изменнически предать русское войско в руки варваров». За самовольство Кожин попал под суд и был прощен лишь тогда, когда действительность превзошла все самые страшные его предположения.
Метаморфоза Бековича, разумеется, нуждается в объяснении. Но смеем ли мы утверждать, что можем объяснить поступки человека XVIII столетия, к тому же оказавшегося в такой личностной и культурно-исторической ситуации, как Бекович? Генерал М. А. Терентьев в своем капитальном трехтомном труде о завоевании Средней Азии [6]
[Закрыть] рассматривает «случай Бековича» как несомненное предательство. Психологические реконструкции его таковы: восприняв гибель жены и дочерей как «кару Аллаха» за измену вере отцов, он принимает вновь восточное имя, меняет облик, возвращает себе братьев, от которых был отделен, став «русским», и в дальнейшем делает все, чтобы искупить грех своего отступничества…
Но возможна и другая реконструкция: не отличавшийся никогда решимостью и самостоятельностью, Бекович, в сентябре 1716 года потеряв жену и дочерей, действительно впадает в своеобразный ступор, из которого и не выходит. Он действует очень нерешительно, обкладываясь крепостями, как подушками, и подсознательно не желает никаких активных действий, к которым, видимо, просто не способен. Из письма своих послов, полученного им зимою в Астрахани, он тоже знает, что хивинцы собирают большое войско. Чтобы придать себе решимости перед неизбежным походом, он отступается от лейб-гвардейских чинов и возвращает себе архетипически более близкий ему образ воина (Девлет-Гирей), вызывает братьев, на которых может опереться в отличие от сомневающихся в нем русских и немецких офицеров, и дальше, так и не разрешив этим своим колдовством ни внутренних своих, ни тем более внешних проблем, выступает в поход на вероломного, хитрого и самоуверенного хивинского хана…
III
Идти на Хиву Бекович решил, ослушавшись царя, не от Красных Вод, а от Гурьева-городка, малой караванной дорогой через степи. В Гурьев в начале мая выслан был купеческий караван и обоз, а чуть позже морем прибыл и сам князь с войском, в котором состояло теперь 300 человек пехоты, посаженной на коней, 1900 яицких и гребенских казаков и 600 человек драгун. Месяц отряд без смысла простоял под Гурьевом, «точно нарочно дожидаясь жарбов» (М. А. Терентьев). В действительности Бекович все ищет-ищет, но так и не находит опоры. Посылает на стругах сто человек казаков в заложенную Тюп-Караганскую крепость, но только убеждается, что предупреждения Кожина и фон дер Виндена были не напрасны. За зиму из 1450 человек гарнизона от плохой воды умерло 500, а остальные находятся в жалком состоянии. Он посылает к туркменам, подвластным калмыцкому Аюки-хану, предложение присоединиться к его походу, обещая богатую добычу, но туркмены, хотя и отвечают согласием, присылают лишь десять человек с проводником Манглаем Кушкою. Видя, что делать нечего, Бекович в самое трудное для степного похода время дает приказ о выступлении. Воистину, здешние степи не видели столь беспримерного перехода! За восемь дней отряд, пройдя без дневок триста верст, был уже на реке Эмбе, где позволил себе два дня отдыха. Никто не повторил подвига воинства Бековича, добравшегося до Хивы за 65 дней через пылающие степи, где поднятые ветром песчинки жалят, как искры, а солнце, как жар-птица, кружит и кружит над головой, роняя свои золотые перья на высохшие спины павших в пути. Четверть своего отряда потерял Бекович в песках. Нам никогда не понять солдат XVIII века! Даже в XIX столетии эти гренадеры петровской поры вызывали благоговейный трепет у понимающих человеческий вопрос военных людей…
В плоскогорьях Усть-Юрта на ночлеге отряд покинули проводники-туркмены вместе со своим верховодом Кушкою и ушли в Хиву, где, по-видимому, подробно поведали хивинскому хану все, что знали о русском отряде, не обойдя стороной и странности Бековича, который от начала похода ехал во главе войска в черкеске, с обритой головой и продолжал называть себя Девлет-Гиреем. Ходжа Нефес, бывший невольным вдохновителем всего этого предприятия, повел отряд дальше от колодца к колодцу. Правда, пустынные колодцы хранили слишком мало воды, чтобы напоить отряд в три тысячи человек, а также верблюдов и лошадей, поэтому и ночью люди Бековича не знали отдыха, занимаясь рытьем колодцев. В восьми днях конного пути от Хивы Бекович отправил к хивинскому хану еще одного посланника, Корейтова, для уверения хана в мирной цели своего посольства. Хан Ширгазы велел бросить Корейтова и его эскорт в тюрьму, а сам стал готовиться к встрече с русскими. Точный путь Бековича невосстановим: озера, на которые ссылаются некоторые исследователи, высохли; речки, о которых проскальзывают упоминания, не отмечены ни на одной карте, они могли быть попросту затянувшимися арыками. Во всяком случае, от Усть-Юрта отряд кратчайшим путем достиг Аральского моря и по берегу его спустился в Хивинский оазис.
О, благословенная земля Хорезма! В то время разветвленная дельта Аму-Дарьи цвела всей роскошью диких пойменных лесов и возделанных садов и полей. У русских, впервые за столько дней увидевших зеленую траву, буквально захватило дух от радости. Отряд стал на отдых у озера. Казаки сразу принялись ловить рыбу в ближайшей речке, чтобы после двух месяцев поста порадовать своих свежатинкой. Увлеченные ловлей, они не заметили подкравшихся хивинцев и были захвачены в плен. Только одному казаку удалось бежать и предупредить, что враг близко. Стан русских расположился одной стороной к озеру, а по фронту и с флангов был наскоро укреплен обозными повозками. Повозки едва-едва успели сцепить между собой, как налетели хивинцы и пошел бой. Хан Ширгазы для встречи Девлет-Гирея собрал двадцатипятитысячное войско, и хотя у хивинцев не было ни пушек, ни ружей, они налетали волна за волной, осыпая русский лагерь тучами стрел, но каждый раз бывали отбиты сосредоточенным ружейным и пушечным огнем. В первый день бой длился до темноты. Ночью хивинцы отступили, расположившись своей ордой вокруг русского лагеря. Русские по приказу Бековича всю ночь укрепляли позицию: вырыли ров, навалили вал, устроили батареи. На рассвете хивинцы возобновили атаки, стремясь прорваться за укрепление, чтобы дать волю своим клинкам, но каждый раз отступали, теряя все больше людей. Бой продолжался без перерыва почти двое суток, и в конце концов хивинское войско, потеряв достаточное, чтобы осознать свое поражение, количество людей, отступило вместе с ханом Ширгазы.
Разбитые горстью русских, все потери которых за эти дни составили десять человек убитыми, хивинцы вынуждены были приступить к переговорам. Прибывший в лагерь Бековича ханский посол с самого начала понес околесицу, заявив, что нападение на русский стан совершено было без ведома хана до прибытия его к войску. Разумеется, верить этому очевидному вранью было нельзя. И в русском и в хивинском стане состоялся военный совет. Хивинский хан был обескуражен поражением, но казначей его, Досим-бей, сказал, что поражение это обернется победой, если удастся выманить из лагеря и захватить предводителя отряда, а для этого нужно, в соответствии с его желанием (столь многократно передаваемым его посланниками), вступить в мирные переговоры. В русском штабе майор Франкенберг и другие офицеры высказались категорически против переговоров. Разбить деморализованную хивинскую армию не составляло для русского отряда труда; после этого на престол можно было сажать любого хана, который сделался бы весьма сговорчивым, получив в подкрепление своей власти русский батальон. Один Саманов, очевидно смертельно напуганный ветром смерти, который сквозил над ним в эти дни, высказался за переговоры. Неожиданно Саманова поддержал Бекович, сославшись на то, что отряд сильно утомлен, а лошади и верблюды, все это время остававшиеся в лагере, не могут оставаться без пастьбы… Верблюды! Как будто Бекович не понимал, что после устроенной ему встречи жизнь всего отряда висит на волоске!
Ему следовало, конечно, вновь ослушаться царя и, отбросив все предписания вести дело «ласково и бестягостно», повести его, наоборот, с позиции силы, навязывая хану выгодные отряду решения и, разумеется, себя самого не подвергая опасности. Но мозг Бековича, который с самого начала похода являл собой пример единства и борьбы противоположностей, в решающий момент совершенно переклинило.
Утром следующего дня хивинцы вновь налетели на русский стан, надеясь, что утомленный отряд не успеет принять меры к обороне, но их атака была отбита так же жестко, как и все предыдущие. Тогда вновь явился ханский посланник и просил извинения, сказав, что и на этот раз нападение произведено без ханского ведома туркменами и каракалпаками и что хан накажет виновных. Человека здравого такая ложь окончательно убедила бы в том, что все словесные заявления противоположной стороны не стоят и гроша, но Бекович сделал вид, что поверил им, и отправил двух татар из своего отряда с требованием, чтобы хан прислал двух ближайших к нему людей – Колумбая и Назара-Ходжу – для подписания мира. Этого поворота событий и ждали хивинцы, поэтому требование князя Бековича было тотчас исполнено и в русский лагерь прибыли приближенные хана. О мире договорились на удивление легко, причем хивинцы клялись на Коране, а князь Черкасский целовал крест в знак нерушимости достигнутых соглашений. Раз поверив в очевидную ложь, Бекович, сам того не замечая, попал в совершенно виртуальный мир, мир театра, в котором перед ним разыгрывались разные сцены с единственной целью – обмануть его. Теперь был черед Бековича ехать в ханский стан. В сопровождении 700 казаков и драгун, со свитой из двух братьев и князя Саманова Бекович прискакал в хивинский лагерь. Ему отвели отдельный шатер, показали людей, виновных будто бы в последнем налете на русский лагерь, которых водили теперь у него на виду на веревке, продетой у одного в ухо, а у другого в ноздрю. На следующий день хан принял князя Черкасского, который передал ему царскую грамоту и подарки: различное сукно, сахар, соболей, 9 серебряных блюд, 9 тарелок и 9 ложек [7]
[Закрыть].
Хан подтвердил достигнутый мир целованием Корана, угощал Бековича и Саманова обедом, в продолжение которого играла русская военная музыка… Весь этот карнавал продолжался еще день; в конце концов хан объявил, что надлежит следовать в Хиву, и Бекович, продолжая, сам не ведая того, оставаться заложником хана, послал в лагерь Саманова с приказанием старшим офицерам следовать за ним. В двух днях пути от Хивы хан расположился лагерем у большого арыка Порсунгул. Здесь Бекович опять имел свидание с ханом, в ходе которого тот объявил, что не может разместить столь большой отряд в одном городе, и предложил Бековичу разделить его для препровождения в ближайшие к Хиве города. Казалось бы, столь грубая хитрость должна была насторожить Бековича и явить ему всю щекотливость положения, в котором он оказался: русский отряд стоял лагерем в двух верстах – ближе к ставке хана его не пускали хивинцы. Однако ж то был конный отряд, и две версты были бы преодолены в несколько минут… Но хан был столь добродушен в своем пожелании, что Бекович, как завороженный, все смотрел и смотрел на разыгрываемое перед ним действо, не понимая, что ему давно пора действовать самому: захватить хана в заложники или, оповестив драгун, ночью уйти из ханского лагеря – в любом случае прорваться к своим…
Однако… Что это?
От конвоя Бековича отделяются пятьсот человек и вместе с хивинскими посыльными скачут в русский лагерь… При нем остается всего двести драгун…
Черт возьми! Несчастный Бекович!
Он соглашается!
Майор Франкенберг и Пальчиков, выслушав узбеков, предложивших свои услуги для развода отряда на постой, отказались исполнять приказ. Два письменных приказа Бековича также не были исполнены. Нелепость приказов казалась Франкенбергу и Пальчикову столь очевидной, что только после личного общения с Бековичем и угроз предать его суду майор Франкенберг, специально ездивший в ханскую ставку, вернувшись в лагерь, передал Пальчикову, что делать нечего, надо довериться милости Божией…
Как он не понял, что с ним говорил безумный, давно и безнадежно находящийся во власти иллюзий человек, к тому же фактически пленный?
Как мог он разделить отряд, внутри которого в любом городе и в чистом поле его личная, майора Франкенберга, жизнь была бы в безопасности?
Не успел опустеть стан русского войска, а Бекович слезть с коня, отдав последние приказания, как хивинцы бросились на конвой князя и, рубя направо и налево, оттеснили его от Бековича и его свиты. Бекович и Саманов были раздеты донага и на глазах хана изрублены на куски, мертвым отрубили головы и с этими головами на пиках торжественно поскакали в Хиву.