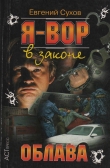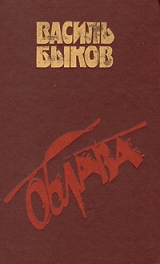
Текст книги "Облава"
Автор книги: Василь Быков
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Глава третья
ПОЛНОЛУНИЕ
Ночевал снова в лесу. По опушке отошел подальше от деревни, набрел на сухой боровой мшаник и скорчился под кустом можжевельника. Ночь выдалась холодной, сон долго не шел. Почти до первых петухов он вертелся на мху, содрогаясь от стужи и все размышляя над нелепыми вывертами своей несчастной судьбы.
Все не переставал удивляться, как ему повезло, может, первый раз в жизни. Правда, если бы знал заранее, что его ждет дома, то, может, подумал бы, стоит ли рисковать ради такого. Но не знал, не догадывался, и, в общем, хорошо, что не знал, поэтому вот теперь – дома. Что будет потом, он не думал ни тогда, когда решился на это, ни сейчас, когда достиг цели. Главное – он добился чего хотел, а там будь что будет. Не очень это разумно, если вовсе не глупо, как у пьяницы, который стремится раздобыть бутылку, а о будущем похмелье не думает. Или как голодный – лишь бы сейчас наесться, а что будет потом – его мало заботит. Казалось, Хведор утолил жажду своей души, а о дне завтрашнем боялся и думать.
Ночью снова стал донимать голод. Две печеные картофелины он съел, блуждая по лесу, в кармане оставались лишь три сырые. Там, под Котласом или Сыктывкаром, за милую душу ели и сырые. Если нарезать дольками и положить на хлеб, как редьку или брюкву, съешь и пальчики оближешь. И очень годится от цинги. Видно, придется и тут переходить на сырое, особенно когда кончатся спички. Как он ни берег их, осталось всего шесть штук в измятом, потертом коробке, а больше где взять? В лесу не найдешь, в деревне не попросишь. Попросить можно было в той стороне, где тебя не могли узнать. А тут сразу узнают. Вот диво, подумал Хведор, выходит, что беглецу в чужой стороне сподручнее, чем в родной, к которой так рвался, о которой не переставал думать ни ночью, ни днем, где столько знакомых, соседей, односельчан, с которыми прошла его жизнь. Но как раз к ним и не сунься, их надо остерегаться пуще всего. Вот как нелепо получилось. Так не по-людски и не по-божески. Почему так?
Теперь у него, как у малого ребенка, были десятки и сотни таких почему, ответить на которые он не мог, сколько ни думал. И никто ответить не мог, у кого он ни спрашивал.
Эта ночь казалась бесконечной и прошла для Хведора в непрестанном борении с холодом. Он все вертелся на стылом мшанике, уже не превозмогая дрожи, стучал остатками зубов – старался согреться. Но согреться было невозможно. Да и смутная тревога, неотвязная на грани сна, цепко держала его в своих объятиях. Он то забывался в каких-то дремотных видениях, то просыпался снова. Вокруг было тихо. К полуночи почти затих привычный шум леса, вершины елей совсем пропали в густой темени неба: между туч сверкнула и исчезла высокая одинокая звездочка. Наверно, уже за полночь где-то загикала лесная сова – в стороне болота, за вырубками,– коротко гикнула в последний раз и умолкла, будто подавилась. Может, и он ненадолго задремал под утро, совсем обессилев в борьбе со стужей и незаметно для себя притерпевшись к ней.
Проснулся, охваченный неясным беспокойством, почти испугом, поднял голову и увидел перед собой мокрую коровью морду с ниткой зеленой слюны на губе. Корова в упор разглядывала его большими печальными глазами и жевала. Рядом зашелестели ветки, и из кустов появилась еще одна буренка со сломанным рогом на крутом лбу, которая тоже уставилась на Хведора. В следующее мгновенье он со страхом понял, что очутился возле деревенского стада, которое того и гляди сейчас обступит его, и вскочил. Конечно, коровы были ему нестрашны, но где-то поблизости шли пастухи, они могли его увидать. Взмахнувши на коров руками, он двинулся в сторону, в заросли можжевельника, когда совсем рядом залилась лаем собака. Судя по визгливому голосу, собачонка была так себе, во всяком случае не овчарка. Но, черт бы ее побрал, она устроила немалый переполох в лесу и, конечно, дала знать о нем пастухам. Что было мочи Хведор бросился прочь, в глубь леса, Собачонка выскочила из-за можжевельника и помчалась рядом, словно наперегонки с ним. Ослабело трюхая меж деревьев, Хведор вполголоса ругался, пытаясь унять собаку, но та не унималась, я ее остервенелый лай неотвязно сопровождал его. «Маленькая, а злая, чтоб ты сдохла, поганка»,– на бегу думал Хведор. Но видно, сдыхать она не собиралась и долго еще гнала Хведора.
Наконец, притомившись, собачонка начала отставать, ее пронзительный лай прерывался порой, пока наконец и вовсе не затих позади. Но и Хведор изрядно вымотался от этого бега наперегонки и едва брел между деревьями. Его душили злость и обида. Это ж надо – еще и собака! Боялся нарваться на собаку в деревне, а она настигла его в лесу. Пусть бы уж волк, дикий кабан или овчарка, как это случалось на севере, а то мелкая визгливая тварь. Чтоб ты сдохла, проклятая! Хорошо еще, если в мелком кустарнике его не заметили пастухи.
Проклятая собачонка загнала его в тот край леса, который он знал хуже всего. На сумрачной голой земле тут не было даже травы или мха – все сплошь усыпано хвоей. Вокруг тесно стояли темные суковатые ели, сквозь их чащобу почти не проглядывало далекое небо. Зато было тихо, покойно, казалось, людские страсти совсем не проникают сюда. Ровный лесной шум катился-плыл где-то поверху, почти не достигая земли, и треск сучка под ногой был слышен далеко, В этой стороне леса Хведор был когда-то всего два раза, и, кажется, оба зимой, когда валили лес для Донбасса; помнилось, как отвозил тогда свои кубометры за сорок километров на станцию. Далее к западу начиналась знаменитая в здешних местах Боговизна – огромное, без дорог и селений болотное пространство, широкой полосой протянувшееся до самой польской границы. Это был уже совсем чужой край, таинственный и малознакомый.
От усталости плохо держали ноги, хотелось упасть и не подняться, Хведор долго не мог успокоиться после изнурительного бега и неприкаянно брел ельником, то т дело обходя низко торчащее еловое сучье. Наверно, теперь можно было не бояться: стадо сюда вряд ли пригонят, людям и скотине тут делать нечего. Понемногу он успокаивал себя, но вместе с успокоением все настойчивее давало себя знать привычное чувство голода. Он невольно озирался, словно пытаясь разглядеть что-либо съестное. Но, видно, съестного тут не водилось. Вконец измотавшись, сел на низкий сук выворотня, достал из кармана старенький ножик. Когда-то, еще до колхозов, купленный в сельской лавке, он неплохо послужил Хведору и там, на севере, и в дороге. Большое лезвие его расшаталось, сточилось до узкого перышка, зато меньшее прочно сидело в железном черенке. Этим лезвием Хведор слегка поскоблил картофелину и стал ее есть, отрезая небольшими ломтиками. Вкус сырого картофеля был не очень привычен Хведору, но ему теперь было не до вкуса. Лишь бы что-нибудь да жевать, чтобы приглушить голод. Потому что уже не было сил брести по этому неприветливому, диковатому лесу.
Так он съел и остальные картофелины (больше в карманах ничего не было), нисколько не утолив голода. По-прежнему хотелось есть, и он подумал, что надо поискать грибов. Есть сырые грибы, конечно, риск, но если развести костерок… Пожалуй, тут можно. Или зашиться еще глубже в лес, поближе к Боговизне. Уж там его вряд ли кто обнаружит.
Потом он долго расслабленно брел ельником, не очень и представляя, где он находится, а ельник все не кончался, и никаких грибов в нем не было видно. Изредка попадались старые, очевидно летние, почерневшие мухоморы, и ничего больше. Или, может, не грибной выдался год, думал Хведор, все больше впадая в уныние из-за своей сегодняшней невезухи. Потом он свернул в сторону – ближе к лесной деревушке Чезляки, которая, как он представлял, должна была находиться где-то поблизости. Уж там, наверное, этот ельник кончится, и в тамошних перелесках он что-нибудь да отыщет. Если не боровики, так хотя бы сыроежки. Только бы не пасли там скотину. Где пасется скотина, туда по грибы не ходят.
Он еще не дошел до Чезляков – не знал даже, много ли до них осталось, – как на болотистом мшанике между елей увидел клюкву. Густая ягодная россыпь в мелких глянцевитых листочках, никем, казалось, не тронутая, будто нарочно дожидалась его. Хведор бросился на мшаник и с жадностью стал есть ягоды, не очень разбирая, с листьями и мусором. Ползая на коленях по волглому мху, загребал их пригоршнями, ссыпал в карманы, Конечно, клюква плохо утоляла голод, но вкус у нее был приятный – кислый, с детства привычный вкус, который он не забывал и на севере. Там тоже время от времени случалось набрести на заросли клюквы или морошки, которые не раз спасали ссыльных от голода и болезней. Только там нечасто выпадало такое ягодное изобилие – вблизи от поселков ягоду поедали еще зеленой. Жаль, что целыми, без дыр оказались у него лишь три кармана – в штанах и в свитке,– много ли наберешь в них. Когда карманы были наполнены, он принялся грести ягоды в кепку и ползал по мшанику, пока наконец не сказал себе: хватит! Всего не съешь, а взять с собою больше не во что. На всякий случай постарался приметить счастливый мшаничек – за большим ельником в сторону Чезляков. Может, еще пригодится.
Немного повеселев, с набитыми клюквой карманами и полной кепкой пошел дальше. Куда – и сам не знал. Ельнику, казалось, не было конца-края – или, может, Хведор взял не то направление?
Должно быть, и в самом деле не то. Он понял это, когда ельник вдруг оборвался, впереди посветлело и он увидел широкую полосу осоки, за которой простирались глухие заросли лозы, крушины, ольшаника. Кажется, тут начиналась Боговизна, слывшая среди здешних жителей особенным, почти дьявольским местом. Все необыкновенное и жуткое было связано с Боговизной. Ею пугали плаксивых детей и пьяных мужиков, в гневе желали обидчикам провалиться сквозь землю в Боговизне. Говорили про какой-то подземный ход, или подземное русло, которое будто бы соединяло тамошние бочажины с другими омутами и озерами. Когда перед революцией в Боговизне утопла Змитрокова корова, то осенью ее труп нашли в Белом озере – за семь верст от Боговизны, хотя на поверхности их не соединяла никакая даже самая малая речка. То был людьми и богом проклятый край – многие версты непролазной трясины и болотных омутов с зарослями чахлого ольшаника, камыша, аира, местами на кочках буйно разрастался лозняк. Люди испокон веку обходили эти места, а если кто ненароком и забредал сюда, то потом спасу не было от темных страхов, испуганно кричал по ночам. Зимой Боговизна слегка подмерзала, но ее бесчисленные окна-бочаги даже в самый лютый мороз покрывались лишь тонким, непрочным льдом, который не держал человека. Разве что волка. И в морозные январские ночи оттуда доносился протяжный вой многочисленных волчьих стай. Некогда в соседних с Боговизной лесах водились медведи, немало досаждавшие жителям окрестных селений. С детства Хведор помнил рассказ деда про встречу с косолапым, когда старика захватил ливень и он укрылся в выжженном пастухами дупле старого дуба. Лил дождь, были сумерки, а в дупле и вовсе стало темно, когда снаружи в него сунулось что-то косматое и вонючее. Дед сжался, ни живой ни мертвый, медведь так его придавил широким косматым задом, что невозможно было дохнуть. Косолапый поудобнее устраивался в тесноте, видно, собираясь задержаться здесь надолго. Но деду задерживаться было некогда, ему нужно было домой, а прежде найти и обротать лошадь, которую он отпустил попастись неподалеку. И как было выбраться, чтобы не потревожить непрошеного гостя? Дед думал, сомневался, но не надумал ничего лучшего, чем изо всей мочи крикнуть из-за спины. И медведь, словно пробка из бутылки, выскочил из дупла, обдав деда смрадом. Такой была Боговизна.
Хведор постоял возле болота, и подался прочь от гиблого места, и снова долго брел лесом. Опять притомившись, сел под толстенной смолистой елью, положил на колени кепку с клюквой, по ягодке жевал, думал. Как все-таки славно в лесу на воле! Никто тебя никуда не гонит, ты никому не нужен, никто не нужен тебе. Если бы так можно было прожить жизнь! Впрочем, так когда-то и жили – в дружбе с природой и лесом, находя в нем и прокорм в голодные годы, и пристанище во время лихолетий. Лес оборонял, согревал, кормил – был лучшим благодетелем людей. Но то прежде. А теперь вот настало другое время – не спастись и в лесу. У людей всегда отыщется повод, зависть или злоба,– разыщут в лесу, найдут под землей. Это он хорошо усвоил. Хотя и не заметил, с чего все повелось, что стало тому причиной. Вот и в природе, кто знает, в чем тут загадка, но случается почти так же. Ему припомнился случай на северной реке, когда он работал сплавщиком. Сидел однажды в будке на плоту, затесывал клин под ослабшее перевясло. И вдруг через открытую дверь к нему стремглав влетел воробей, бросился на плечи, на голову, сбил на пол шапку, Хведор с перепугу пригнулся, замахал руками, словно отбиваясь от птицы, которая тотчас же вылетела на волю. Выскочив следом, Хведор понял, что заставило ее броситься к человеку. Над плотами стремительно вилась воробьиная стая, которая вся враз словно по команде набросилась на беднягу. В воздухе ошалело завертелся злой птичий клубок, воробьи в клочья рвали несчастного собрата. Скоро от него ничего не осталось, только несколько перышек тихо опускались над водой. Круто развернувшись, стайка скрылась за лесистым обрывом реки. Удивленный Хведор стоял и думал: за что? Даже и птицы! Неужели в этом исконный закон природы, чтобы все – на одного? Но почему на этого одного? Чем этот воробей вызвал гнев остальных? Поступил иначе, чем все? Нарушил какой-то птичий порядок? А может, своей несхожестью с другими? Разве не могло так быть, что виноват не он – виновата стая? Как у людей? Разве у птиц так не бывает?
Хотя, наверно, у птиц бывает иначе, чем у людей. Все же у птиц больше справедливости. Случай с воробьями он наблюдал один раз в жизни, а на людскую несправедливость насмотрелся до тошноты. Видел ее, считай, каждый день.
В этот раз он долго сидел под елью, как-то по-домашнему расслабился, даже вздремнул немного. Где-то над ним, на еловой вершине, горласто прокаркала ворона, и он очнулся от дремы. Все его мысли были далеко от этого ельника – они были там, в деревне. Он думал о ней на севере, думал теперь. О ее хатах, заботах. О своих соседях. О ее полях, политых потом. Он не мог войти в нее запросто, но мысленно всегда был там. И его неудержимо тянуло туда. Невзирая на опасность.
Где-то под вечер он наконец решился и снова потащился лесом. Шел прежней дорогой сквозь ельник туда, откуда его прогнала собака. Шел осторожно, оглядываясь по сторонам, часто останавливался, прислушивался к звукам леса, всегда таинственным. Вокруг было тихо и пусто. К вечеру, кажется, утих ветер, ели стояли в отрешенном покое, словно задумавшись о чем-то. Напутавшее его стадо, должно быть, уже бредет к выгону, думал Хведор, злая собачонка старательно подгоняет отставших коровенок. Люди тоже спешат с поля к своему жилью; на ночь глядя в лесу никто не хочет остаться. Даже такой несчастный бродяга, как Хведор.
Он еще не вышел к опушке, как начало смеркаться. В лесу под деревьями густел мрак, сливался в непроницаемую массу ближний кустарник, волглой становилась трава под ногами, и Хведор заторопился. Уже в сумерках миновал то место, где на него набросилась собака, и вскоре вышел из леса. Впереди светлело подернутое сумерками поле, стада на нем нигде не было видно, К деревне надо было идти вдоль леса по истоптанной скотом стерне, Но выходить в поле было еще рано – все-таки еще не совсем стемнело, и он сел под кустом на опушке. Сидел. Опять ел свою клюкву, коротал время. Поодаль перед ним лежал выгон, знакомая до мелочей околица деревни – с двумя грушками на Петраковом наделе, с кучей камней на бывшей меже в конце выгона. Некогда тут был и отцовский надел, на котором немало потрудился Хведор, Правда, больше и дольше его хозяйствовал там старший брат Митька, который в начале коллективизации подался в Донбасс. Сперва уехал сам, потом забрал и семейство, навсегда оставив хату, землю, все дворовое имущество. Должно быть, невозможно тут стало жить брату сосланного кулака, и Митька решился на добровольную ссылку. Как он теперь там, на шахтах? Ни разу не написал Хведору в далекий Котлас, как, впрочем, и Хведор не отважился написать ему. Да он и не знал адреса брата. Распадались семья, рушились кровные человеческие связи. Братья становились чужими. Такое настало время. Да что брат, если вот и сын тоже.
Про сына Миколку Хведор не переставал думать ни на минуту, это была его вечная боль, неуемная большая забота. Хорошо, конечно, что сыну удалось отмежеваться от позора семье и даже пробраться в начальство. Но, надо думать, очень рискованно все это, можно и погореть дотла. Чуяло отцовское сердце, что чересчур шаткое, должно быть, ненадежное положение у Миколки, и так хотелось уберечь его от беды. Но много ли он мог сделать, беглый спецпереселенец? Разве что отречься от сына, никогда не напомнив о себе ни просьбой, ни письмом, ни даже скупой весточкой,– будто он умер или его вовсе не существовало на свете. Пусть будет счастлив сынок Миколка, пусть никогда и ни в чем не упрекнет отца. Может, повезет хоть последнему из рода Ровбов, других удача уже навсегда миновала.
Над полем и выгоном тихо опустилась холодная ночь. На небе в рваных ошметках туч появился сверкающий диск луны, недолго повисел над полем и закатился за взлохмаченный край тучи. Скоро он выкатился снова и светил долго и ярко, обливая поле, опушку и человека на ней призрачным серебристым светом, Хведор не любил полнолуния, оно всегда тревожило его причудливым светом, загадочным смутным предчувствием. Теперь же полная луна и вовсе была ни к чему, и Хведор ждал, когда она скроется надолго. Деревня и хаты с опушки были видны плохо, отсюда их закрывала купа кладбищенских сосен, которые слитной высокой массой чернели за выгоном. Там царила тьма и даже при лунном свете ничего нельзя было разобрать. Хведор, однако, вглядывался в далекие очертания деревенской околицы, и его все больше тянуло к кладбищу. Когда луна наконец скрылась в тучах и вокруг все враз будто съежилось, потемнело, он поднялся из-под кустов и торопливо пошел по полю. Луна между тем снова ненадолго выглянула и снова скрылась за облаками, по он уже не останавливался до самого кладбища.
Со стороны поля ветхая кладбищенская ограда была сломана, должно быть скотиной, он перелез через уцелевшую нижнюю жердку и остановился. Скупой свет луны, словно инеем, серебрил беспорядочное нагромождение крестов и могил. Это были, очевидно, новые захоронения, их собралось тут много, и ни одно из них не было знакомо Хведору. Кресты, большие и малые, а то и вовсе махонькие, могильные холмики совсем без крестов заняли всю низинку у выгона. На высоких католических крестах кое-где виднелись белые ситцевые ленты, засохшие букеты внизу. Хведор заметил в отдалении вырезанную, должно быть, из фанеры пятиконечную звезду, отчетливым силуэтом выделявшуюся на фоне светловатого неба. С затаенным любопытством он осторожно прошел между могил и в свете луны ошеломленно прочитал на черной дощечке: «Сокур Иван». Ниже были обозначены даты рождения и смерти. Минуту он недоуменно смотрел на надпись, оглядел невысокий могильный холмик. Было заметно, что могилу не обкладывали и, похоже, никто не присматривал за ней, вся она густо поросла бурьяном и выглядела совершенно заброшенной. Впрочем, как и многие другие могилы рядом. Но те были, наверно, давние, забытые могилы, а вот эта принадлежала человеку, которого должны были помнить в деревне. Когда Хведора ссылали на север, этот Сокур помогал районным начальникам и в то время казался бодрым, вполне здоровым мужиком, И отчего он очутился тут до поры, недоумевал Хведор. и злым он, кажется, не был, Хведор на него обиды не держал. Хотя… Может, знай он, что близкий конец, мог бы быть и получше. Таким, как его отец, спокойный, рассудительный старик, не только никому не причинивший зла, но многим помогавший в их трудный час. Было время, он приютил семью брата, убитого молнией. Была гроза, брат укрылся под грушей в поле, да так там и остался. Вечером его, мертвого, нашли пастухи, назавтра схоронили, осталась больная вдова с шестью детишками. Старый Сокур всех перевез к себе в хату, воспитал, вывел в люди детей. Хороший был человек. Но, должно быть, сын пошел не в отца. Большого зла он людям не чинил, но, видно, был слишком покладист на должности председателя сельсовета, и районное начальство помыкало им как хотело. В тот день, как высылали Ровбу, он был поставлен следить, чтобы раскулаченные согласно приказу взяли с собой только пилу, топор, кое-какую одежонку да харчей на три дня. Все остальное – картофель, зерно, имущество, нажитое годами труда и пота,– реквизировать в пользу сельсовета. Пускай бы реквизировали на общественные нужды, думал потом Хведор, но они же отбирали прежде всего затем, чтобы не оставить ссыльным, не позволить взять в дальнюю дорогу, чтобы те поскорее поумирали там от голода и стужи. Шестилетняя Олечка как раз надела новые валеночки, осенью скатанные дай нее в местечке. Всю зиму девочка берегла их, обходясь старенькими, латаными-перелатаными отопками, которые было решено доносить до весны и выкинуть. Но когда стали собираться в эту дорогу, мать велела ей надеть новые – все же выправлялись в люди и матери ее хотелось, чтобы девочка выглядела хуже других, Олечка послушалась, на свою беду, и перед самым отъездом стояла на затоптанном крыльце в ладных черных валеночках. Зря, видно, стояла. Бросились эти валеночки в хищные очи уполномоченного, мрачного человека в черном полушубке, и тот что-то приказал Сокуру Ивану. Сокур помялся, передернул бритым лицом, но подошел к девочке и передал приказ. Оля послушно сняла валенки и осталась на снегу в одних рваных чулочках. Увидев это, Ганулька заплакала и вынесла из сеней оставленные там отопки. Хведор укоризненно проговорил про себя: «Да-а-а!»– на что Сокур молча пожал плечами: мол, при чем я – приказали! Он подобрал те маленькие валеночки и носил с собой, пока раскулаченные грузили пожитки, прощались с родней, а Хведор все думал про него: не по-божески это – разуть дитя, не в теплые же края едут – на север, в стужу и морозы. Нет, не сказал. И поехала Олечка в ветхих отопках, и ходила в них еще две зимы, и простужалась, и хворала. Пока не простудилась последний раз, когда уже ничего ей не стало нужно.
В тот раз по широкой северной реке они гнали плоты – целый плавучий караван из бревен на тысячи кубометров древесины. Было их тринадцать человек в бригаде Кузнецова, средних лет бородатого мужика, наверно, всю свою жизнь проработавшего на сплаве. Он хорошо знал реку, все ее повороты, мели и перекаты, умел сноровисто обойти опасный каменистый слив, не рассыпать связки, не напороться на камни или на какой-нибудь полузатопленный песчаный остров. С людьми был строг, неразговорчив, не любил лодырей и слабосильных (что было для него одно и то же). Поэтому, видно, Ровба и попал в его бригаду – он был тогда вынослив, терпелив и беспрекословен. Нашлась, однако, причина, от которой едва не кончилась его работа на сплаве. После смерти жены осталась одна, без присмотра десятилетняя Олечка, и Хведор вынужден был взять дочку с собой. Но находиться на плотах посторонним строго запрешалось, поэтому Кузнецов, увидев плотогона с ребенком, тут же отправил его в контору. Может, он думал, что Ровба станет артачиться или упрашивать, а Ровба покорно собрал свой узелок, взял за руку дочку и, сказав «до свиданья», молча сошел на берег. С берега в последний раз оглянулся на реку и бригадира, который молча стоял на плоту, И вдруг бригадир взмахнул рукой, давая им знак вернуться. Хведор покорно, как и уходил, вернулся, и Кузнецов раздраженно выпалил: «Оставайся. Только смотри; догоришь – я ничего не знаю. Понял?» «Понял»,– скупо сказал Хведор, безмерно обрадовавшись такому повороту судьбы. В самом деле, он уже свыкся с работой на сплаве, ему нравилось речное приволье, лесные берега вокруг и высокое вольное небо над ними. Тяжелой работы он не боялся, думал, что тяжелее, чем на торфоразработках или на лесоповале в тайге, нигде не будет. Опять же при нем всегда будет Олечка, и душу его не будет щемить всякий раз, когда придется оставлять дочку одну и терзаться, как она там, не голодна ли, не обидел ли ее кто из взрослых. При жизни матери все было проще и спокойнее (хотя и тогда Олечка целыми днями сидела в холодном бараке, пока мать работала на лесосеке). Теперь же в поселке не осталось ни одной знакомой, родной души, а люди там были разные, собранные со всего света – как было бросить дитя без присмотра? Хведор был очень благодарен бригадиру за его доброту и за двоих вкалывал на сплаве.
Если бы он знал, чем обернется для него эта доброта, лучше бы оставил дочку в тайге, в первом попавшемся лесном поселении среди чужих, незнакомых людей. О, если бы знал…
На плотах Олечка не оставалась без дела, была услужливой, очень старательной девочкой и чем могла помогала строгим молчаливым дядькам. Спустя несколько дней бригадир поставил ее помощницей к кашевару Кравцу, тихому, покладистому человеку, самому старому в их бригаде. Кравец, в общем, неплохо относился к девочке, не обижал. Иногда, правда, прикрикнет, если она сделает что не так или замешкается, но прикрикнет без злобы. Без злобы – это главное. Не то что его земляк Роговцев – крикливый, психованный проходимец, который на каждом шагу все с матом, с самыми паскудными словами. По всякому поводу и без повода, наверно, больше по причине своей вечной нутряной озлобленности. Всякий раз, когда Хведор слышал эту матерщину, ему словно гвоздем протыкало сердце. По возможности он старался оградить от нее Олечку и, как только Роговцев начинал сквернословить, нарочно заговаривал о чем-нибудь с ней или отсылал ее на другой конец каравана. Но однажды, когда этот матерщинник особенно похабно заговорил при ней о бабах, стоящих на берегу, Хведор не вытерпел и сдержанно упрекнул человека: мол, негоже так распускать язык при ребенке, можно бы немного и по-людски. Роговцев тут же заорал, что ссыльный Ровба ему не указ, что его матюки – мелочь для того, кто нелегально содержит на плоту посторонних и тем самым нарушает режим. Вот он стукнет в ближайшем поселке, и тогда его доченька не такое услышит на ближайшем этапе, куда ее запроторят вместе с ее чистоплюем папашей.
Хведор так растерялся от этих бессовестных слов, что ее нашелся что ответить. Казалось, он уже достаточно насмотрелся на всяческую человеческую подлость, но такой не видел. Вечером, когда они прошли трудную Устюжную мель, об угрозе Роговцева он рассказал бригадиру, думал, бригадир заступится, отчитает наглеца. Но Кузнецов только насупился и сказал: «Этот все может». «Так что же мне делать?» – растерянно спросил Хведор. И Кузнецов, сверкнув на него строгим взглядом, ответил: «Появятся чужие – прячь дочку». «Где же тут спрячешь на плоту?» – искренне изумился Хведор. «А под плотом и спрячешь», – бросил бригадир и зашагал себе по скользким бревнам на корму к стерновому. Хведор стоял, не зная, всерьез это или, может, в издевку. Только постепенно до его сознания дошло: а и правда, можно ведь спрятаться в воде, за плотом. Олечка уже научилась неплохо плавать, будет держаться за бревно, авось не утонет. Тревожило только одно: лето было на исходе, вода с каждым днем холодала, они на плотах уже перестали купаться, только умывались по утрам. Утра становились совсем холодными.
Кто знает, исполнил ли свою угрозу этот Роговцев, но вот как-то на плот для проверки спрыгнул вохровец из районной комендатуры. Была как раз остановка плотов перед Усысвинсквм перекатом. Случалось, вохровцы наведывались для проверки и прежде, но проверяли больше для вида: спросят кое о чем у бригадира, позыркают по сторонам и спешат на берег. Этот же, мордастый приземистый вахлак в длинной серой шинели, поговорив с бригадиром, намерился пройти по плотам до кормы, и у Хведора недобро заныло сердце. С багром в руках он стоял по правую сторону плота, а в пяти шагах от него, держась за веревку, сидела в воде Олечка; только ее светлая головка покачивалась возле бревна на поверхности. И вот вохровец остановился посреди плота, лениво пораскачивался на толстом комле и завел с бригадиром разговор о хитростях здешней рыбалки, о том, на какую блесну берется осенью семга. Время было не позднее, но уже далеко не полдень, с севера дул холодный ветерок. Хведор напрягся от нетерпения, слушая этот бесконечный пустой разговор. Но вот, кажется, они уже собрались возвращаться к берегу, уже повернулись, уже шагнули идти… И снова остановились. Вохровец, показывая на поселок, что-то говорил бригадиру, а Хведор молча, про себя ругался: чтоб ты сдох, сытый пес! Олечка, видно, уже закоченела в воде за плотом, а вохровец медленно, с остановками шел по неподвижным плотам, говорил и говорил, потом бесцельно топтался у берега, все оглядывая реку. Хведор стоял, напряженно думая, стукнул Роговцев или нет. Наконец вохровец исчез за прибрежным кустарником, и он с трудом вытащил Олечку из воды – та вся посинела от холода и, дробно стуча зубами, не могла вымолвить ни слова. Дрожащими руками отец торопливо вытирал ее грубой мешковиной, тер худенькие плечики, впалую грудку. Надо было переодеть ее в сухое, и он снял с себя свитку, укутал дочку. Пришел Кузнецов, глянул, все понял и сбросил ватник – на, укрой! Спасибо ему, укрыл. Потом Кравец вскипятил воду, и он поил ее кипятком – казалось, как-то отогрел девочку.
На ночь положил на обычном их месте – за будкой, на влажном слежавшемся тряпье, закутал в мешковину и бригадирский ватник, Она согрелась и уснула, и он, сидя рядом, думал: может, и обойдется. Но не обошлось. Под утро начался жар, запылала дочка, просила пить, жаловалась, что болит головка. Он поил ее теплой водой, ничего другого у них не нашлось – ни лекарства, ни какой-либо травы. Утром слегка задремала, но во сне вся горела, а ему нужно было заступать за стернового. «Впереди,– сказал бригадир,– самый трудный участок реки, всем надо глядеть в оба». Но как ни глядели, все же посадили крайний плот на камни, едва сдернули его к обеду. За эти часы он сумел выкроить несколько минут, чтобы наведаться за будку, и у него всякий раз недобро сжималось сердце – Олечке было плохо. Как на беду, по обе стороны реки проплывали пустые таежные берега, тянулись дикие откосы, и над ними высился дремучий лес. Человеческого жилья нигде не было видно. Бригадир видел его горе и, похоже, сочувствуя ему, сказал: «В конце недели приедем в Мезу, там есть амбулатория, может, снесем туда девочку». Как избавления Хведор ждал, когда появится эта Меза, ждал два дня и две ночи, ни на минуту не сомкнул глаз, не прилег. То ворочал стерном или багром, то бегал по шатким плотам к будке, Олечке становилось все хуже. На третий день она уже не узнавала его, только просила отогнать птиц, и он удивился: каких птиц? Потом понял: она бредит. На следующую ночь умолкла, совсем успокоилась и тихо покинула этот мир. Как светлая маленькая птичка, навсегда отлетела в небытие ее чистая детская душа.