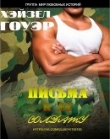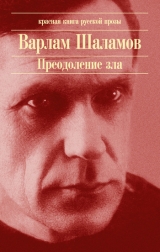
Текст книги "Воскрешение лиственницы"
Автор книги: Варлам Шаламов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Храбрые глаза
Мир бараков был сдавлен тесным горным ущельем. Ограничен небом и камнем. Прошлое здесь являлось из-за стены, двери, окна; внутри никто ничего не вспоминал. Внутри был мир настоящего, мир будничных мелочей, который даже суетным нельзя было назвать, ибо этот мир зависел от чьей-то чужой, не нашей воли.
Я вышел из этого мира впервые по медвежьей тропе.
Мы были базой разведки и в каждое лето, в короткое лето, успевали сделать броски в тайгу – пятидневные походы по руслам ручьев, по истокам безымянных речушек.
Тем, кто на базе, – канавы, закопушки, шурфы; тем, кто в походе, – сбор образцов. Те, кто на базе, – покрепче, те, кто в походе, – послабее. Значит, это вечный спорщик Калмаев – искатель справедливости, отказчик.
В разведке строили бараки, и в редколесье таежном свезти вместе спиленные восьмиметро-вые лиственничные бревна – работа для лошадей. Но лошадей не было, и все бревна перетаскивали люди, с лямками, с веревками, по-бурлацки, раз, два – взяли. Эта работа не понравилась Калмаеву.
– Я вижу, вам нужен трактор, – говорил он десятнику Быстрову на разводе. – Вот и посадите в лагерь трактор и трелюйте, таскайте деревья. Я не лошадь.
Вторым был пятидесятилетний Пикулев – сибиряк, плотник. Тише Пикулева не было у нас человека. Но десятник Быстров своим опытным, наметанным в лагере глазом уловил у Пикулева одну особенность.
– Что ты за плотник, – говорил Быстров Пикулеву, – если твоя задница все время места ищет. Чуть кончил работу, минуты не постоишь, не шагнешь, а тут же садишься на бревно.
Старику было трудно, но Быстров говорил убедительно.
Третьим был я – старый недруг Быстрова. Еще зимой, еще прошлой зимой, когда меня впервые вывели на работу и я подошел к десятнику, Быстров сказал, с удовольствием повторяя свою любимую остроту, в которую вкладывал всю свою душу, все свое глубочайшее презрение, враждебность и ненависть к таким, как я:
– А вам какую работу прикажете дать – белую или черную?
– Все равно.
– Белой у нас нет. Пойдем копать котлован.
И хотя я знал эту поговорку отлично, и хотя я умел все – всякую работу умел делать не хуже других и другому показать мог, десятник Быстров относился ко мне враждебно. Я, разумеется, не просил, не «лащил», не давал и не обещал взяток – можно было спирт отдать Быстрову. У нас иногда давали спирт. Но, словом, когда потребовался третий человек в поход, Быстров назвал мою фамилию.
Четвертым был договорник, вольнонаемный геолог Махмутов.
Геолог был молод, все знал. В пути сосал то сахар, то шоколад, ел отдельно от нас, доставая из мешочка галеты, консервы. Нам он обещал подстрелить куропатку, тетерку, и верно, два раза на пути хлопали крылья не тетерева, а рябые крылья глухаря, но геолог стрелял, волнуясь и делая промахи. Влет стрелять он не умел. Надежда на то, что нам застрелят птицу, рухнула. Мясные консервы мы варили для геолога в отдельном котелке, но это не считалось нарушением обычая. В бараках заключенных никто не требует делиться едой, а тут и совсем особое положение разных миров. Но все же ночью мы все трое, и Пикулев, и Калмаев, и я, просыпались от хруста костей, чавканья, отрыжки Махмутова. Но это не очень раздражало.
Надежда на дичь была разрушена в первый же день. Мы ставили палатку в сумерках на берегу ручья, который серебряной ниточкой тянулся у наших ног, а на другом берегу была густая трава, метров триста густой травы до следующего правого скалистого берега… Эта трава росла на дне ручья – весной тут заливало все вокруг, и луг, вроде горной поймы, зеленел сейчас вовсю.
Вдруг все насторожились. Сумерки не успели еще сгуститься. По траве, колебля ее, двигался какой-то зверь – медведь, росомаха, рысь. Движения в море травы были видны всем: Пикулев и Калмаев взяли топоры, а Махмутов, чувствуя себя джек-лондоновским героем, снял с плеча и взял на изготовку мелкокалиберку, заряженную жаканом, куском свинца для встречи медведя.
Но кусты кончились, и к нам, ползя на брюхе и виляя хвостом, приблизился щенок Генрих – сын убитой нашей суки Тамары.
Щенок отмахал двадцать километров по тайге и догнал нас. Посоветовавшись, мы прогнали щенка обратно. Он долго не понимал, почему мы так жестоко встречаем его. Но все же понял и снова пополз в траву, и трава снова задвигалась, на этот раз в обратном направлении.
Сумерки сгустились, и следующий наш день начался солнцем, свежим ветром. Мы поднимались по развилкам бесчисленных, бесконечных речушек, искали оползни на склонах, чтобы подвести к обнажениям Махмутова и геолог бы прочел знаки угля. Но земля молчала, и мы двинулись вверх по медвежьей тропе – другого пути не было в этом буреломе, хаосе, сбитом ветрами нескольких столетий в ущелье. Калмаев и Пикулев потащили палатку вверх по ручью, а я и геолог вошли в тайгу, нашли медвежью тропу и, прорубаясь сквозь бурелом, пошли вверх по тропе.
Лиственницы были покрыты зеленью, запах хвои пробивался сквозь тонкий запах тленья умерших стволов – плесень тоже казалась весенней, зеленой, казалась тоже живой, и мертвые стволы исторгали запах жизни. Зеленая плесень на стволе казалась живой, казалась символом, знаком весны. А на самом деле это цвет дряхлости, цвет тленья. Но Колыма задавала нам вопросы и потруднее, и сходство жизни и смерти не смущало нас.
Тропа была надежная, старая, проверенная медвежья тропа. Сейчас по ней шли люди, впервые от сотворения мира, геолог с мелкокалиберкой, с геологическим молотком в руках и сзади я с топором.
Была весна, цвели все цветы сразу, птицы пели все песни сразу, и звери торопились догнать деревья в безумном размножении рода.
Медвежью тропу перегораживал косой мертвый ствол лиственницы, огромный пень, дерево, верхушка которого была сломана бурей, сбита… Когда? Год или двести лет назад? Я не знаю меток столетий, да и есть ли они? Я не знаю, сколько на Колыме стоят на земле бывшие деревья и какие следы на пне год за годом откладывает время.
Живые деревья считают время по кольцам – что ни год, то кольцо. Как отмечается смена для пней, для мертвых деревьев, я не знаю. Сколько времени можно пользоваться умершей лиственницей, разбитой скалой, поваленным бурей лесом – пользоваться для норы, для берлоги, – знают звери. Я этого не знаю. Что заставляет медведя выбирать другую берлогу. Что заставляет зверя ложиться дважды и трижды в одну и ту же нору.
Буря наклонила сломанную лиственницу, но выдернуть из земли не могла – не хватило у бури силы. Сломанный ствол нависал над тропой, и медвежья тропа изгибалась и, обогнув наклоненный мертвый ствол, снова становилась прямой. Можно было легко рассчитать высоту четвероногого зверя.
Махмутов ударил геологическим молотком по стволу, и дерево откликнулось глухим звуком, звуком полого ствола, пустоты. Пустота была дуплом, корой, жизнью. Из дупла прямо на тропу выпала ласка, крошечный зверек. Зверек не исчез в траве, в тайге, в лесу. Ласка подняла на людей глаза, полные отчаяния и бесстрашия. Ласка была на последней минуте беременности – родовые схватки продолжались на тропе, перед нами. Прежде чем я успел что-нибудь сделать, крикнуть, понять, остановить, геолог выстрелил в ласку в упор из своей берданки, заряженной жаканом, куском свинца для встречи с медведем. Махмутов стрелял плохо не только влет…
Раненая ласка ползла по медвежьей тропе прямо на Махмутова, и Махмутов попятился, отступая перед ее взглядом. Задняя лапка беременной ласки была отстрелена, и ласка тащила за собой кровавую кашу еще не рожденных, не родившихся зверьков, детей, которые родились бы на час позже, когда мы с Махмутовым были бы далеко от сломанной лиственницы, родились бы и вышли в трудный и серьезный таежный звериный мир.
Я видел, как ползла ласка к Махмутову, видел смелость, злобу, месть, отчаяние в ее глазах. Видел, что там не было страха.
– Сапоги прокусит, стерва, – сказал геолог, пятясь и оберегая свои новенькие болотные сапоги. И, перехватив берданку за ствол, геолог подставил приклад к мордочке умирающей ласки.
Но глаза ласки угасли, и злоба в ее глазах исчезла.
Подошел Пикулев, нагнулся над мертвым зверьком и сказал:
– У нее были храбрые глаза.
Что-то он понял? Или нет? Не знаю. По медвежьей тропе мы вышли на берег речки, к палатке, к месту сбора. Завтра мы начнем обратный путь – только не этой, другой тропой.
1966
Марсель Пруст
Книга исчезла. Огромный, тяжелый фолиант, лежавший на скамейке, исчез на глазах десятков больных. Кто видел кражу – не скажет. На свете нет преступлений без свидетелей – одушевленных и неодушевленных свидетелей. А если есть такие преступления? Кража романа Марселя Пруста не такая тайна, которую страшно забыть. К тому же молчат под угрозой, брошенной походя, без адреса и все же действующей безошибочно. Кто видел – будет молчать за «боюсь». Благодетельность такого молчания подтверждается всей жизнью лагерной, да и не только лагерной, но и всем опытом жизни гражданской. Книгу мог украсть любой фраер по указанию вора, чтобы доказать свою смелость, свое желание принадлежать к преступному миру, к хозяевам лагерной жизни. Мог украсть любой фраер просто так, потому что книга плохо лежит. Книга действительно плохо лежала: на самом краю скамейки в огромном больничном дворе каменного трехэтажного здания. На скамейке сидели я и Нина Богатырева. За мной были колымские сопки, десятилетнее скитание по этим горным весям, а за Ниной – фронт. Разговор, печальный и тревожный, кончился давно.
В солнечный день больных выводили на прогулку – женщин отдельно, – Нина, как санитарка, караулила больных.
Я проводил Нину до угла, вернулся, скамейка все еще была пуста: гуляющие больные боялись на эту скамейку сесть, считая, что это скамейка фельдшеров, медсестер, надзора, конвоя.
Книга исчезла. Кто будет читать эту странную прозу, почти невесомую, как бы готовую к полету в космос, где сдвинуты, смещены все масштабы, где нет большого и малого? Перед памятью, как перед смертью, – все равны, и право автора запомнить платье прислуги и забыть драгоценности госпожи. Горизонты словесного искусства раздвинуты этим романом необычайно. Я, колымчанин, зэка, был перенесен в давно утраченный мир, в иные привычки, забытые, ненужные. Время читать у меня было. Я – ночной дежурный фельдшер. Я был подавлен «Германтом». С «Германта», с четвертого тома, началось мое знакомство с Прустом. Книгу прислали моему знакомому фельдшеру Калитинскому, уже щеголявшему в палате в бархатных брюках гольф, с трубкой в зубах, уносящей неправдоподобный запах кэпстена. И кэпстен, и брюки гольф были в посылке вместе с «Германтом» Пруста. Ах, жены, дорогие наивные друзья! Вместо махорки – кэпстен, вместо брюк из чертовой кожи – бархатные брюки гольф, вместо шерстяного, широкого двухметрового верблюжьего шарфа – нечто воздушное, похожее на бант, на бабочку – шелковый пышный шарф, свивавшийся на шее в веревочку толщиной в карандаш.
Такие же бархатные брюки, такой же шелковый шарф прислали в тридцать седьмом году Фрицу Давиду, голландцу-коммунисту, а может быть, у него была другая фамилия, моему соседу по РУРу – роте усиленного режима. Фриц Давид не мог работать – был слишком истощен, а бархатные брюки и шелковый пышный галстук-бант даже на хлеб на прииске нельзя было променять. И Фриц Давид умер – упал на пол барака и умер. Впрочем, было так тесно, – все спали стоя, – что мертвец не сразу добрался до пола. Мой сосед Фриц Давид сначала умер, а потом упал.
Все это было десять лет назад – при чем тут «Поиски утраченного времени»? Калитинский и я – мы оба вспоминали свой мир, свое утраченное время. В моем времени не было брюк гольф, но Пруст был, и я был счастлив читать «Германта». Я не пошел спать в общежитие. Пруст был дороже сна. Да и Калитинский торопил.
Книга исчезла. Калитинский был взбешен, был вне себя. Мы были мало знакомы, и он был уверен, что это я украл книгу, чтобы продать подороже. Воровство походя было колымской традицией, голодной традицией. Шарфы, портянки, полотенца, куски хлеба, махорка – отсыпка, отначка – исчезали бесследно. Воровать на Колыме умели, по мнению Калитинского, все. Я тоже так думал. Книгу украли. До вечера еще можно было ждать, что подойдет какой-нибудь доброволец, героический стукач и «дунет», скажет, где книга, кто вор. Но прошел вечер, десятки вечеров, и следы «Германта» исчезли.
Если не продадут любителю, – любители Пруста из лагерных начальников!! Еще поклонники Джека Лондона встречаются в этом мире, но Пруста!! – то на карты: «Германт» – это увесистый фолиант. Это одна из причин, почему я не держал книгу на коленях, а положил на скамейку. Это толстый том. На карты, на карты… Изрежут – и все.
Нина Богатырева была красавица, русская красавица, недавно привезенная с материка, привезенная в нашу больницу. Измена родине. Пятьдесят восемь один «а» или один «б».
– Из оккупации?
– Нет, мы не были в оккупации. Это прифронтовое. Двадцать пять и пять – это без немцев. От майора. Арестовали, хотел майор, чтоб я с ним жила. Я не стала. И вот срок. Колыма. Сижу на этой скамейке. Все правда. И все – неправда. Не стала с ним жить. Уж лучше я со своим буду гулять. Вот с тобой…
– Я занят, Нина.
– Слыхала.
– Трудно тебе будет, Нина. Из-за твоей красоты.
– Будь она проклята, эта красота.
– Что тебе обещает начальство?
– Оставить в больнице санитаркой. Выучусь на сестру.
– Здесь не оставляют женщин, Нина. Пока.
– А меня обещают оставить. Есть у меня один человек. Поможет мне.
– Кто такой?
– Тайна.
– Смотри, здесь больница казенная, официальная. Никто власти тут такой не имеет. Из заключенных. Врач или фельдшер – все равно. Это не приисковая больница.
– Все равно. Я счастливая. Абажуры буду делать. А потом поступлю на курсы, как ты.
В больнице Нина осталась делать абажуры бумажные. А когда абажуры были кончены, ее снова послали в этап.
– Твоя баба, что ли, едет с этим этапом?
– Моя.
Я оглянулся. За мной стоял Володя, старый таежный волк, фельдшер без медицинского образования. Какой-то деятель просвещения или секретарь горсовета в прошлом.
Володе было далеко за сорок, и Колыму он знал давно. И Колыма знала Володю давно. Делишки с блатными, взятки врачам. Сюда Володя был прислан на курсы, подкрепить должность знанием. Была у Володи и фамилия – Рагузин, кажется, но все его звали Володя. Володя – покровитель Нины? Это было слишком страшно. За спиной спокойный голос Володи говорил:
– На материке был полный порядок у меня когда-то в женском лагере. Как только начнут «дуть», что живешь с бабой, я ее в список – пурх! И на этап. И новую зову. Абажуры делать. И снова все в порядке.
Уехала Нина. В больнице оставалась ее сестра Тоня. Та жила с хлеборезом – выгодная дружба – Золотницким, смуглым красавцем-здоровяком из бытовичков. В больницу, на должность хлебореза, сулящую и дающую миллионные прибыли, Золотницкий прибыл за большую взятку, данную, как говорили, самому начальнику больницы. Все было хорошо, но смуглый красавец Золотницкий оказался сифилитиком: требовалось возобновление лечения. Хлебореза сняли, отправили в мужскую вензону, лагерь для венерических больных. В больнице Золотницкий пробыл несколько месяцев, но успел заразить только одну женщину – Тоню Богатыреву. И Тоню увезли в женскую вензону.
Больница всполошилась. Весь медицинский персонал – на анализ, на реакцию Вассермана. У фельдшера Володи Рагузина – четыре креста. Сифилитик Володя исчез из больницы.
А через несколько месяцев в больницу конвой привез больных женщин и среди них Нину Богатыреву. Но Нину везли мимо – в больнице она только отдохнула. Везли ее в женскую венерическую зону.
Я вышел к этапу.
Только глубоко запавшие крупные карие глаза – больше ничего из прежнего облика Нины.
– Вот, в вензону еду…
– Но почему в вензону?
– Как, ты, фельдшер, и не знаешь, почему отправляют в вензону? Это Володины абажуры. У меня родилась двойня. Не жильцы были. Умерли.
– Дети умерли? Это твое счастье, Нина.
– Да. Теперь я вольная птица. Подлечусь. Нашел книгу-то тогда?
– Нет, не нашел.
– Это я ее взяла. Володя просил что-нибудь почитать.
1966
Смытая фотография
Одно из самых главных чувств в лагере – чувство безбрежности унижения, чувство утешения, что всегда, в любом положении, в любых обстоятельствах есть кто-то хуже тебя. Эта ступенчатость многообразна. Это утешение спасительно, и, может быть, в нем скрыт главный секрет человека. Это чувство… Это чувство спасительно, как белый флаг, и в то же время это примирение с непримиримым.
Крист только что спасся от смерти, спасся до завтрашнего дня, не более, ибо завтрашний день арестанта – это та тайна, которую нельзя разгадывать. Крист – раб, червь, червь-то уж наверняка, ибо, кажется, только у червяка из всего мира живого нет сердца.
Крист положен в больницу, сухая пеллагрозная кожа шелушится – морщины написали на лице Криста его последний приговор. Пытаясь на дне своей души, в последних уцелевших клеточках своего костлявого тела найти какую-то силу – физическую и духовную, чтобы прожить до завтрашнего дня, Крист надевает грязный халат санитара, метет палаты, заправляет койки, моет, меряет температуру больным.
Крист уже бог – и новые голодные, новые больные смотрят на Криста как на свою судьбу, как на божество, которое может помочь, может избавить их – от чего, больной и сам не знает. Больной знает только, что перед ним – санитар из больных, который может замолвить слово врачу, и больному дадут пролежать лишний день в больнице. Или даже, выписавшись, передаст свой пост, свою мисочку супа, свой санитарный халат больному. А если этого не будет, не беда – разочарований в жизни бывает много.
Крист надел халат и стал божеством.
– Я тебе рубашку постираю. Рубашку. В ванной ночью. И высушу на печке.
– Здесь нет воды. Возят.
– Ну сбереги полведра.
Кристу давно хотелось выстирать свою гимнастерку. Он бы и сам выстирал, но валился без ног от усталости. Гимнастерка была приисковая – вся просолилась от пота, обрывки только, а не гимнастерка. И может быть, первая же стирка превратит эту гимнастерку в прах, в пыль, в тлен. Один карман был оторван, но второй цел, и в нем лежало все, что Кристу почему-то было важно и нужно.
И все-таки нужно было выстирать. Просто больница, Крист – санитар, рубаха грязная. Крист вспомнил, как несколько лет назад его взяли переписывать карточки в хозчасть – карточки декадного довольствия, по проценту выработки. И как все живущие в бараке с Кристом ненавидели его из-за этих бессонных ночей, дающих лишний талон на обед. И как Криста тотчас же продали, «сплавили», обратясь к кому-то из штатных бухгалтеров-бытовиков и показав на ворот Криста, на ворот, по которому выползала голодная, как Крист, вошь. Бледная, как Крист, вошь. И как Крист был в эту же минуту вытащен из конторы чьей-то железной рукой и выброшен на улицу.
Да, лучше было бы выстирать гимнастерку.
– Ты будешь спать, а я постираю. Кусочек хлебца, а если хлеба нет, то так.
У Криста не было хлеба. Но на дне души кто-то кричал, что надо остаться голодным, а рубашку все-таки выстирать. И Крист перестал сопротивляться чужой, страшной воле голодного человека.
Спал Крист, как всегда, забытьем, а не сном.
Месяц назад, когда Крист не лежал еще в больнице, а шатался в огромной толпе доходяг – от столовой до амбулатории, от амбулатории до барака в белой мгле лагерной зоны, – случилась беда. У Криста украли кисет. Пустой кисет, разумеется. Никакой махорки в кисете не было не первый год. Но в кисете Крист хранил – зачем? – фотографии и письма жены, много писем. Много фотографий. И хотя эти письма Крист никогда не перечитывал и фотографии не разглядывал – это было слишком тяжело, – он берег эту пачку до лучшего, наверное, времени. Объяснить было трудно, зачем эти письма, написанные крупным детским почерком, возил Крист по всем своим арестантским путям. При обысках письма не отбирали. Груда писем копилась в кисете. И вот кисет украли. Подумали, наверное, что там деньги, что среди фото вложен какой-нибудь тончайший рубль. Рубля не оказалось… Крист не нашел этих писем никогда. По известным правилам краж, которые блюдутся на воле, блюдутся блатными и теми, кто подражает блатным, документы надо подбрасывать в мусорные ящики, фотографии отсылать по почте или выбрасывать на свалку. Но Крист знал, что эти остатки человечности вытравлены дочиста в колымском мире. Письма сожгли, конечно, в каком-нибудь костре, в лагерной печке, чтобы осветилось внезапно светлым огнем, – писем, конечно, не вернут, не подбросят. Но фотографии, фотографии-то зачем?
– Не найдешь, – сказал Кристу сосед. – Блатные забрали.
– Но им-то зачем?
– Ах ты! Женская фотография?
– Ну да.
– А для сеансу.
И Крист перестал спрашивать.
В кисете Крист держал старые письма. Новое же письмо и фотография – новая маленькая паспортная фотография хранились в левом, единственном кармане гимнастерки.
Крист спал, как всегда, забытьем, а не сном. И проснулся с ощущением: что-то должно быть сегодня хорошее. Вспоминал Крист недолго. Чистая рубашка! Крист сбросил свои тяжелые ноги с топчана и вышел на кухню. Вчерашний больной встретил Криста.
– Сушу, сушу. На печке сушу.
Вдруг Крист почувствовал холодный пот.
– А письмо?
– Какое письмо?
– В кармане.
– Я не расстегивал карманов. Разве мне можно расстегивать ваши карманы?
Крист протянул руки к рубашке. Письмо было цело, влажное сырое письмо. Гимнастерка была почти суха, письмо же было влажное, в потеках воды или слез. Фотография была смыта, стерта, искажена и только общим обликом напоминала лицо, знакомое Кристу.
Буквы письма были стерты, смыты, но Крист знал все письмо наизусть и прочел каждую фразу.
Это было последнее письмо от жены, полученное Кристом. Недолго носил он это письмо. Слова этого письма скоро окончательно выгорели, растворились, да и текст Крист стал помнить нетвердо. Фотография и письмо окончательно стерлись, истлели, исчезли после какой-то особенно тщательной дезинфекции в Магадане на фельдшерских курсах, превративших Криста в истинное, а не выдуманное колымское божество.
За курсы никакая цена не была велика, никакая потеря не казалась чрезмерной.
Так Крист был наказан судьбой. После зрелого размышления через много лет Крист признал, что судьба права – он еще не имел права на стирку своей рубашки чужими руками.
1966