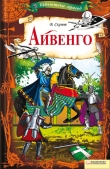Текст книги "Квентин Дорвард"
Автор книги: Вальтер Скотт
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 35 страниц)
Глава 15. ПРОВОДНИК
Он сыном был египетской земли,
Потомком тех волхвов и чародеев,
Которые без устали боролись
С израильтянами и с их пророком
И отвечали чарами своими
На чудеса и знаменья господни.
Потом пришел в Египет ангел
Мщенья,
И раб невежественный и мудрец
О первенцах своих тогда рыдали.
Неизвестный автор
Прибытие лорда Кроуфорда и его стражи немедленно положило конец поединку, который мы описали в предыдущей главе. Рыцарь сразу сбросил шлем и отдал свой меч старому лорду со словами:
– Кроуфорд, я сдаюсь… Но выслушайте, что я вам скажу… Наклонитесь, я шепну вам на ухо: ради бога, спасите герцога Орлеанского!
– Что? Как? Так это герцог? – воскликнул старый шотландец. – Да как же он сюда попал, черт возьми? Ведь это навеки погубит его в глазах короля!
– Не расспрашивайте, – сказал Дюнуа (ибо это был он), – во всем виноват я один. Смотрите.., кажется, он приходит в себя… Я хотел похитить графиню, жениться на ней и стать богачом, и вот что из этого вышло. Прикажите вашей челяди убраться подальше, чтобы его не узнали.
С этими словами Дюнуа поднял герцогу забрало и стал брызгать ему в лицо водой, которую принесли из соседнего озера.
Между тем Квентин Дорвард стоял совсем ошеломленный: с такой поразительной быстротой следовали одно за другим события в его жизни. В бледных чертах своего сраженного врага он узнал черты первого принца крови; вторым его противником оказался известный рыцарь, знаменитый Дюнуа. Поединок с такими противниками мог принести ему только честь; но как отнесется к его подвигам король – это был другой вопрос.
Тем временем герцог настолько оправился, что сел и стал внимательно прислушиваться к разговору Кроуфорда с Дюнуа. Дюнуа горячо доказывал Кроуфорду, что ему нет никакой необходимости упоминать имя герцога Орлеанского, рассказывая об этой истории, так как он, Дюнуа, берет всю вину на себя; герцог же принял участие в этом деле только из дружбы к нему.
Лорд Кроуфорд слушал потупившись и только изредка вздыхал и покачивал головой. Наконец он поднял голову и сказал:
– Ты знаешь, Дюнуа, что в память твоего отца, да и ради тебя самого, я всегда готов оказать тебе услугу.
– Для себя я ничего не прошу, – ответил Дюнуа. – Я отдал вам меч, я ваш пленник.., чего же вам больше? Но я прошу за благородного принца, единственную надежду Франции, если богу будет угодно отозвать к себе дофина. Он явился сюда ради меня, чтобы помочь мне в деле, на которое меня до некоторой степени поощрял сам король.
– Дюнуа, – возразил Кроуфорд, – скажи мне кто-нибудь другой, что ты увлек герцога в такое опасное предприятие ради собственных интересов, я бы сказал ему в глаза, что он лжет. Да и теперь я, право, не верю даже тебе самому.
– Благородный Кроуфорд, – сказал герцог, который тем временем совершенно оправился от своего обморока, – вы сами так похожи на Дюнуа, что не можете в нем ошибиться. Не он, а я, против его желания, увлек его в это безрассудное предприятие, которое мне внушила безумная страсть. Смотрите на меня! – добавил он, вставая и обращаясь к страже. – Я Людовик Орлеанский и готов дать ответ за мой нелепый поступок. Надеюсь, гнев короля падет на одного меня, что будет только справедливо! Но так как принц крови не должен отдавать свое оружие никому – даже вам, мой храбрый Кроуфорд, – то прощай же, мой верный меч!
Сказав это, он вынул меч из ножен и швырнул его в озеро. Сверкнув в воздухе, как молния, меч упал в воду, расступившуюся под ним с тихим плеском, и исчез. Все стояли пораженные, в нерешительности: так высок был сан преступника и так велико уважение, которым он пользовался. Зная планы короля, касающиеся принца, все понимали, какие гибельные последствия может для него иметь его безумный поступок.
Дюнуа первый прервал молчание.
– Итак, – сказал он с упреком, тоном человека, глубоко оскорбленного в своих чувствах, – ваше высочество сочли нужным расстаться со своим лучшим мечом, пренебречь королевской милостью, а заодно уж и дружбой Дюнуа!
– Дорогой родич, – возразил ему герцог, – разве сказать правду, чего требовали твоя безопасность и моя честь, значило пренебречь твоей дружбой?
– А какое вам дело до моей безопасности, мой высокородный кузен, хотел бы я знать? – с досадой сказал Дюнуа. – Что вам до того, ради самого бога, хочу ли я, чтобы меня повесили, удавили, бросили в Луару, закололи кинжалом, колесовали, посадили в железную клетку, закопали живьем, или до всего, что заблагорассудится королю Людовику сделать со мной, чтобы избавиться от своего верного слуги?.. Нечего вам кивать и подмигивать на Тристана Отшельника: я и сам не хуже вас вижу этого негодяя. Но до меня-то ему не добраться… Однако довольно обо мне и моей безопасности. А вот для вашей чести, клянусь святой Магдалиной, было бы куда лучше, если бы вы не затевали сегодняшнего предприятия или, по крайней мере, сумели бы хоть спрятать концы в воду. А то много ли чести в том, что вашу милость ссадил с коня какой-то шотландский мальчишка!
– Нет, нет, уж в этом-то для его высочества нет ничего позорного, – сказал лорд Кроуфорд. – Не в первый раз шотландцу побеждать рыцаря… Я очень рад, что юноша вел себя молодцом.
– Против этого я ничего не могу возразить, – заметил Дюнуа, – но будь вы здесь пятью минутами позже – как знать, не появилось ли бы у вас, в вашей гвардии, свободное место?
– Как же, как же, – проговорил лорд Кроуфорд, – узнаю вашу руку на этом разрубленном шишаке… Эй, кто-нибудь, дайте-ка этому молодцу свою шапку: ее стальная подбивка лучше защитит его голову, чем эти разбитые черепки… Но позвольте и мне заметить, граф, что ваши латы тоже носят следы добрых шотландских ударов… Однако, Дюнуа, я должен просить вас и герцога Орлеанского сесть на коней и следовать за мной, ибо я имею предписание доставить вас в одно место, куда бы мне вовсе не хотелось вас сопровождать.
– Не могу ли я, лорд Кроуфорд, сказать несколько слов этим дамам? – спросил герцог.
– Ни полслова! – воскликнул лорд Кроуфорд. – Я слишком верный вам друг, ваше высочество, чтобы допустить такое безумие. – И, обратившись к Квентину, он добавил:
– Ты хорошо исполнил свой долг, друг мой! Ступай же и доводи до конца данное тебе поручение.
– С вашего позволения, милорд, – сказал Тристан своим обычным грубым тоном, – пусть этот молодец поищет себе другого проводника. Я не могу отпустить Птит-Андре, когда, по-видимому, ожидается работа для него.
– Пусть молодой человек едет все прямо по этой дороге, – сказал палач, выдвигаясь вперед, – и она приведет его к тому месту, где будет ждать проводник. А я теперь и за тысячу дукатов не соглашусь расстаться с моим начальником. Немало перевешал я на своем веку рыцарей и дворян, разных старшин да бургомистров, даже графы и маркизы – и те побывали в моих руках, но.., гм, гм… – И, не договорив, он посмотрел на герцога с таким видом, как будто ему очень хотелось дополнить этот перечень принцем крови. – Ого, Птит-Андре, будет и о нас упомянуто в истории!
– Как вы позволяете вашей сволочи держать такие речи в присутствии принца? – сказал лорд Кроуфорд, строго взглянув на Тристана.
– Отчего же вы сами не остановите его, милорд? – угрюмо ответил Тристан.
– Оттого, что из всех здесь присутствующих вы один можете это сделать, не запятнав своей чести.
– Так и распоряжайтесь своими людьми, а уж я буду отвечать за своих! – сказал великий прево.
У лорда Кроуфорда готов был сорваться гневный ответ, но он, очевидно, раздумал и, круто повернувшись спиной к Тристану, обратился к герцогу и Дюнуа и попросил их ехать с ним рядом. Затем он послал рукой прощальное приветствие дамам и сказал Квентину:
– Да благословит тебя бог, сын мой! Ты доблестно начал свою службу, хоть и в очень печальном деле.
Всадники тронулись в путь; когда они отъезжали, Квентин расслышал, как Дюнуа спросил вполголоса лорда Кроуфорда:
– Куда вы нас везете, милорд? В Плесси?
– Нет, мой несчастный опрометчивый друг, – ответил со вздохом старик, – мы едем в Лош.
«В Лош!» Это ужасное слово (так назывался замок, или, вернее, тюрьма, гораздо более страшная, чем Плесси) отдалось в сердце молодого шотландца, как звон погребального колокола. Он слышал о Лоше как о месте, где тайно свершались такие жестокости, которыми даже Людовик стыдился осквернять свое жилище. В этом грозном замке было несколько этажей подземных темниц, из которых многие были неизвестны даже самим тюремщикам. Люди, заживо погребенные в этих могилах, до конца дней своих дышали гнилым, зараженным воздухом и питались хлебом да водой. Здесь же были страшные камеры, так называемые клетки, в которых арестанты не могли ни встать, ни вытянуться; изобретение этих клеток приписывалось кардиналу де Балю[114]114
Который сам провел в такой клетке более одиннадцати лет. (Примеч. автора.) Кардинал Балю был посажен Людовиком в железную клетку в 1469 году и просидел в ней до 1480 года.
[Закрыть]. Неудивительно, что название этого ужасного места да еще сознание, что сам он отчасти был причиной гибели двух таких доблестных рыцарей, наполнили глубокою грустью сердце молодого шотландца, так что некоторое время он ехал, низко опустив голову и глубоко задумавшись.
Когда же наконец он выехал вперед по указанной ему дороге и занял свое место во главе отряда, графиня Амелина воспользовалась случаем, чтобы сказать ему:
– Кажется, вы сожалеете, господин стрелок, о победе, которую одержали, защищая нас?
Тон этого вопроса звучал насмешкой, но у Квентина хватило такта ответить на него просто и искренне:
– Я не могу сожалеть об оказанной вам услуге, графиня, какова бы она ни была. Но если бы дело шло не о вашей безопасности, я бы, кажется, охотнее согласился пасть от руки такого славного воина, как Дюнуа, чем быть причиной заточения в ужасную крепость этого знаменитого рыцаря и его несчастного родственника, герцога Орлеанского.
– Так это был герцог Орлеанский?.. Вот видишь, это был он, – сказала графиня Амелина, обращаясь к племяннице. – Я так и думала, хотя издали не могла его хорошенько рассмотреть. Теперь ты убедилась, моя милая, что могло бы из всего этого выйти, если бы злой старый скряга король позволил нам показываться при его дворе Первый принц крови и доблестный Дюнуа, чье имя пользуется такой же известностью, как и имя его героя отца!. Этот молодой шотландец прекрасно исполнил свой долг, надо отдать ему справедливость, но, право, мне почти жаль, что он не пал с честью: его неуместная храбрость лишила нас двух таких знатных спасителей!
Изабелла отвечала жестким, недовольным тоном и с такой решительностью, какой Квентин до сих пор в ней не подозревал.
– Мадам, – сказала она, – если бы я не знала, что вы шутите, я обвинила бы вас в неблагодарности к нашему храброму защитнику, которому мы обязаны, может быть, гораздо более, чем вы думаете. Ведь если бы нападение на нас удалось и наша стража была бы разбита, то разве не ясно, что с прибытием королевской гвардии мы разделили бы участь нападавших? Я, со своей стороны, горько оплакиваю погибшего храбреца, нашего защитника, и непременно закажу обедню за упокой его души. Надеюсь, – добавила она застенчиво, – что тот, кто остался в живых, не откажется принять мою сердечную признательность.
Когда Квентин повернулся к графине, собираясь ответить подобающим образом, она увидела кровь у неге на щеке и вскрикнула в испуге:
– Пресвятая дева, он ранен! У него кровь! Сойдите с коня, сударь, мы перевяжем вам рану.
Напрасно Дорвард убеждал дам, что это лишь пустая царапина; его заставили сойти с коня, сесть на пень и снять шлем, после чего дамы де Круа, претендовавшие, согласно тогдашней моде, на знание лекарского искусства, остановили ему кровь, обмыли рану и перевязали платком Изабеллы, чтобы предохранить от доступа воздуха, как требовала тогдашняя наука; В наше время молодые люди редко – вернее, никогда – не получают ран за красавиц, да и красавицам также нет никакого дела до каких-то ран. Что же, для тех и для, других опасностью меньше! Какую я разумею опасность для мужчин, всякому понятно; но и перевязывать раны, по крайней мере такие легкие, как рана Дорварда, быть может, не менее опасно, чем их получать.
Мы уже говорили, что молодой шотландец был очень красив; теперь же, когда он снял свой шлем и его густые светлые кудри рассыпались вокруг его разгоревшегося от удовольствия и смущения лица, он стал еще лучше. Изабелла, придерживавшая платок на его ране, пока ее тетка разыскивала в своих вещах необходимые лекарства, была смущена и взволнована; а острая жалость к раненому и благодарность за оказанную им услугу еще усиливали в ее глазах его привлекательность. Короче говоря, судьба нарочно подстроила все так, чтобы укрепить ту таинственную связь, которая установилась, по-видимому, в силу ряда случайных обстоятельств между двумя людьми, столь различными по своему званию и состоянию, но в то же время столь сходными, ибо оба были молоды и красивы, у обоих было нежное сердце и пылкое воображение. Неудивительно, что с этой минуты образ графини Изабеллы, и без того уже сильно занимавший Квентина, всецело завладел его сердцем, а молодая девушка, хотя чувства ее были не так определенны, – во всяком случае, она этого не сознавала, – в свою очередь начала думать о своем юном защитнике; она оказала ему услугу с таким участием и волнением, какого не проявляла до сих пор ни к кому из толпы ее знатных поклонников, целых два года тщетно добивавшихся ее взаимности. Теперь, когда она вспоминала Кампо-Бассо, недостойного фаворита герцога Карла, его коварство и подлость, его лицемерную физиономию, кривую шею и устремленные на нее косые глаза, он казался ей отвратительнее прежнего, и она твердо решила, что никакая сила не заставит ее вступить в этот ненавистный брак.
Между тем добрая леди Амелина, потому ли, что она ценила мужскую красоту и восхищалась ею не меньше, чем пятнадцать лет назад (ибо, если верить семейной хронике благородного дома де Круа, этой почтенной даме было в то время самое меньшее тридцать пять лет), или потому, что считала себя виноватой в неблагодарности к юному воину, услуги которого она в первый момент не сумела оценить по достоинству, – так или иначе, но она стала оказывать Квентину явную благосклонность.
– Племянница дала вам платок, чтобы перевязать вашу рану, – сказала она, – а я даю вам другой в награду за вашу отвагу и в поощрение к дальнейшим рыцарским подвигам.
С этими словами она подала ему голубой платок, богато расшитый серебром, и, указав на чепрак своей лошади и перья на шляпе, заметила, что голубой с серебром – ее цвета.
В те времена существовали строгие правила насчет того, как следует принимать такие подарки. Квентин повязал платок себе на руку, но далеко не так быстро и охотно, как сделал бы это, может быть, в другое время и при других обстоятельствах; и хотя в обычае носить на руке подарок дамы не было ничего, кроме самой простой учтивости, молодой человек охотно заменил бы платок графини Амелины тем, которым была перевязана рана, нанесенная ему мечом Дюнуа.
Кавалькада продолжала свой путь; но теперь Квентин ехал рядом с дамами, которые, казалось, безмолвно согласились принять его в свое общество. Впрочем, он говорил очень мало, ибо сердце его было переполнено счастьем, а счастье всегда молчаливо. Графиня Изабелла говорила еще меньше, так что весь труд поддерживать беседу лежал на леди Амелине, которая, по-видимому, вовсе не собиралась ее прерывать. Чтобы посвятить молодого стрелка во все правила рыцарства, как она выражалась, графиня принялась описывать ему со всеми подробностями Хафлингемский турнир, где она собственноручно раздавала призы победителям.
Весьма мало заинтересованный, как в этом ни грустно признаться, описанием блестящего турнира, а также и геральдическими отличиями фламандских и германских рыцарей, которые с безжалостной точностью перечисляла почтенная дама, Квентин начинал уже беспокоиться, не слишком ли он увлекся разговором и не пропустил ли то место, где их должен был ждать проводник, что было бы большим несчастьем и могло бы иметь самые ужасные последствия.
Пока он раздумывал, не послать ли ему назад кого-нибудь из своего отряда, чтобы убедиться, что их там никто не ждет, он услышал звуки рога и, обернувшись в ту сторону, откуда они доносились, увидел всадника, скакавшего к ним во весь опор. Маленький рост, косматая шерсть и дикий, неукротимый вид его коня напомнили Квентину горную породу лошадей его родины; но этот конь был тоньше и стройней и, хотя был так же горяч, как и шотландские лошади, обладал более быстрым бегом. Но особенно отличалась от них его голова: у шотландского пони голова обычно большая и неуклюжая, а у этого скакуна она была очень мала, красиво поставлена, с тонкой мордочкой, огромными, полными огня глазами и раздувающимися ноздрями.
Всадник поражал своей оригинальностью еще больше, чем его конь, который, однако, резко отличался от обыкновенной породы французских лошадей. Он управлял им замечательно ловко, несмотря на то что сидел, глубоко засунув ноги в широкие стремена, напоминавшие своей формой лопаты и подтянутые так высоко, что колени его приходились почти на одном уровне с передней лукой. На голове у него красовалась небольшая красная чалма с полинялым пером, пристегнутым серебряной пряжкой; его камзол, напоминавший покроем одежду страдиотов (род войска, набиравшегося в то время венецианцами в провинциях, расположенных к востоку от их залива), был зеленого цвета и обшит потертым золотым галуном; широкие, когда-то белые, а теперь грязные шаровары были собраны у колен, а загорелые ноги были совершенно голы, если не считать перекрещивающихся ремней, которыми пристегивались его сандалии. На нем не было шпор, их заменяли заостренные края его широких стремян, которыми можно было заставить слушаться любого коня. За широким красным кушаком этого странного наездника с правой стороны был заткнут кинжал, а с левой – короткая кривая мавританская сабля; на старой, истрепанной перевязи, надетой через плечо, висел рог, возвестивший о его приближении. Его темное, загорелое лицо с жидкой бородкой, черными живыми глазами и правильными, тонкими чертами могло бы назваться красивым, если бы не длинные космы черных волос, падавшие ему на лоб, да не страшная худоба, придававшие незнакомцу скорее вид дикаря, чем цивилизованного человека.
– Опять цыган! – с испугом воскликнули дамы. – Святая Мария! Неужели король снова доверился этим бродягам?
– Я расспрошу этого человека, если желаете, – сказал Квентин, – и постараюсь выяснить, можно ли на него положиться.
По наружности и по костюму незнакомца Дорвард, так же как и дамы, сразу признал в нем одного из тех отверженцев-цыган, с которыми слишком ретивые Труазешель и Птит-Андре недавно чуть его не спутали, и, так же как и дамы, испытывал весьма естественное опасение при одной мысли о необходимости довериться этому человеку.
– Ты явился сюда за нами? – был его первый вопрос.
Незнакомец кивнул головой.
– С какой целью?
– Чтобы проводить вас во дворец к этому.., льежскому…
– К епископу? Цыган опять кивнул.
– Как же ты можешь доказать, что ты действительно тот, кого мы должны встретить?
– Я спою две строки старой песенки, и больше ничего, – ответил цыган и пропел:
Вепря паж убил, Славу лорд добыл.
– Хорошо, – сказал Квентин, – ступай вперед, приятель, я сейчас с тобой поговорю.
И, подъехав к дамам, Квентин сказал:
– Я убежден, что это тот самый проводник, которого мы ждали. Он сказал пароль, известный только королю да мне. Но я поговорю с ним еще и постараюсь выведать, насколько ему можно доверять.
Глава 16. БРОДЯГА
Свободен я, как были все вначале:
Людей законы не порабощали,
И дикари лесные вольность знали.
«Завоевание Гранады»
Пока Квентин успокаивал дам, объясняя им, что странный наездник, присоединившийся к их компании, был тот самый проводник, которого должен был прислать им король, он заметил (так как не менее зорко следил за цыганом, чем цыган за ним), что тот не только беспрестанно поворачивал голову в их сторону, но, изогнувшись с чисто обезьяньей ловкостью, умудрялся сидеть в седле почти задом наперед и не спускал с них внимательных глаз.
Не особенно довольный таким поведением, Квентин подъехал к цыгану (который при его приближении спокойно переменил позу) и сказал ему:
– Послушай, приятель, если ты будешь смотреть на хвост своей лошади, вместо того чтобы глядеть на ее уши, у нас вместо зрячего окажется слепой проводник.
– Если б я даже был и вправду слепой, – ответил цыган, – то и тогда мог бы провести вас по любой из французских или соседних провинций.
– Но ведь ты не француз? – спросил Дорвард.
– Нет, – ответил проводник.
– Где же твоя родина?
– Нигде.
– Как это – нигде?
– Так, нигде! Я – зингаро, цыган, египтянин или как там угодно европейцам на разных языках величать наше племя. Но у меня нет родины.
– Ты христианин? – спросил Дорвард. Цыган покачал головой.
– Собака! – воскликнул Квентин (католики тогда не отличались терпимостью). – Значит, ты поклоняешься Магомету?
– Нет, – кратко и хладнокровно ответил проводник, нимало, по-видимому, не удивленный и не обиженный грубым тоном молодого шотландца.
– Так ты язычник или… Кто же ты, наконец?
– У меня нет религии, – ответил цыган. Дорвард отшатнулся. Он слышал о сарацинах и об идолопоклонниках, но ему никогда и в голову не приходило, что может существовать целое племя, не исповедующее никакой веры. Опомнившись от первого изумления, он спросил проводника, где тот живет.
– Нигде… Живу где придется, – ответил цыган, – у меня нет жилища.
– Где же ты хранишь свое имущество?
– Кроме платья, что на мне, да этого коня, у меня нет никакого имущества.
– Но ты хорошо одет, и лошадь у тебя превосходная, – заметил Дорвард. – Какие же у тебя средства существования?
– Я ем, когда голоден, пью, когда чувствую жажду, а средств существования у меня нет, кроме случайных, когда мне их посылает судьба, – ответил бродяга.
– Каким же законам ты повинуешься?
– Никаким. Я слушаюсь кого хочу или кого заставит слушаться нужда, – сказал цыган.
– Но есть же у вас начальник? Кто он?
– Старший в роде, если я захочу его признать, а не захочу – живу без начальства.
– Так, значит, вы лишены всего, что связывает других людей! – воскликнул изумленный Квентин. – У вас нет ни законов, ни начальников, ни определенных средств к жизни, ни домашнего очага! Да сжалится над вами небо – у вас нет родины, и – да просветит и простит вас всевышний! – вы не веруете в бога! Так что же у вас есть, если нет ни правительства, ни семьи, ни религии?
– У меня есть свобода, – ответил цыган. – Я ни перед кем не гну спину и никого не признаю. Иду куда хочу, живу как могу и умру, когда настанет мой час.
– Но ведь по произволу каждого судьи тебя могут казнить?
– Так что же? Рано или поздно – все равно надо умирать.
– А если тебя посадят в тюрьму, – спросил шотландец, – где же тогда будет твоя хваленая свобода?
– В моих мыслях, которые никакая цепь не в силах сковать, – ответил цыган. – В то время как ваш разум, даже когда тело свободно, скован вашими законами и предрассудками, вашими собственными измышлениями об общественных и семейных обязанностях, такие, как я, свободны духом, хотя бы их тело было в оковах. Вы же скованы даже тогда, когда ваши члены свободны.
– Однако свобода твоего духа едва ли может уменьшить тяжесть твоих цепей, – заметил Дорвард.
– Недолго можно и потерпеть, – возразил бродяга. – Если же мне не удастся вырваться на волю самому или не помогут товарищи, умереть всегда в моей власти, а смерть – это самая полная свобода!
Наступило довольно продолжительное молчание, которое Квентин прервал наконец новым вопросом:
– Итак, вы – бродячее племя, неизвестное европейцам… Откуда же вы родом?
– Этого я не знаю.
– Когда же вы наконец покинете Европу и возвратитесь туда, откуда пришли?
– Когда исполнится срок нашего странствования.
– Не потомки ли вы тех колен Израиля[115]115
Колена – здесь: племена. В 586 году до н.э. Иудейское царство древних евреев в Палестине было разрушено вавилонским царем, а его население уведено в плен в Вавилон, на берега Евфрата.
[Закрыть], которые были уведены в рабство за великую реку Евфрат? – спросил Квентин, не забывший еще уроков, преподанных ему в Абербротокском монастыре.
– Если б мы были потомки израильтян, мы бы сохранили их веру, обряды и обычаи, – ответил цыган.
– Как твое имя? – спросил Дорвард.
– Мое настоящее имя известно только моим единоплеменникам. Люди, которые не живут в наших шатрах, зовут меня Хайраддином Мограбином, что значит: Хайраддин – африканский мавр.
– Однако ты слишком хорошо говоришь для человека, выросшего в вашей дикой орде, – сказал шотландец.
– Я кое-чему научился в этой стране, – ответил Хайраддин. – Когда я был ребенком, наше племя преследовали охотники за человеческим мясом[116]116
Хайраддин имеет в виду королевских солдат, истреблявших цыган.
[Закрыть]. Вражья стрела попала в голову моей матери и уложила ее на месте. Я висел в одеяле у нее за плечами, и наши преследователи подобрали меня. Один священник выпросил меня у стрелков прево и воспитал. У него я два или три года учился франкским наукам.
– Как же ты ушел от него?
– Я украл у него деньги и бога, которому он поклонялся, – с полным хладнокровием ответил Хайраддин. – Он меня поймал и прибил. Тогда я зарезал его, убежал в лес и снова соединился с моим народом.
– Негодяй! Как ты мог убить своего благодетеля?
– Разве я просил его оказывать мне благодеяния? Цыганский мальчик – не комнатная собачка, чтобы лизать руки хозяину и ползать под его ударами из-за куска хлеба. Волчонок, посаженный на цепь, в конце концов всегда порвет ее, загрызет хозяина и убежит в лес.
Наступила новая пауза, снова прерванная молодым шотландцем, который задался целью поближе познакомиться со своим подозрительным проводником, с его характером и намерениями.
– А правда ли, – спросил он Хайраддина, – что ваш народ, несмотря на свое полное невежество, утверждает, будто ему открыто будущее, то есть он обладает знанием, в котором отказано ученым, философам и служителям алтаря более образованных народов?
– Да, мы это утверждаем, и не без основания, – сказал Хайраддин.
– Каким образом эти высокие познания могут быть дарованы таким отверженцам, как вы?
– Могу ли я объяснить вам?… – спросил Хайраддин. – Впрочем, я отвечу, если вы мне сперва объясните, каким образом собака находит человека по следам, тогда как человек, более совершенное животное, не может по следам найти собаку. Эта способность, которая кажется вам столь чудесной, дана нам от рождения как своего рода инстинкт. По чертам лица и линиям руки мы можем предсказать будущее человека так же верно, как вы по весеннему цвету дерева можете определить, какой плод оно принесет.
– Я не верю в ваши знания и смеюсь над этой вашей способностью.
– Не смейтесь, господин стрелок, – сказал Хайраддин Мограбин. – Я могу, например, сказать вам, что, какую бы вы ни исповедовали веру, богиня, которой вы поклоняетесь, – здесь, в нашей компании.
– Молчи! – воскликнул пораженный Квентин. – Молчи, если дорожишь своей жизнью, и отвечай только на мои вопросы! Можешь ли ты быть верен?
– Могу, как и всякий человек.
– Но будешь ли ты верен?
– А вы мне больше поверите, если я поклянусь? – ответил Мограбин с усмешкой.
– Однако помни: твоя жизнь в моих руках, – сказал шотландец.
– Что ж, попробуйте ударить, и вы увидите, боюсь ли я смерти.
– Могут ли деньги обеспечить твою верность?
– Нет, не могут, если я захочу изменить.
– В таком случае чем же можно добиться твоей верности?
– Добротой, – ответил цыган.
– Ну, хочешь, я поклянусь, что буду с тобой ласков и добр, если ты останешься верен нам во время пути?
– Нет, – ответил Хайраддин, – к чему понапрасну тратить свою доброту? Это редкий товар. Я и так обязан быть верным вам.
– Это почему? – спросил еще более изумленный Квентин.
– Вспомните каштаны на берегу Шера! Человек, чей труп вы вынули из петли, был мой брат. Замет Мограбин.
– И ты входишь в сделки с убийцами брата! – сказал Квентин. – Ведь это один из них сообщил нам, где мы встретим тебя, и он же, вероятно, взял тебя в проводники к этим дамам.
– Что поделаешь! – мрачно ответил Хайраддин. – Эти люди обращаются с нами, как овчарки со своим стадом: сперва они нас охраняют, гоняют взад-вперед, куда им вздумается, а в конце концов пригонят на бойню.
Впоследствии Квентин имел возможность убедиться, что цыган говорил сущую правду: стража прево, на обязанности которой лежало истребление бродячих шаек, наводнявших страну, поддерживала с ними постоянные сношения, смотрела некоторое время сквозь пальцы на их проделки, а в конце концов всегда приводила их на виселицу. Такого рода связь между стражей и преступниками, одинаково выгодная для обеих сторон, существовала во всех странах и была не чужда и нашему отечеству.
Отъехав от проводника, Дорвард, очень недовольный тем, что ему удалось о нем узнать, и нимало не полагаясь на его обещания верности, основанной на личной благодарности, присоединился к своему маленькому отряду с целью познакомиться с двумя другими своими подчиненными. С великим огорчением он увидел, что они оба непроходимо глупы и так же не способны помочь ему советом, как и оружием, в чем он уже имел недавно случай убедиться.
«Тем лучше, – сказал себе Квентин, храбрость которого росла вместе с ожиданием могущих встретиться опасностей. – Значит, эта прелестная девушка будет всем обязана мне. Кажется, я могу смело рассчитывать на то, что в состоянии сделать руки и голова одного человека. Я видел, как горел мой родной дом, видел убитых отца и братьев в пылающих развалинах, но не отступал ни на шаг и дрался до последней возможности. Теперь я на два года старше, и мною руководит лучшая, благороднейшая цель, какая когда-либо зажигала воинственный пыл в груди храбреца».
Остановившись на этом решении, Квентин в продолжение всего пути проявил такую энергию и бдительность, что можно было только дивиться, как он везде поспевал. Разумеется, чаще всего и охотнее всего он находился возле дам, которые были так тронуты, его вниманием и заботами об их безопасности, что в своих беседах с ним незаметно перешли почти на дружеский тон. Им, видимо, очень нравилась его наивная, но не глупая, а подчас даже остроумная болтовня. Однако, несмотря на все обаяние таких отношений, Квентин был по-прежнему внимателен до мелочей в исполнении своего долга.
Если он часто ехал подле дам, пытаясь по мере сил описать им, уроженкам равнин, Грампианские горы[117]117
Грампианские горы – горная цепь в Шотландии.
[Закрыть] и красоты Глен-хулакина, он также часто скакал и во главе отряда с Хайраддином, расспрашивая его о дороге и местах остановок и стараясь твердо запомнить его слова, чтобы потом, переспрашивая его, удостовериться, не собьется ли он в ответах и, следовательно, не замышляет ли измены. Не забывал он и двух своих подчиненных, ехавших сзади, и старался лаской, подарками и обещаниями денежной награды по окончании путешествия расположить их в свою пользу.