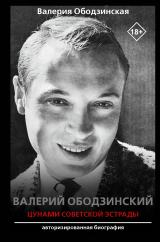
Текст книги "Валерий Ободзинский. Цунами советской эстрады"
Автор книги: Валерия Ободзинская
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Глава II. Мария Николаевна
1945–1955
Маму с папой Валера впервые увидел в конце сорок пятого. Мама выглядела веселой, ласковой и невероятно красивой.
– Сыночек мой! Валерик! – кружила она его, покрывая поцелуями.
Папа показался громким и даже немного грубоватым. Резко подбросил Валерика кверху, желая рассмешить. И сильно расцеловал, отчего сын скривился, пытаясь вырваться.
– Ты что, нюня? – щекотал Володя сорванца, опуская его на землю.
Бабушка Домна вступилась. Шепотом, чтобы лишний раз не тревожить внука, рассказала про Балька. И в таких красках, что едва на колени не упала, изображая сцену.
Володя качал головой и с улыбкой глядел на сына, Женечка охнула, а Валерик смекнул: нюней быть нельзя. Папе не нравится.
В оккупированной румынами Одессе Валера рос в основном среди женщин. Редкие мужчины выглядели боязливыми и робкими. Оккупантов же он воспринимал как чужих: врагов. Потому отец одновременно и восхищал, и вызывал настороженность. Папа не походил ни на потакавшую ему бабушку Домну, ни на ласковую, мягкую маму.
Поначалу отец всюду брал Валерика с собой. Гулял и много, озорно шутил. Бывало, Валерик задумается, а Володя подкрадется сзади, чтоб напугать. Мальчик вздрогнет, но вида не подает, что испугался.
Так как родители вскоре устроились на работу, Валера остался жить у бабушки. И жизнь пошла привычным ходом.
Женечка с Володей, пропустившие первые три года сына, не возражали против чрезмерной самостоятельности Валеры. Они мало успели пожить бок о бок – разлучила война. И теперь словно наверстывали. Пытались проникнуть сердцем и умом друг в друга, увидеть то, что раньше не видели. Война задала некую точку отсчета: жить одним днем, брать от него как можно больше.
Однако на выходные бабушка непременно вела внука к родителям в коммунальную квартиру на улицу Коминтерна.
Там Валерик раззнакомился со всеми соседями. Общительный красивый мальчик нравился. Особенно соседей забавляла его увлеченность песнями. Он быстро схватывал мелодии и слова, а потом удивлял умением мастерски скопировать исполнителя.
– В бананово-лимонном Сингапуре… – доносилось из радиоточки танго Вертинского, а Валерик, копируя жеманную манеру певца, подпевал:
– Когда поет и плачет океан…
Или чередовал реплики Благова, Марковича и Гофмана, ловко меняя голос:
– Соседка влюбилась в кого-то из нас: Мандолину!.. гитару!.. и бас!..
При этом так пылко поглядывал на соседку по квартире Полину Леонидовну, часто заказывавшую песню, что та смущалась. Будто перед ней стоял не мальчик, а знаменитое трио в полном составе.
Валерик охотно откликался, когда просили спеть популярное, часто звучавшее на радио: «Еде-еду-еду я по свету…» из «Счастливого рейса». Хватался за крышку кастрюли и барабанил в такт по столу.
Легко перенимал и женскую манеру исполнения. Задумчиво тянул: «Каким ты был, таким ты и остался…» И советская селянка звенела не менее полнозвучно, чем у Ладыниной.
Однако сам тяготел к песням мятежным, драматичным, отчаянным. Валере нравилось не просто петь, но и отыгрывать, потому строгости исполнения он предпочитал вызов, удаль, вокальную экспрессию. Пожилая итальянка Инна Вадимовна Скуфатти, преподававшая в академии сольное пение, пыталась донести до него важность сохранения детской фальцетности:
– Не перенапрягай голосовую мышцу! – волновалась она. – Испортишь голос!
Какое-то время Валера беспрекословно следовал всем советам. Ведь репертуар песен, звучавших на радио, исчерпался. А на комоде Инны Вадимовны стоял заветный зеленый чемоданчик – ленинградский патефон «Дружба».
С пластинок итальянки он выучил «Цыганскую скрипку» и, подражая драматичному тенору Фернандо Орландису, изображал цыгана вида печального и страстного:
– Oh zigano dall’aria triste e appassionata! – вскидывал голову и, прижимая руку к серцу, пел он, – che fai piangere il tuo violino tra le dita…[1]1
О, цыган вида печального и страстного! Заставляющий свою скрипку плакать в руках… (итал.). (Прим. ред.)
[Закрыть]
После страстного танго переключался на нежную баркаролу «Далекая земля»:
– Lonta-a-a-no… tutti abbiamo una casa…[2]2
Далеко не у всех нас есть дом (итал.) (Прим. ред.)
[Закрыть] – И казалось, что он в самом деле венецианский гондольер, в песне рассказывающий о том, что далеко-далеко у всех нас есть дом.
Тогда же с возвращением родителей Валера узнал, что у него есть и другие бабушка с дедушкой. Не то чтобы Домна намеренно скрывала. Просто ее отношения с четой Ободзинских до войны не задались. Те хорошо приняли мягкосердечную красивую Женечку, но Домне казалось, что Ободзинские считают ее партией невыгодной для Володи: девушка без образования и талантов. Независимость и гордость подсказывали держаться подальше от «снобов», ведь Иван Фабианович Ободзинский относил себя к польской интеллигенции, а Мария Николаевна и вовсе была дворянкой из рода Борщевских. Домне не нравилось все: и чрезмерная расточительность Марии Николаевны, и привычка устраивать дома концерты. Однако молодые не посчитались с мнением Женечкиной мамы и все равно поженились. Домна обижалась, отказывалась ходить в гости и к себе не звала:
– Мы люди простые, концертами развлекать не умеем.
В войну стало не до обид. А уж после тем более.
И теперь Валера наконец познакомился с другими бабушкой и дедушкой. Володя каждую неделю навещал родителей на улице Баранова, и конечно же, брал с собой жену и сына.
– Ты знаешь, кто твой дед Ваня? – рассказывал папа по дороге, аристократично поднимая указательный палец вверх, – польский интеллигент.
Папа говорил слово «интеллигент» с такой гордостью, что Валера, хоть и не понимал, озадачился. А он сможет ли всем показаться этим каким-то таинственным интеллигентом?
Помимо дедушки и бабушки, Валерик увидел дядь, теть, двоюродных сестер и брата. Из шестерых детей Ободзинских в живых осталось лишь четверо, однако Валере, привыкшему к уединенной жизни с Домной и Леней, показалось, что новой родни на удивление много. И это понравилось. Все-таки чем больше народу, тем веселее.
– Бабушка, расскажи сказку! – просил Валера, запрыгивая на небольшой диванчик, стоявший сбоку возле крайнего окна комнаты.
– Фу! – фыркала Мария Николаевна. – Никогда своим внукам сказок не рассказывала. И не буду!
Валера огорченно морщился, но следующие слова дарили надежду:
– Я рассказываю лишь то, что видела сама.
Она отошла к окну, поправила горшок с любимой китайской розой и, гордо распрямив плечи, присела.
– Случилось это в Одессе во времена Гражданской войны. Не той, что с немцами была, когда Володя, отец твой медаль получил за боевые заслуги. Он-то, ты знаешь, что у тебя сержант гвардии? И ранен был.
– Да, я знаю, ба, знаю, – одернул ее Валера, чтоб бабушка продолжала.
– Твоему папе не исполнилось и года, когда пришли большевики. Это такие безграмотные люди, захотели все уничтожить, что до них другие построили. Били окна, грабили, убивали. А нам, паразиты, запрещали даже электричество жечь! Да что там электричество… – на скулах у нее зарозовели два пятна, – писать запрещали, говорить! Думать!.. Есть было нечего…
Валера вспомнил, как они с Домной ходили за бутерной колбасой и картошкой. Подсказал:
– В магазин!
Мария Николаевна грустно улыбнулась:
– А магазины все закрыты! – Внук недоверчиво покачал головой. – А даже когда открыты, в них нету ничего. Зато красные флаги вокруг висят, плакаты сумасшедшие!
Такие виды там рисовали зверские, что мужик с топором, а рубит голову генералу какому. Памятник императрицы весь закутали бинтами, спрятать хотели историю нашей страны. Жили мы тогда надеждами. Страшно было на улице. Осатанелые от пьянства матросы убивали и женщин, и детей. В море ни одного корабля, все закрыто, никто не работает. Блокада.
– Блокада?
– Да. Это когда вокруг тишина, а ты умираешь от страха и голода. Мертвый порт, безжизненные улицы, загаженный город.
Валера помнил, как в войну все время хотелось есть. Правда, всегда-всегда приходила бабушка Домна и кормила его, но он помнил голод. Да и что такое страх, тоже знал.
– И жила тогда в той, другой, отвратительной Одессе нищенка. Жила в подвале: окна выбиты, холодно. Есть нечего. Только был сынок у нее. Николенька. Добрый мальчик, не шибеник какой. Вот как-то кончились дрова, стали замерзать они, и мама-нищенка заболела. Не побоялся Николенька мертвого города. Не побоялся пурги-метели. Отправился искать доктора… Сам слабый, шатается… Ели-то они шелуху картофельную да чечевицу по зернышку жевали.
Валера почему-то представлял себе ту Одессу вовсе не отвратительной. Она казалась печальной, чудной и волнующей в бело-серой пелене снега. И так захотелось там оказаться, что даже в животе заболело. Он увидел, как шныряет вместе с очумелыми мальчишками по улицам, ищет хлеба и дров, холод пронизывает насквозь. Они бегут к морю и носятся по бело-рыжим хребтам прибрежных скал, свободные, как волны. В пустых домах на берегу воруют доски и потом улепетывают, озираясь по сторонам, к своим домам.
– И вот не смог больше идти Николенька, провалились ножки в сугроб. И конь вдруг заржал сквозь метель. Смотрит мальчик. Выезжает барин на белом коне. В шапке горлатной, шубе соболиной, сам вида грозного. Увидел Николеньку, сжалился.
Валера радовался за Николеньку и его маму, что и доктор к ним пришел, и еда у них появилась, и дрова…, но больше радовался, что Николенька ничего не побоялся и все превозмог.
Мария Николаевна рассказывала внуку потом много таких историй. Про доброго царя, которого большевики хотели убить вместе с детками, но тот всех победил и вернулся на престол. Про бедняков, которых спасали хорошие барины. А еще про девочку Нюрочку, что выздоровела чудесным образом.
История про Николеньку нравилась больше других. После он даже представлял, как пошел бы в ту Одессу. И без всякого барина нашел доктора. Сам. И хлеба добыл. Украл в каком-нибудь заброшенном доме.
Только когда подрос, догадался, что Мария Николаевна переписывает историю. Его потрясло, что доброго царя и его детей на самом деле расстреляли, что Нюрочка вовсе не выздоровела, а Николенька умер от голода.
– Почему они умерли? – как-то спросил Валерик у Марии Николаевны.
Возле среднего окошка, на небольшом комоде бабушка устроила молитвенный уголок. Обычно никому не позволялось не то, что прикасаться к сакральному, но и просто подходить к комоду. Сейчас же бабушка подвела к нему Валеру, и перекрестившись сама, благословила внука:
– Молилась, наверное, мало. Сама хотела справиться… От самости это все.
Какое-то время Валера думал, что бабушка Маня актриса, так убедительно она вживалась в образ:
– Мадам Люлю, я вас люблю, шепчут ей страстно и знойно…
И он замирал, ожидая чудесного превращения бабушки в загадочную мадам Люлю, что звонко хохочет в шезлонге.
– Вот видишь, простой музыкант, а единственный, кто своим чарующим талантом привел в восторг неприступную деву.
Пела Мария Николаевна с легким польским акцентом, отчего выходило: «Когда ж поквонники уходят, приходит юный музыкант», но речь лилась так мягко, что это лишь добавляло ей шарма.
– Бабушка, смотри! Мадам Каролина пошла мусор выбрасывать, – каждый раз кричал Валерка, завидев в окошке соседку с мусорным ведром. Баба Маня, понимая, чего от нее хотят, принималась искусно изображать мадам Каролину, интеллигентно и по-царски вышагивающую с мусором.
Бабушка умела подражать, умела отыскать в каждом человеке именно ту изюминку и особенность, которая отличала бы его от других. Потому каждый считал своим долгом попросить ее изобразить кого-нибудь из знакомых. Мария Николаевна нисколько не смущаясь, с удовольствием придумывала на ходу такие интересные сценки, что и в цирк ходить не нужно.
Если дело бывало к вечеру, когда Иван Фабианович возвращался с работы и во дворе мастерил что-то или восстанавливал редкие вещи по просьбам соседей: шкатулки, ларчики, резные этажерки, бабушка садилась у окна за темно-вишневое пианино и пела романсы. Их небольшая комната с тремя окнами в ряд располагалась на первом этаже, так что пела она и для мужа и для внука.
Дедушка Иван Фабианович всегда останавливался у окна, когда она пела. Иногда вспоминал Чехова:
– Вам скучно без вашего друга? Так надо послать за ним в поле!..
Бабушка смеялась:
– Так, я по-твоему, Марья Сергеевна?.. И чего же ты боишься: потерять или узнать, что не полюбила?
Дедушка отвечал стихами Майкова:
– Ах, люби меня без размышлений!
Часто сочинял и сам:
– Любовь мою душу затмила. В ней счастья нет и следа. Взойди мое светлое солнце. О, солнце труда!
Иван Фабианович в отличие от жены страстно верил в революцию. Создал в своей голове чистый, хрустальный образ жизни при социализме. И, несмотря на разницу взглядов, супруги пережили все. Разруху, потерю работы и даже смерть детей: Николеньки и Нюрочки. Он никогда не вмешивался, когда Мария Николаевна переиначивала историю или ругала большевиков. Понимал, что обида осела в сердце жены тяжелым камнем. Лишь утешал:
– Маняша, мы же хотели, как лучше.
Валеру удивляло, что дедушка не возражал и не спорил. Не пытался оставить последнее слово за собой. Даже когда бабушка Маня однажды упрекнула и назвала сволочью.
– Свовочь такая, – жаловалась она, – ты копейки тогда в дом не приносив! Я одна выхаживава детей. И бовьшевики все твои свовочи!
Валера смотрел на Ивана Фабиановича и пытался понять: нюня тот или нет?
Дедушка рисовал пейзажи и писал стихи, терпел буйный нрав бабушки, но при этом последнее слово всегда оставалось за ним. И не потому, что настаивал. Просто семья безоговорочно верила: если так сказал Иван Фабианович, значит это лучше всего.
Дедушка пользовался неизменным авторитетом и среди соседей. Они говорили: человек с чувством долга. Мастер на все руки. Да и работал дедушка директором Одессельмаша. Такую должность нюне ведь не доверят?
Валере нравилось, как дедушка красиво ухаживал за бабушкой: писал стихи, проявлял галантность и внимание. Нравилась и привычка записывать. Однажды он заглянул в блокнот дедушки: красивым каллиграфическим почерком выведенные стихотворения, списки важных дел, расходы. Заметив интерес внука, Иван Фабианович достал с полки новенький блокнот и вручил Валере. И тот, совсем как взрослый, начал вести дневник. Как дедушка отмечал понравившееся. Только не стихи, а песни. Переписал туда школьное расписание.
Ему хотелось не просто нравиться Ивану Фабиановичу, а стать, как он. Таким же степенным, педантичным.
Чтобы дедушка сказал: «Ты настоящий Ободзинский!» Тем более что у Валеры был соперник – двоюродный брат Витя, на пять лет его старше. Сын тети Маруси хорошо рисовал, и та хвалила:
– Ободзинским растешь!
Валера не знал, что тетя Маруся тяжело переживает уход Витиного отца – Сигизмунда. Он не вернулся к ним с Витей после войны. Остался жить с выходившей его после ранения медсестрой. Поэтому тетя Маруся старалась дать Вите образец для подражания, подчеркивала сходство с Иваном Фабиановичем.
Валера же задавался вопросами. А он Ободзинский? Иногда спрашивал об этом бабушку Домну, но та не совсем понимала внука:
– Ой, да ладно. В нашем роду профессоров не было. Мы простые, скромные люди.
Ответ не вполне устраивал. В его-то роду были! Дворяне, купцы, интеллигенция. А он? Он кто?
Валера любил бабушку Домну. Так, как может любить ребенок мать. Он думал, что если бы жил с ней, то мог стать скромным, трудолюбивым человеком, как она или дедушка Сучков. Однако жизнь на три дома словно раздвинула мир. Есть простой и понятный мир Домны, есть мир Ободзинских – мир, полный творческого куража, семейных традиций и правил, и есть мир родителей, о котором он еще понимал плохо, однако то, что мама часто потешалась над папой, вызвало в Валере желание быть таким мужчиной, над которым не станут смеяться. Найти себя среди этих миров казалось трудным делом.
Когда в гостях у четы Ободзинских собиралась все дети: Паша, Оля с мужем Виктором и дочками Женей и Таней, Володя с женой Женечкой и сыном Валерой и Маруся с сыном Витей, – Мария Николаевна устраивала концерты. Они пели, играли на пианино, танцевали.
– Мама, спой эту, – просил Володя.
Он страдальчески сводил брови и запевал первым:
– Ты ушва! На свидание к любовнику!
Выходило комично. Все улыбались, а бабушка подхватывала романс. В такие моменты Валере хотелось быть уверенным: он тоже Ободзинский!
Он вскакивал, порывисто шептал Марии Николаевне, что сыграть, и запевал. Причем обязательно что-то необычное, редкое, привлекающее внимание:
– Brasil, Brasil. Pra mim, pra mim. De-e-eixa, cantar de novo o trovado-o-or… – «Бразилия, Бразилия. Для меня, для меня снова поет трубадур», подражал он «королевскому голосу» тенора Франсиско Алвиса.
«Краски Бразилии» произвели впечатление. Ему хлопали, хвалили. Сестра Женечка, младше его на три года, перехватила внимание:
– А хотите, я тоже спою? Хотите?
Дедушка с охотой кивнул:
– Конечно… Спой нам, детка.
– Я из Золушки спою, ладно? – Тут она с восхищением вспомнила артистичное исполнение Валеры и неуверенно спросила: – Только обычным голосом спеть или дрожащим?
Взрослые засмеялись и с таким же удовольствием, как до того Валеру, теперь слушали Женю.
– Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг… – заливалась сестра. А когда закончила и поклонилась, взрослые зааплодировали.
Почему-то это задело. Разве они спели одинаково? Валера относился к домашним концертам, как к соревнованию. А раз он спел намного лучше, равное внимание казалось неправильным, несправедливым. Мальчик не до конца понимал, что взрослые не столько хвалили, сколько радовались творческим порывам детей, не пытаясь распределить по местам или выставить оценки.
Как-то в пятьдесят третьем году, в воскресенье, Ободзинские праздновали Восьмое марта. Праздновали у тети Оли. Только у нее была собственная кухня в четыре квадрата. Стол накрыли скромно: селедка да картошка, но это не омрачало праздник. Наоборот, шутили:
– Это вам не при румынах, дверь на ночь колбасой завязывать.
За столом говорили полунамеками: о незаслуженно репрессированных родственниках, о тихой ненависти к вождю пролетариата. Валере показалось, что празднуют не Восьмое марта, а недавнюю смерть вождя. Он уловил общее настроение по улыбкам, дружеским подмигиваниям и сияющим глазам, но на прямые вопросы взрослые не ответили. Валера понял: не обо всем можно говорить и нужно уметь хранить секреты.
У него тоже был секрет. Пока еще секрет… который скоро превратится в нагоняй от отца. Валера взял школьный ранец, вышел в большой овальный двор и с тоской посмотрел на цветущее каштановое дерево.
Сзади незаметно подошла Таня. Видно, увидела в окно, как брат скучает.
– Ты чего грустный, Валерка?
Она смотрела с искренним участием, и признание вырвалось само:
– Да я вот все думаю… Двойку схлопотал. – Валера кивнул на ранец, что висел на плече. – Батя узнает, покажет.
– Пойдем! – скомандовала она брату.
Скрывшись от глаз на лестнице, Таня поставила Валеру возле дверей «на шухере», а сама присела на ступеньку, разложив дневник на коленях. Аккуратно стерла двойку, вывела цифру три и показала работу.
– Ух ты! Ну-у, Таня, – протянул Валера. – Талант. И не подкопаешься. Недаром, что ты школу закончила!
Он воспрял духом, и они, довольные удавшейся авантюрой, вернулись за праздничный стол.
Войдя в комнату, Валера застал папу с Женей за беседой. Папа был, как обычно, в шутливом расположении духа и донимал Женю, чтоб та танцевала.
– Ну что, племянница, как дела? – игриво приподнимал он бровь, глядя на Женю, словно задумал чего.
– Все в порядке, – шутливо, но с достоинством отвечала девочка.
– А, ну станцуй нам нашу польку!
Судя по всему, Владимир Иванович просил ее уже давно, на что Женечка неуверенно отнекивалась и повторяла:
– Ну что я буду танцевать?!
Валера с Таней тут же поддержали:
– Станцуй, Женя!
Однако и совместная просьба не помогла.
– А я тебе рубль дам! Хочешь заработать? – вдруг предложил Владимир Иванович, чем окончательно убедил.
Женя знала: рубль – это пять пломбиров. А если два? Десять!
Вчера дедушке выплатили зарплату, и он одарил внуков – дал всем по рублю. Она оглянулась на хрустальную вазочку, где лежал дедушкин подарок, и радостно кивнула, зардевшись:
– Ну, рубль, как понимаете, хочу!
Владимир Иванович запел:
– Танцуй, танцуй. Выкруцай, выкруцай!
Таня с Валерой стали хлопать в ритм. И Женя закружилась в танце.
Она по-настоящему старалась, чередуя па польки. Полушаг с воздушным подскоком, приземление на полупальцы. Девочка следила, чтобы при переступаниях каблучки не касались пола. Губы беззвучно отсчитывали такт. Первая позиция, третья, шестая. На месте, с продвижением вперед, в повороте. Закончив танец, смущенно поклонилась.
Под аплодисменты семьи Валерин папа вручил племяннице рубль. И она счастливая понеслась к вазочке, но прежнего в ней не обнаружила.
– А где рубль! – разочарованно ахнула она. И тут только поняла, что ее разыграли. И никакого рубля у дяди-то и не было, а подарил он ей тот самый, ее рубль, который был прежде подарен ей дедушкой. Огорченная, Женечка села на стул.
– А я, как дурочка, танцевала…
Тетя Оля подбодрила дочку:
– Ну что ты? Володю не знаешь?
Валера все ждал, что папа признается, что пошутил зря. Вытащит из кармана другой рубль и подарит Жене. Но папа так и не вынул ничего из кармана, а вернулся с дядей Витей к столу. Тогда Валера сам попытался отвлечь сестру:
– Представляешь, каково мне? Каждый день такое надувалово!
– Танцуешь? – сложила губы трубочкой Женя.
Валера засмеялся:
– Еще и пою! И на барабанах играю: стучу крышками по кастрюлям!
Тут их позвала тетя Оля:
– Возвращаемся к столу! Пьем чай!
Пока рассаживались, Женя шепнула Валере:
– Я не буду обижаться. Он мой дядя. Вот был бы кто другой, – она нахмурилась, – обязательно обиделась бы.
После, когда папа, мама и он возвращались домой, Валера не удержался и спросил:
– Пап? А тебе не показалось, что Женя огорчилась?
– Валерик, в нашей жизни ухо востро держать надо, – добродушно улыбался папа.
– Ну ты мог… другой рубль ей подарить. Ты же обещал…
Отец остановился и, наклонившись к лицу сына, поучающе поднял указательный палец вверх:
– Никогда не иди на поводу у женщин! Когда ты непредсказуем, ты главный.
– Ох, смотри какой еще главарь нашелся, – захихикала Женя, игриво одернув отца за рукав.
А Валерик подумал, что зря позволил Тане помочь с двойкой. Получается, если Таня уладила проблему, а не он сам, то это не по-мужски? Решено. Больше просить о помощи не будет.
Однако история с двойкой повторилась. И, вспомнив данное себе обещание, Валера исправил ее в дневнике сам. Так, вместо того, чтобы решать проблемы, он стал от них уходить. К домашним заданиям теперь относился прохладно: если поставят двойку, всегда можно стереть. Постепенно интерес к учебе терялся. Четверки и пятерки в школьном журнале исчезали. В классе ругали, грозились вызвать родителей, и он начал прогуливать уроки.
Когда отца наконец вызвали в школу, тот схватился за ремень, но скоро отступился. И перейдя в восьмидесятую школу, Валера взял себе в привычку прогуливать. Во время прогулов он знакомился с затейливыми парнями старше него, которые острили, паясничали и дрались. И хотя он тянулся к искусству, музыке, мог бы получить музыкальное образование, но неизведанное манило больше.
У Валеры появилась новая жизнь: бездумная, вольная, опасная. Нет! Здесь, в портовом городе, главное талант и удача. Он видел, как фарцовщики за день могли «сделать кассу», равную трем зарплатам бабушки Домны. Как парни, вовсе не закончившие школу, пижонили заокеанскими шмотками на набережной. Как легко парень с гитарой мог увести красивую девчонку у самого обстоятельного отличника.
И однажды задумался всерьез. В один из дней семья в очередной раз собралась у бабушки Мани. Тринадцатилетний Валера скучал. Он утратил интерес к семейным посиделкам. Тянуло гулять, а не отвечать на ехидные шуточки взрослых. Он вяло огрызался, когда Мария Николаевна сказала:
– Валерка… ты же Ободзинский!
На это он не нашелся, что ответить. Это правда! Он Ободзинский… Только, коротая время в маленькой душной комнате, такую мысль не обдумать.
– Пошли гулять? – сказал он Тане, заметив, что это времяпрепровождение ей тоже не улыбается. К тому же хотелось пройтись под руку с красивой двадцатилетней девушкой. Забавно, если кто-то решит, что они вместе. Незаметно прошмыгнули между всеми и, едва выскочив на улицу, наткнулись на сестер Фелицер из дома напротив.
– Ты ли это пел вчера вечером? – ласково спросила старшая.
– Я, – смахнул светлую прядь со лба Валера.
Сестры заговорщицки подхватили их под руки и потащили к себе. Усадив за стол, отрезали по куску канадского хлеба, налили «ворованного» чая, как называли в Одессе настоящий цейлонский, и даже выложили карамельки. После чаепития попросили:
– Спой… Спой что-нибудь из нашего, Валерик!
Глаза сестер нетерпеливо вспыхивали, но Валера не спешил. Он постоял, прошел к стене у окна, чтобы его хорошо было видно, расправил плечи и, оглядев трех барышень, начал:
– Купите, койвшен, койвшен, папиросен…
Вживаясь в образ, Валера запел жалостливо, пронзительно. Глаза оживились. И весь он как-то наполнился, распрямился, почувствовал, что стал выше своего роста. Голос его тоже подрос. Прозрачная, детская легкость сменилась нежной густотой. Сильный альт с грудным звучанием, обещавший стать тенором, заполнил комнату.
– А я несчастный, я калека, мне тринадцать лет. Я прошу, как человека, дайте мне совет.
Глядя, как заплакала старшая Фелицер, Валера осознал гипнотическую силу своего таланта.
Нет уж! Пусть плачут все трое! Плачут, кричат от восторга… Он все больше распалялся, доводя слушательниц до исступленья, ощущая власть над ними, заставляя смотреть широко раскрытыми глазами, плакать и неистово аплодировать.
С каждой просьбой о новой песне он делался увереннее. Сестры Фелицер смотрели на него с такой любовью, с какой не смотрела родная мать. И Валера по-новому понял слова Марии Николаевны:
– Валерка… Ты же Ободзинский!
Да! Да! Он Ободзинский. У него есть талант, артистизм, странная сила, заставляющая слушающих кричать от восторга. Ему не нужны пятерки в школе, музыкальное образование, надежная работа от звонка до звонка. Он может просто петь! Вот она – его портовая удача. Куда там самым успешным фарцовщикам. У него будут слава и успех…
Когда они с Таней уходили, расщедрившиеся сестры Фелицер отсыпали весь свой запас карамелек.
– Вот это подарок! – смеялась сестра. – С тобой не пропадешь.
– Теперь буду только петь. Пусть кормят-поят, – шутил Валера.
– Ну… Сегодня ты и правда в ударе! У меня самой дух захватило! И как это у тебя выходит? – удивлялась сестра.
Он насмешливо пожал плечами:
– Я Ободзинский! Я просто пою…








