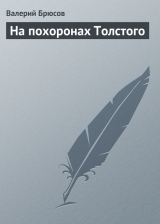
Текст книги "На похоронах Толстого"
Автор книги: Валерий Брюсов
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Валерий Брюсов
На похоронах Толстого
Впечатления и наблюдения
I
Было часов 7 вечера, когда мы выехали за Серпуховскую заставу. Мы ехали на автомобиле, я и Ив. Ив. Попов, как делегаты московского Литературно-художественного кружка; с нами ехал сын И. И. Попова, студент.
За заставой сначала – предместье с низенькими домами, потом черная, ночная даль с квадратными силуэтами фабрик на горизонте, похожих на шахматные доски, разрисованные огнями.
Разговор, конечно, не отходит от имени Толстого…
Ив. Ив. рассказывает мне о личных своих сношениях с Толстым. Живя в Сибири, Ив. Ив. имел случай оказать услугу некоторым ссыльным, о которых Толстой заботился. Позднее Ив. Ив. был в Ясной Поляне, гулял с Толстым, ездил с ним вместе верхом.
Я не могу на рассказы Ив. Ив. ответить тем же: мне не представилось в жизни случая лично познакомиться с Толстым.
Как москвич, я хорошо знал его величавую фигуру, которую, бывало, можно было часто встречать среди прохожих на Арбате. Походкой неспешной, но, кажется, очень быстро проходил Толстой среди суетливой толпы, из которой многие на него оборачивались. Глаза великого старца остро смотрели из-под нависших бровей: каждому казалось, что именно его Толстой оглядывает особенно проницательным взглядом.
Когда я был студентом, многие из моих сотоварищей «ходили к Толстому», чтобы спросить у него, «как жить», а на деле – просто чтобы посмотреть на него. Мне такое лицемерие – может быть и простительное – представлялось недопустимым. Если бы я действительно готов был начать жизнь так, как мне укажет Толстой, я бы тоже пошел к нему, – но только прикрывать таким предлогом свое любопытство я не хотел.
Позже я много слышал о Толстом от лиц, которые по разным причинам стояли более или менее близко к его дому. Один мой товарищ два года жил в семье Толстого гувернером его младших детей. Другой, занимавшийся биографией Фета, был приглашен Толстым в Ясную Поляну, где имел возможность познакомиться с архивом Толстого. Потом слышал я интимные рассказы от многих других лиц, бывавших в Ясной Поляне, в том числе очень любопытные от А. Добролюбова и Мережковских…
Всеми этими рассказами делюсь со своим спутником.
Будущие поколения узнают о Толстом многое, чего не знаем мы. Но как они будут завидовать всем, кто имел возможность его видеть, с ним говорить, сколько-нибудь приблизиться к великому человеку, и даже тем, кто, подобно мне, мог собирать сведения о Толстом от знавших его лично! Теперь, когда Толстого нет, мы начинаем понимать, как много значило – быть его современником!
Проезжаем Подольск.
Быстро мелькают улицы уездного городка. Снова поля, черные дали, звездное небо.
Прислонившись к углам каретки, мы дремлем.
Вдруг, открыв глаза, я вижу сквозь переднее окно, что наш автомобиль стремительно летит прямо на опущенный шлагбаум.
Вскакиваю, кричу. Проносятся в мыслях воспоминания о всех крушениях автомобилей, о которых приходилось читать. Кажется, миг – и все будет кончено.
Шофер, однако, успевает дать задний ход. Автомобиль по инерции продолжает лететь и ударяется в столб. Мы падаем один на другого…
Поднявшись, не без удовольствия видим, что мы целы. Разных незначительных ушибов считать не приходится.
Выбираемся на волю.
Унылая местность. Полотно железной дороги. Какие-то голые деревца. Пустая дорога, уходящая в пустую даль.
Шоферы хлопочут около автомобиля. Он явно изломан и дальше везти нас не может.
После я читал, что одна курсистка, когда ей не оказалось места в «делегатском» поезде, в котором отправлялись университетские депутации на похороны Толстого, разрыдалась. Мы тоже готовы были плакать. Проклинали себя, что предпочли железной дороге автомобиль. В полном отчаянии спрашивали друг друга: неужели нам суждено день похорон Толстого провести где-то в поле, в чужой деревне?..
Горько попрекаем шоферов, хотя и понимаем, что это бесполезно. Те дают нам совет телеграфировать в Москву и вытребовать другую машину. Но где найти телеграф, который принял бы от нас телеграмму в этот ночной час?
После военного совета, который держим в избушке сторожа, нанимаем телегу и тащимся в ближайшее село – Лопасню. Автомобиль тянется за нами, так как шоферы надеются починить его в кузнице.
В Лопасне наше появление обращает внимание. Хотя уже поздно и огни везде погашены, попадаются на улице запоздалые гуляки (день полупраздничный – Михаила-архангела). Вокруг автомобиля собирается кучка любопытных, в картузах и в шляпах. Является кузнец, нельзя сказать, чтобы трезвый. Подходит местный батюшка с молодой попадьей.
Батюшка дает дельный совет: идти на почту, где есть телефон на Серпухов и Москву. Идем.
Почта охраняется стражниками. Нас предупреждают, что охранители имеют право стрелять во всех подходящих слишком близко. Вступаем в военные переговоры.
– Ну ладно! Один из вас, кто потолковее, пусть войдет, – объявляют нам.
Наиболее толковым мы признаем шофера и отправляем его. Через несколько минут он возвращается с радостной вестью: к 3 часам будет новый автомобиль.
Ночь, спящая деревня, лают собаки, изредка ругаются пьяные прохожие. Надо где-нибудь переждать 3–4 часа до прихода новой «машины».
Снова обращаемся к батюшке. Догадался ли он, куда мы едем, или по другой причине, но на этот раз он отвечает нам весьма сухо… Стучимся в деревенскую гостиницу «с номерами» – не пускают. – Почему? У нас с собой паспорта. – Нельзя.
Делать нечего, идем в кузницу, в тесную грязную избу. Там кое-как, частью за самоваром, частью на сундуке, коротаем остаток ночи…
В 3 часа утра меня будит радостный голос Ив. Ив.: «Идет!»
Действительно, идет автомобиль. И не один, а целый ряд их. Сначала наш, потом другой, из которого здороваются с нами знакомые, дальше третий… Кто-то говорит, что в самом заднем едет городской голова Н. И. Гучков. Потом это сообщение оказалось неверным: у Н. И. Гучкова нашлись в Москве дела более важные.
Кузнец радушно прощается с нами:
– Доброго пути, господа! Не посетуйте на мою бедность. Я тоже последователь графа Толстого: имущества не имею.
Уже светает. Лежит снег. Холодно.
Быстро летим по направлению к Туле. За поздним временем решаем не заезжать в Засеку, но, умывшись и оправившись на вокзале в Туле, ехать прямо в Ясную Поляну.
II
Остановив автомобиль на шоссе, мы идем к Ясной Поляне пешком.
Ив. Ив. объясняет мне топографию местности. Вот фруктовый сад, насаженный Толстым. Вот беседочка, где он любил сидеть. Там, вдалеке, Афонина роща, около которой будет его могила. А вот два знаменитых столба – въезд в Ясную Поляну, – столь знакомых всем по личным воспоминаниям или по бесчисленным фотографиям.
Красивая холмистая местность. Чисто русский вид. На косогоре деревня, с виду – бедная, избы, крытые соломой.
Поднимаемся вверх по глинистой дороге. Вот и яснополянский дом, двухэтажный, простой, с балконом, балясник которого украшен наивно вырезанными фигурами птиц и зверей. Типическая барская усадьба. Перед террасой «дерево бедных». Все так знакомо, словно сам бывал здесь много раз.
В стороне – здание старой школы, потом службы, конюшни… Все производит впечатление большой запущенности…
Прибывших уже довольно много: студенты, курсистки, фотографы. Всюду, в парке и на поляне перед воротами, конные стражники и казаки.
Ив. Ив. начинает хлопотать, внушает студентам, что именно они должны поддерживать порядок. Я отхожу к стороне. Слышу, как кто-то расспрашивает местного мужика. Все знакомые речи, те же, что и в Москве: восторженно говорят о графе и осуждают графиню…
Постепенно прибывают все новые и новые лица. Беру под свое покровительство какого-то французского журналиста, которого не хотели пропустить. Встречаю знакомых. Впервые узнаю о тех препятствиях, которые, по распоряжению из Петербурга, чинились отъезжающим из Москвы на Курском вокзале…
Но вот раздается издали пение.
– Несут!
Все всколыхнулись, замерли, ждут.
Шествие приближается. Впереди крестьяне несут транспарант с надписью: «Лев Николаевич, память о твоем добре не умрет среди нас, осиротевших крестьян Ясной Поляны». За ними один маленький венок. Дальше, на руках, несут простой желтый дубовый гроб, без покрова… Еще дальше три телеги с венками, ленты которых жалостно волочатся по грязи.
Шествие вступает в ворота, медленно подымается по дороге. Все идут молча, и не хочется говорить. Какой-то юркий юноша забежал вперед, наставил свой кодак, машет руками и кричит шествию:
– Минуточку! минуточку! постойте. Несущие гроб невольно приостанавливаются.
– Не будет вам ни минуты! – брезгливо бросает один из распорядителей…
Но со всех сторон, из-за деревьев и с деревьев, направлены на шествие фотографические аппараты.
У самого дома давка. Все рвутся во что бы то ни стало ближе к гробу. Один из сыновей Толстого с балкона просит успокоиться и дать семье полчаса времени – провести наедине с покойным. После тело будет выставлено и все будут иметь возможность проститься с прахом Толстого.
Все стихает. Образуется длинная цепь-очередь, как живая лента, извивающаяся от балкона дома по парку. Крестьяне и интеллигенты перемешаны в этой ленте. И вообще, на протяжении всего исторического дня «господа» и «мужики» просто и естественно сливались в одно целое.
Мне не хочется стоять в очереди, я брожу по парку, всматриваюсь в лица, думаю.
Как мало собралось здесь! Вероятно, не больше 3–4 тысяч! Для всей России для похорон Толстого – это цифра ничтожнейшая.
Но ведь было сделано все, что только можно, чтобы лишить похороны Толстого их всероссийского значения.
Прежде всего за трое суток, прошедших со дня смерти Толстого, из дальних местностей не было физической возможности попасть в Ясную Поляну. Правда, Толстой сам завещал похоронить себя как можно скорее. Но ведь еще он просил не класть венков на его гроб: эту последнюю его просьбу решили не уважить и предоставить всем «свободу поступков». Почему же так охотно поторопились с погребением?
Потом, из Москвы запрещено было отправлять экстренные поезда. Тысячи желающих остались на вокзале. И об этом воспрещении экстренных поездов было объявлено лишь вечером, так что не пришлось воспользоваться обходными путями, по Рязанской и по Брестской дороге…
Собственно, прибыть могли только жители окрестных деревень, Тулы да небольшая горсть москвичей. Мне, как исконному москвичу, громадное большинство приехавших знакомы. Каждую минуту приходится пожимать руку…
Все, конечно, говорят о Толстом… Начинаешь разговор с каждым не без смутной боязни: как бы он неосторожным выражением, «не тем» словом, не нарушил сложившегося здесь строя чувств. Но, должно быть, всем в этот день хочется одних и тех же слов, и все, что я слышу, естественно сливается с моими мыслями.
Н. Е. Эфрос рассказывает мне о пяти днях, пережитых им на станции Астапово. Маленький мирок, окруживший домик, где умирал Толстой, жил в исключительном напряжении всех чувств. Все сознавали, что биение пульса там, на маленькой станции, отзывалось во всем мире. Темные слухи, возникавшие неизвестно откуда, волновали и пугали. Тяжелая распря двух партий, боровшихся у постели умирающего, делала положение еще более мучительным.
Ко мне с Ив. Ив. подходят распорядители студенческого санитарного отряда и просят совета, как быть. Они с утра на своем посту, ничего не ели и страшно утомлены. Советуем им, оставив небольшую группу, идти отдохнуть. Порядок все время – образцовый, поддерживается сам собой, и надобности в сколько-нибудь деятельной медицинской помощи не предвидится.
Вступаем также в переговоры с начальниками полицейских и казацких отрядов и убеждаем их предоставить охрану порядка самой толпе. Получаем согласие держаться в стороне, пока порядок ничем не нарушен.
Прихрамывая (он повредил себе ногу) проходит кн. А. И. Сумбатов-Южин: он возложил на гроб Толстого серебряный венок от Императорских театров…
III
Половина третьего.
Надо спешить, если я хочу проститься с Толстым.
Мы становимся с Ив. Ив. в очередь одни из последних. Проходим через переднюю, уставленную шкапами с книгами. Вот комната, откуда все вынесено, кроме стоящего в нише бюста брата Л. Н. Толстого – Николая.
В открытом гробу лежит Толстой. Он кажется маленьким и худым. На лице то сочетание кротости и спокойствия, которое свойственно большинству отошедших из этого мира. Говорят, Толстой сильно изменился.
Нельзя замедлить в этой комнате ни минуты… А так хочется остановиться, всмотреться, вдуматься… Это – Толстой, это – человек, который магической силой своего слова, своей мысли, своей воли властвовал над душой своего века. Это – выразитель дум и сомнений не одного поколения, не одной страны, даже не одной культуры, но всего человечества нашего времени. Здесь он лежит, свершив свой подвиг и завещав людям еще много столетий вникать в брошенные им слова, вскрывать их тайный смысл, на который он успел лишь намекнуть…
– Господа, проходите, проходите! не задерживайтесь!
Мы вышли в сад. После этих мгновений, проведенных пред лицом Толстого, словно что-то изменилось в душе. Не хочется думать о тех мелочах, которые занимали две минуты тому назад. Старушка крестьянка плачет, утирая глаза передником. Она только что шла в очереди вместе с нами.
– Вы здешние?
– Здешние, мы яснополянские.
– Что, изменился покойный?
– Он и при жизни-то последние годы такой был. Худенький да маленький. В чем душа держалась. Износил он тело-то свое здесь, на земле. А там ему оно не понадобится…
Затворяются двери дома. Готовятся к выносу. Толпа вновь собирается у балкона.
Над головами толпы вырастают аппараты синематографистов.
Снова растворяются двери, и тихо, медленно выносят гроб. Его несут сыновья Толстого.
Кто-то начинает:
– Вечная память…
Подхватывают все, даже те, кто не поет никогда. Хочется слить свой голос с общим хором, с хором всех. В эту минуту веришь, что этот хор – вся Россия.
– На колени!
Все опускаются на колени пред гробом Толстого.
И только щелкают затворы кодаков и медленно вертятся ручки синематографических аппаратов. Жаловаться ли на это? – Завтра в тысячах снимков этот миг будет повторен перед глазами всех запоздавших, всех обделенных, всех тех, кто не мог здесь присутствовать.
Мне говорили потом, что моя фигура вышла на снимке особенно отчетливо. Не знаю – сам я не захотел смотреть механического повторения того, что видел в действительности, в жизни. Во всяком случае, в свое время, в торжественную минуту похорон, работы синематографистов меня скорее раздражали.
Начинается новое шествие – к могиле.
Идем медленно, внутри цепи, образованной студентами и курсистками.
Тотчас за гробом идет семья покойного. В простенькой шубке с серым воротником, покрытая черным платком, скорбная, поникшая, – графиня Софья Андреевна. Ее ведут под руки.
Одно лицо среди идущих обращает мое внимание. Это – Озолин, начальник станции Астапово, уступивший свой домик больному Толстому. Простое, открытое, доброе лицо; лысина; черная борода.
Какое сочетание случайностей сделало именно эту маленькую станцию, ничем не отличающуюся от сотен и тысяч других станций российских железных дорог, местом, где разыгралась последняя сцена великой трагедии: жизни Льва Толстого! Какое сочетание случайностей этого простого, милого человека, начальника железнодорожной станции Озолина, сделало историческим лицом, имени которого не хочется забыть! Он отныне будет памятен всему миру, как, хотя бы, тот бедный рыбак, в лодке которого когда-то Юлий Цезарь хотел переехать через Адриатическое море!
Шествие движется с пением: «Вечная память…» Идти трудно, ноги спотыкаются в замерзших колеях глинистой земли. Но все же хочется не спускать глаз с простого желтого гроба; хочется удержать его в памяти своих глаз, словно этим можно как-то приблизиться к тому, чей прах покоится в этой дубовой домовине…
Вдоль Афониной рощи подходим к «Графскому заказу», месту, давно избранному Толстым для своего последнего приюта.
Небольшой холм, на котором разрослось семь или восемь нестарых дубков. Слева – дорога и деревья рощи. Справа – овраг и небольшой откос. Видны дали, поросшие кустами и деревьями. Простор и стройное спокойствие линий…
Русское сердце знает красоту такого вида. Это – красота родная, наша. Об этой красоте хочется сказать словами поэта, что ее
Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный…
Толстой был для всего мира. Его слова раздавались и для англичанина, и для француза, и для японца, и для бурята… Ему было близко все человечество. Но любил он, непобедимой любовью, свою Россию. Ее душу понимал он как никто; красоту ее природы изображал с совершенством недостижимым. И как хорошо, что могила его – в русском лесу, под родными деревьями, и что ее холм так сливается с родной, дорогой ему картиной…
Распорядители машут руками. Студенты употребляют все усилия, чтоб сдержать толпу. Любопытные унизали все деревья, висят на высоте, уцепившись за ветки.
– Вечная память!
Молодые голоса наполняют строгим молитвенным напевом чистый осенний воздух.
Снова все опускаются на колени.
Остаются стоять только несколько полицейских.
В лесу, за деревьями, выжидательно держится отряд казаков с винтовками в руках.
Гроб опускают в могилу, вырытую в мерзлой земле местными крестьянами.
Было заранее условлено, что речей произноситься не будет. Что можно сказать перед могилой Толстого? Каждый слишком живо чувствует перед ней свое ничтожество.
Мы с Ив. Ив. Поповым отходим в сторону. Великое событие свершилось. Состоялись «народные похороны», как удачно назвал кто-то это погребение. Нужды нет, что «народу» в сколько-нибудь значительном количестве не дали присутствовать на погребении. Все, кто мог явиться, чувствовали себя представителями всей России, сознавали, что на них лежит ответственность за то, как пройдет этот день. Это безмолвное сознание таинственно объединяло всю толпу, заставляло всех, и «интеллигентов» и «простых», относиться ко всему происходившему с величайшим благоговением.
Все свершилось просто, но было в этой простоте что-то более сильное, чем волнения и шум многотысячных толп на иных погребениях. Словно кто-то подсказал всем, как надо себя вести в эти часы, и похороны Толстого, в лесу, в уголку «Графского заказа», в присутствии всего 3–3½ тысяч человек, были достойны Толстого… Или вернее: были достойны России…
Три часа. Надо спешить.
Когда мы уходили, кто-то начал говорить на могиле. Мелькнуло в душе досадное чувство на то, что нарушено соглашение. Потом мы узнали, что это – Суллержицкий говорил о том, почему для могилы Толстого избрано именно это место. После Суллержицкого сказал несколько слов еще один из присутствующих – слов не плохих, но все же излишних…
Через несколько минут мы уже были в автомобиле. Началось обратное путешествие. Быстро темнело.
За Тулой начали встречаться автомобили лиц, опоздавших на похороны. Где-то под Серпуховом встретился автомобиль ректора Московского университета А. А. Мануйлова. В темноте, среди черных полей, мы обменялись несколькими словами, сообщили ему, что видели. Опять замелькали поля, и деревни, и шахматные доски фабрик. Великий день кончился.







