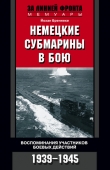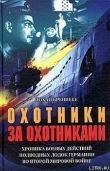Текст книги "Гидронавты"
Автор книги: Валерий Самойлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Я позвонил Анатолию Сагалевичу и изложил задуманное. Конечно, я и предположить не мог, что в тот момент Москва уже нацелила его аппараты на Северный полюс и этим делом занимается сам Артур Челенгаров. Так что 2007 год отпадал однозначно. Естественно, что мне об этом эксклюзивном походе никто ничего не сообщил. Мы спокойно обсудили тихоокеанские дела и по интонациям Анатолия Михайловича, я понял, что идея с К-129 ему интересна. Морякам вообще, есть, о чем друг другу рассказать. Не зря ведь говорят: «Моряк моряка – видит издалека!» Но это к слову, потому как к своему другу Джеймсу Камерону он обращаться не станет и для этого, вероятно, есть немало причин.
– Неужели ее там нет? – напрямую спросил я у Сагалевича о К-129.
– Вероятно…
Этого было достаточно, чтобы я выдвинул две версии:
– Первая: Камерон поинтересовался в военном ведомстве о реальной ситуации с К-129 и ему посоветовали не ворошить прошлое…
– Вторая: К-129 нет на дне Тихого океана…, потому что субмарина изначально планировалась к поднятию по частям. Именно поэтому, при длине подлодки сто восемь метров, так называемый «Лунный бассейн» «Гломар Эксплорер», где она должна была оказаться после подъема на поверхность, был сделан в два раза меньше, чем длина К-129. Судно специально строили под эту схему подъема и не могли «промахнуться» с расче-тами… Это собственные версии и мы еще потолкуем о них.
Тут как раз, теща моя вклинилась. Она приехала во Вьюжный, чтобы меня тайно крестить… Мы ведь все поголовно партийные были. Как тут не скажешь: «И моряки о Боге вспоминают, когда их море крепко прижимает…» Подаренная тещей икона Николая Чудотворца, прошла со мной все моря и океаны, находясь… в сейфах всех подводных лодок, что были по службе, рядом с партийным билетом КПСС… Нашли бы и выперли из армии и флота, как моего приятеля Владимира Присяжнюк – будущего создателя крупнейшего мебельного Салона «Даллас».
По железу немного прошлись. Про командира соединения Стрельцова А.С. и командира носителя КС-86 Папунашвили Л.Д. вы уже немного знаете, как они оказались в спецсоединении Северного флота. А как было у меня? Каким боком оказался в среде гидронавтов? Для рассказа об этом, отвожу отдельную главу. А начну, как начал свой путь известный гидронавт Герой России Анатолий Зайцев, издалека – с Камчатского полуострова…
Глава третья. Камчатский след…
Камчатка, поселок подводников Рыбачий, 1986
– Этого, на ТОФ! – гаркнул, воображаемый мною во сне, кадровик.
Я тут же проснулся весь в поту и с криком:
– Нет!!!…
– Что это было? – вопросила полусонная супруга, потягиваясь под лучами солнца, проникающими в комнату общаги на Большой Пироговке, в Москве.
– Собеседование, это было – зевая, ответил я.
– Ну, так и…, – супруга не сразу «пришла в меридиан», – будь умным…
– В смысле? – теперь уже я ее не понимал.
– Не вываливай умные мысли наружу… Держи при себе!
– Понял! – кивнул я на ходу и рванул на распределение по флотам.
В академию я поступил с ближайшего к Москве Балтийcкого флота. Поэтому участь моя была предрешена заранее – ТОФ, то есть Тихоокеанский флот. И он уже ко мне приходил… по ночам. Из тех офицеров, кого я знал с Балтики, все по завершении учебы отправились служить именно туда. Бывали исключения из правил, но крайне редко. Я упорно не хотел мириться с этим приговором судьбы, но, на всякий случай, в предшест-вующем выпуску из академии 1986-м году совместно с таким же обреченным «балтий-цем» Александром Матвиец, освоил должность старшего помощника командира субмарины в десятой противоавианосной дивизии атомных подводных лодок, базирую-щейся в поселке Рыбачий на полуострове Камчатка. Попутно, я изучил местные достопримечательности, поглощая в неограниченных количествах вареных крабов и свежую красную икру. А поселили меня в казарме экипажа печально известной К-429, проекта 670, затонувшей дважды. На этом же этаже находился экипаж К-43 по кличке «индусы» в готовности перегнать подводный атомоход такого же проекта для индийских ВМС. Индийские военные придумали для субмарины название «Чакра» и озвучили проект за номером 06709 – вместо 670-го.
Камчатский полуостров – это моя родина и именно поэтому не хотелось возвращаться туда вновь, памятуя сложности с переводом в европейскую часть страны у моего отца, также офицера военно-морского флота. Кроме того, помимо Камчатки, с её льготами по зарплате и выслуге лет, существуют и другие места службы: Павловское, Большой Камень и тому подобные заповедные зоны, для которых не предусмотрены шикарные льготы как у «камчадалов». Имея реальные перспективы попасть на ТОФ, я с благодарностью вспоминал царское правительство, продавшее Соединенным Штатам Америки в 1867-м году полуостров Аляска, открытый в семнадцатом веке русскими землепроходцами. Патриот своей Отчизны до мозга костей, я, может быть впервые, подумал об этом историческом явлении враздрай с собственными убеждениями. Единственное, что меня радовало – это наличие авиации. Без нее хоть волком вой. Она заметно сокращает отдаленность от основной, с точки зрения численности населения, европейской части страны. Ехать на ТОФ на поезде тоже можно, но вредно. Вы основа-тельно подорвете свое здоровье, потому что пить спиртное больше недели – это знаете ли… А чем еще заняться с такими же попутчиками, как и вы – не в шахматы же играть? Полетное время от Петропавловска-Камчатского до Москвы на самолете ИЛ-62 составляло девять часов. Этого времени предостаточно, чтобы вас запомнили любезные стюардессы. Они могут запомнить и на первых минутах полета, если вы имеете дело с Володей по фамилии Рыбалко…
Мы близко сошлись в Рыбачьем, хотя до этого два года учились в одном академическом классе. Володя представлял из себя исключительно хозяйственного человека и заботливого супруга. Первым делом, он приобщил меня к сбору белых грибов – других грибов на Камчатке не признают. Мы сушили их на квартире у приятеля Володи, предварительно нанизав на длинные веревочки. Сами веревочки он заготовил еще в Москве. Но дело даже не в веревках. Я восхищался друзьями Володи, их терпимостью. Не знаю, оговаривалась ли при передаче ключей на период летнего отдыха владельцев квартиры процедура сушки грибов, но то, что специфический запах, возникающий при этом действии, не оговаривался, это точно. Думаю, он сохранился там до сих пор.
Главная задача, определенная предприимчивым Володей Рыбалко на первый этап стажировки на подводных лодках, состояла в выявлении у местных аборигенов мест сбора белых грибов. Тут, как раз «индусы» и пригодились. Для начала, они посоветовали нам обуться в кирзовые сапоги – якобы против змей. Мы потом уже припомнили, что змеи на Камчатке не водятся. Нам тогда, после третьего тоста «за тех, кто на вахте, гауптвахте и… в роддоме!», было невдомек, что таким образом они хотели их просто разносить. Мы догадались об этом нюансе на обратном пути, когда идти стало невмоготу. Но это была только прелюдия. Гвоздь программы состоял в другом – в указанном ими грибном маршруте, который должен был вывести нас на плантацию белых грибов. Место сбора грибов, предложенное «индусами», оказалось в районе огромной помойки – это был и основной ориентир. Первое, что бросалось в глаза на фоне буйной растительности, это тропы, ведущие к помойке с разных направлений. Складывалось впечатление, будто недавно здесь прошли учения мотострелкового полка. Впрочем, было не до рассуждений – повсюду виднелись красавцы белые грибы. Это означало, что аборигены не обманули. Мы с Володей быстренько заполнили грибами все имевшиеся в нашем распоряжении емкости и вернулись в Рыбачий. Местные удивились – быстро же мы воротились, да еще с богатым урожаем белых грибов. А далее состоялся такой разговор:
– А где вы так скоро насобирали белые грибы? – поинтересовался один из «индусов».
– Там где вы посоветовали – у помойки! – заявил я.
– Это ж медвежья столовая! – удивленно воскликнул один из тех, кто давал на разноску сапоги. – Вы что не знали?
– А вы что нам об этом сказали? – вопросом на вопрос ответил Володя.
– Вот, почему, там вся земля протоптана, – заметил я.
– А мы думали – вы в курсе! – как ни в чем не бывало, изрек добрячек, разминая рукой кожу разношенных нами сапог.
«Индусы» дружно загоготали – им было весело. Мы с Володей переглянулись и поняли – надо уносить ноги подальше от этого радостного экипажа «индусов» с субмарины «Чакра»…
Деятельный Володя Рыбалко после небольшого стресса с «медвежьей столовой» резко нуждался в психологической реабилитации. В «подводницком» гарнизоне, который в то время представлял из себя что-то наподобие «бомжатника», реабилитироваться было негде.
– Паратунька! – раздался радостный вопль не то Володи, не то обреченного на ТОФ «балтийца» Александра Матвийца.
– Это дело! – поддержал вопль страдальцев кто-то из московского академического начальства, представлявший нашу делегацию на Камчатке. – У меня как раз суставы ломит.
«Паратунька», как военный профилакторий, всегда славилась своими лечебными ваннами. Их там три с налитой внутрь минеральной водой вулканического происхождения и разной температурой нагрева. Это даже не ванны, а бассейны, в которых нельзя нырять и бултыхаться, а надо спокойно отмокать после праведных дел на благо Отечества. Высокие лечебные свойства и возможность воспользоваться ими «на халяву» притягивают в «Паратуньку» начальство. Это любимое место для разного рода приезжающих на Камчатку инспекций. Мы числились как некое будущее начальство и нам не отказали в посещении.
Вообще то, Камчатка – это не только целебный рай. Здесь налажена великолепная рыбалка и охота… на медведей. И все бы ничего, если бы не значительная отдаленность от Москвы и… вулканическая активность. Там не редки землетрясения. В далеком детстве я и мой брат Сергей не раз испытали на себе эти местные явления природы. У нас в доме была чугунная кровать, под которую следовало прятаться при каждом землетрясении. Однажды, мы все же нарушили семейную инструкцию и выбежали из дома, чуть не угодив под падающую с крыши трубу. Зимой тоже весело – огромные снежные сугробы. Не раз матросы откапывали двери нашего дома, чтобы мы могли из него выбраться наружу.
Вылет с моей исторической родины состоялся точно в назначенное время. Но до посадки в самолет предприимчивый и хозяйственный Володя Рыбалко организовал заезд в один из рыбколхозов, где мы затарились свежевыловленной красной рыбой – не то кетой, не то горбушей. Я уже и не припомню название рыбы. Зачем Володя купил пачку соли, я догадался уже в полете. Это произошло, когда он произнес историческую фразу:
– Мы её не довезем!
– О чем ты, Вова? – спросил я, еще не догадываясь о сути проблемы.
– Пропадет…
Я взглянул в его ясные очи, ожидая разъяснений. И они наступили:
– Надо немедленно разделать и засолить рыбу!
– Давай сделаем это дома, – потягиваясь в кресле, предложил я. – Моя жена знает технологию разделки и засолки.
– Да я и сам знаю эту технологию, – уверенно сказал Володя. – Но, пока долетим, рыба испортится. Делай как я! – мой приятель решительно встал, прихватил целлофановый пакет с рыбой, и мне не оставалось ничего другого как последовать за ним в один из туалетов, расположенных в хвостовой части салона большого самолета.
Прошло некоторое время. Мы тщательно разделывали каждую рыбешку: отрезали голову, потрошили брюшко, делали разрезы вдоль хребта и солили, солили, солили… Мы усердно орудовали ножами, сбрасывая внутренности рыбешек в унитаз в воздушное пространство великой России. Все бы ничего, если б не желающие выйти «до ветра». Мы и не предполагали, что как только зайдем в туалет, их тут же окажется так много. Некоторые, из особо нетерпеливых, а по-научному говоря экстравертов с высоким уровнем нейротизма, стали периодически постукивать в раздвижную дверь туалета. Наконец, разделка и засолка рыбопродукции успешно завершилась. С чувством выпол-ненного долга перед женами и детьми, истосковавшимися по свежей красной рыбе, мы гордо вышли из неуютного туалета и встретили на себе массу любопытствующих глаз.
– Да мы рыбу солили, – прокомментировал Володя выход из одного туалета двух мужчин, предъявляя при этом целлофановым пакет с рыбой особо любопытным. – А вы что подумали?
И сам же ответил:
– Нет, мы не эти!
– Не пидеры, одним словом! – уточнил я, поскольку слово «голубые» тогда еще не применялось!
– Ладно, уж, – сказал за всех любопытствующих и нетерпеливых ближайший к туалету пассажир и быстренько проскочил в кабинку.
– Туалет не предназначен для соления рыбы! – поучительно, но вместе с тем вежливо сказала нам, и всем интересующимся правилами поведения на борту лайнера, стюардесса по имени не Жанна.
Мы с Володей уже не сомневались – нас запомнили здесь навсегда!
– Ахтунг! Ахтунг! – Володя пытался скопировать голос немецкого диктора, сообщавшего во время последней войны о появлении в небе русского асса Александра Покрышкина. – Дас ист Самойлов юнд Рыбалко ин дер люфт!
Долетели нормально. Благодаря Володе по фамилии Рыбалко, дома меня встречали как героя и заботливого папашку. Тут тебе и сушеные белые грибы, и красная рыба, и, конечно же, красная икра. Однокашники-штурмана снабдили меня трехлитровой банкой с крупнозернистой красной икрой, выменяв её у местных браконьеров за три литра спирта из «подводницких» запасов. Неплохо на Камчатке, но далековато. Кстати, в аэропорту, сержант тогда еще милиции, пытал меня, ну, сколько ж я припас икры? Я не знал, что можно не более десяти килограммов и показывал взглядом на офицерские погоны, типа того, что не борзей парень. Но сержант действовал уверенно и явно хотел заслужить благодарность от начальства за бдительность. Увидев только трехлитровку, он явно расстроился, и тут же переключился на следующего пассажира.
Итак, настал июль 1987-го года. На ТОФ никак не хотелось и не только мне. Все «позвоночные», то есть те, за кого хлопочут соответствующие начальники и родствен-ники, уже спокойно отрабатывали маршруты предстоящего отпуска. А мы, то есть «беспозвоночные», всячески пытались оттянуть момент расплаты за наше пролетарское происхождение. Народ хотел на Север – близко от столицы и денежки по тем временам немалые. Я рискнул и оказался в «отказниках» – не сказал, как положено в армии и на флоте: «Есть! Так точно! Будет сделано! Прошу разрешения убыть…» По физиономиям кадровиков и отдельным фразам, я понял, что для меня не все потеряно – что-то затевалось. Но что?
Что? Это как с некоторыми женщинами бывает. Сначала называет супруга любимым, затем милым, еще глупышом, далее дурашкой, дурачком, и наконец, дураком, тупицей, скотиной, сволочью… Все издалека, почти как у меня с кадровиками получилось.
Через некоторое время состоялось повторное выездное заседание отдела кадров ВМФ.
– Говорят, вы неплохо служили в разведке? – кадровик начал издалека.
– Не мне судить, – скромно ответил я. – Нормально, раз послали в академию.
– Занимались ПЛАРБ-ами?
– Да, ракетными подводными атомоходами США и Великобритании.
– И где же?
– Там, где они всплывают – недалеко от Северного пролива, разделяющего Ирландию и Великобританию.
Тут я сделаю отступление, поскольку память склеротическая и то, что вспомнил, также быстро и забуду. Плюс, я обещал отвлечения для ухода от монотонности. А дело было так…
Часть четвертая. К-141 «Курск» – комментарий сходу…
Калининград, 2001
2001 год. Я был уже граждански человеком и руководил бункеровками рыболовного флота северо-запада России с танкеров – по сути, был не меньше как гражданским адмиралом. В обеспечении находилось порядка тридцати судов, ожидавших топливо в северной Атлантике от острова Медвежий до скалы вулканического происхождения Роколл, что в трехстах милях от западного побережья Шотландии – любимое место обитания диетической рыбки путассу, «путаскушки», как мы ее называли. Иногда меня называли Главкомом, потому как приходилось дирижировать рыболовными судами в условиях конкуренции – когда каждый сам за себя. А мне надо сделать так, чтобы архангельские, мурманские, питерские и калининградские рыбаки были гарантии-рованно обеспечены топливом. И когда я давал команду с одного рыболовного судна передать топливо на другое, по сути, конкуренту, то можно себе представить удивление капитанов на это действие. Но все безропотно исполняли команды, поскольку эти деяния были согласованы на берегу с их судовладельцами, собственно, по их же просьбам. Тут как раз с «Курском» беда и случилась…
Подводный атомоход «Курск», или К-141, уже находился на дне Баренцева моря, и началась охота за американскими субмаринами, якобы поучаствовавшими в этом траги-ческом событии. Мне позвонил капитан рыболовного траулера и говорит, мол, имеет информацию от капитана военного танкера, взятого нами в аренду, что его направляют в совершенно другой район, и он не сможет передать расписанное по судам топливо. Звоню капитану танкера – точно! И это приказ! «Мать моя женщина!» – только и оставалось прокричать в эфире акватории северной Атлантики. А далее, мне в телефон прокричали капитаны судов: «Что нам теперь на норвежские скалы выбрасываться?»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.