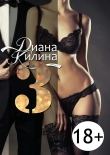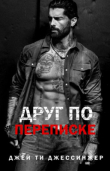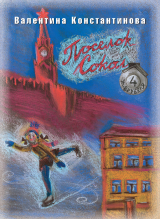
Текст книги "Поселок Сокол. Врубеля, 4"
Автор книги: Валентина Константинова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Летом работали на базе, в «икрянке». Икра шла по конвейеру, мы собирали ее, а женщины солили в чанах, добавляя туда специи и растительное масло. Какая была икра! Сейчас бы с удовольствием поела. Ели много рыбы красной (горбушу, кету, кижуча). Была также треска, навага, камбала. Камбалой летом кормили собак, а зимой и мы ее ели. А летом ели, в основном, красную рыбу. Жарили, варили уху, делали котлеты. Сами делали рыбий жир из молок трески.
В 6-й класс надо было ходить за 5–6 километров. И я ходила – одна, вечером, по темноте».
По окончании срока работы по договору о вербовке мама Мили сделала попытку найти жилье и работу в Кургане, где жил ее брат. Попытка оказалась неудачной, и летом 1953 г. мама Мили и ее брат завербовались в Якутию. Так они оказались на прииске Огонек Аллах-Юньского района ЯАССР в тот самый год, когда 1 августа 1953 г. к нам прибежал мой одноклассник Олег Сувернев и сообщил, что мой отец досрочно освобожден из ссылки.
Из письма Мили я узнала, что ее подружками на Огоньке были Лина Митахинова и Света Соколова, дочь нового директора прииска, приехавшего на смену Тихомирову А. А.
Подраставшие приисковые дети играли в те же игры, что и мы, лазали по тем же горам. Так же, как и мы, ходили за грибами, голубикой, брусникой. Вот только, где росла морошка, они не знали, по словам Мили. А она росла около протоки за домом, в котором жила семья приискового судьи Ф. Местникова. Его дочь Када училась в нашей школе.
Миля Силантьева вспоминает в своем письме о выпускном вечере моего бывшего класса. Она пишет: «У них был хороший выпускной вечер. У меня осталось такое впечатление, что был большой светлый зал. Олег, помню, приглашал меня танцевать, а Света не отпускала меня от себя. Жалею до сих пор. Он дружил, видно, с Милой Тихомировой. Он был очень умный парень.
А мальчишки в нашем классе нас не привлекали. Они были тихие, скромные, на вечера не ходили».
По окончании школы одноклассники Мили Силантьевой разъехались кто куда – учиться дальше. А их, выпускников, как пишет Миля, в 1956 г. в нашей школе было всего шесть человек, ровно столько же, сколько было в первом выпуске десятиклассников в 1952–53 учебном году.
Эмилия Казимировна поступила на физмат пединститута в Горьком. Работала сначала по направлению в Иркутской области, потом в Омской. У нее двое взрослых детей – дочь Таня и сын Саша. Сын окончил Новосибирское высшее военное училище, подполковником вышел в отставку. Он – мастер спорта по лыжам и плаванию. У него два сына.
У дочери Тани сын завершает учебу в строительном институте, дочь учится в седьмом классе. Семья Тани живет в Ачинске, недалеко от Эмилии.
Миля жалеет, что у нее нет связи с одноклассниками и однокурсниками. «Закрутила, завертела школьная работа и семейная жизнь. Ездили с места на место, и я растеряла все адреса», – сожалеет в своем письме Миля. Но все школьные огонекские фотографии она сберегла. Я уже успела сделать с них копии и вернула их ей.
Пока мы переписывались с Милей и общались по телефону, в один из вечеров, а точнее 23 января, в начале двенадцатого, нам позвонил Руслан. По тому, как он был явно чем-то взволнован, у меня промелькнула мысль: «Нашел кого-то!» Я заторопила его с ответом, так как сама успела взбудоражиться в ожидании чего-то необычного.
Русланчик рассказал, что отозвался сын Олега Сувернева Александр и начал зачитывать с экрана компьютера текст письма, присланного на «мою» страничку сайта «Одноклассники»:
«Здравствуйте, Валентина! К сожаленью, не знаю Вашего отчества. Сувернев Альберт – мой отец. Я очень рад познакомиться с его друзьями, даже в таком формате. Наверное, я Вас разочарую. Отец умер в 1987 г. Он служил на космодроме Плесецк. После окончания службы мы уехали в Полтаву, там давали военным квартиры. Отец похоронен там. Его брат жил в Новосибирске, но тоже умер где-то в 90-е. Сестры отца жили в Алма-Ате, куда переехали вместе с родителями. Последний раз я их видел в семь лет, теперь мне почти сорок. Сын моего дяди Андрей вроде бы живет в Лос-Анджелесе. Больше ничего почти не знаю. Рад Вашему письму, пишите на мой электронный адрес», – и Александр написал его.
Руслана я попросила переслать это письмо на электронный адрес дочери, а, получив, начала перечитывать его раз за разом.
Известие о смерти Олега не разочаровало, а вызвало острую жалость до боли в сердце. Судьба поступила с Олегом жестоко, несправедливо, отняв так рано жизнь у умного, неординарного человека. В нашей школе он был самым умным старшеклассником. Олег мечтал о военной авиации. По почте в его адрес приходили огромные тома научных трудов Жуковского и Чаплыгина.
Еще задолго до окончания школы Олег знал, где будет учиться дальше. Кто-то из его дальних родственников, узнав, что Олег интересуется военной авиацией, посоветовал ему поехать учиться в Иркутское военное авиационно-техническое училище. Олег поступил в ИВАТУ, а вместе с ним поехал поступать в то же училище его одноклассник Юра Константинов, мой будущий муж. Саша Константинов поступил в Бугурусланское училище летчиков гражданской авиации.
Юра рассказывал позднее, как отец не хотел отпускать его на учебу. Старший сын был хорошим помощником отцу во всех видах мужской работы: валить деревья, сплавлять лес, косить траву, разгружать баржи.
Мать Юры сделала все, чтобы отправить на учебу не только Сашу, но и Юру. Она бегала по соседям, просила взаймы денег на дорогу до Иркутска. Юра всегда с благодарностью вспоминал, как его мать преодолела сопротивление отца, как собрала необходимые деньги и успокоилась только тогда, когда отчалил от берега газоход, увозя ее обоих сыновей.
Парни почти месяц добирались водным путем до Якутска – сначала по Юдоме, затем по Мае, Алдану и, наконец, по Лене. Им предстояло оформить необходимые документы в военкомате, прежде чем отправиться в Иркутск – Олегу и Юре, в Бугуруслан – Саше.
В ИВАТУ ребята оказались в разных ротах. У Юры были серьезные проблемы при медицинском освидетельствовании перед вступительными экзаменами в училище: у него обнаружили повышенное артериальное давление и расхождение тазобедренных костей, как рассказывал он позднее.
Хирург, осматривавший Юру, строго предупредил его, чтобы он немедленно прекратил заниматься тяжелой атлетикой. Доктор не мог знать, что «тяжелая атлетика» у абитуриента Константинова заключалась в разгрузке барж. Юра наравне с взрослыми грузчиками таскал на плечах кули (крапивные мешки) весом до 70 кг с сахаром, мукой, крупами. Носил на «поняшках» (широких лямках с деревянной подставкой) ящики со стеклом, вес которых превышал вес самих грузчиков. А перетаскивать грузы нужно было сначала из трюмов баржи на палубу, затем по раскачивающемуся трапу, а потом вверх по довольно крутому берегу до склада.
Юра вспоминал, как грузчики охотно брали его в свою бригаду, как хвалили его: «Юрка, ты молодец, ты здоров, как бык!»
А вот доктор ИВАТУ сделал заключение, что абитуриент Константинов к воинской службе непригоден. И, только узнав, что парню не на что ехать домой (до Иркутска они добирались полтора месяца впроголодь, приехали грязные, у Юры оторвалась подметка от ботинка), а также то, какой «тяжелой атлетикой» он занимался на Огоньке, доктор махнул рукой и сказал: «Ладно, оставайся, но близко не подходи ни к гирям, ни к штанге – а то твои кишки могут вывалиться тебе в штаны».
Став офицерами, Олег и Юра оказались осенью 1958 г. в Главном управлении кадров Министерства обороны, откуда их направили в Камышин на переподготовку. Армии требовались специалисты для обслуживания ракетных войск, которые тогда начали уже формироваться в стране…
И вот наших мальчиков уже нет в живых. Юра умер внезапно от кровоизлияния в мозг в апреле 2001 г., умер на даче в саду в солнечный весенний день. После его смерти один сотрудник Коломенского военкомата на мой вопрос, почему так рано уходят наши мужья, ответил, полистав личное дело мужа: «Что же Вы хотите? Он несколько лет работал с жидким ракетным топливом». Позднее я узнала, что компоненты ЖРТ губительно влияют на кровеносную систему: сосуды становятся хрупкими. Юре в 2001 г. должно было исполниться 65 лет. Он был тогда еще практически здоровым, сильным физически, энергичным, жизнерадостным человеком.
А Олег, как оказалось, умер в 50 лет. С его сыном мы договорились встретиться в первых числах марта, когда он вернется из служебной командировки. Александр Сувернев служит в Москве. Он живет с семьей в Люберцах.
У меня еще теплится надежда, что через Интернет откликнется хоть кто-нибудь, кто хоть что-то знает или знал об Эдике Ненашеве или тот, кто имеет какую-либо информацию о моих одноклассницах – Гале Бекетовой, Вале Курзовой, Гуте Романовой, Клаве Петуховой, Соне Азизовой.
Оставляю несколько чистых страниц в своей рукописи, надеясь дописать в них то, что, возможно, удастся еще узнать о моих огонекских одноклассниках. Все мы родом из конца 30-х годов XX века – века, насыщенного масштабными событиями исторического значения. Мое поколение родилось и вызрело в самой его середине, испытав вместе с родителями не только тяжелое время предвоенных репрессий и самую кровопролитную войну, но и почти четверть века прожив в обстановке человеческого благополучия, имея все основания гордиться своей страной.
Я хочу, чтобы и моя книжка, и эта рукопись стали письменным памятником моим одноклассникам, а их у меня целых три комплекта: одноклассники по Гололобовской семилетней школе, по Огонекской средней школе и, наконец, по 149-й средней школе г. Москвы, что находится недалеко от развилки Ленинградского и Волоколамского шоссе.
Через несколько дней, после того как я написала, что оставляю несколько свободных страниц на случай, если появится какая-либо информация о моих одноклассниках с незабываемого и родного Огонька, я отправила письмо Миле Тихомировой в Краснодар. Письмо пришлось разместить в двух конвертах, т. к. кроме листов с текстом нужно было отправить почти десяток фотографий.
Миле я писала: «Вчера я встречалась с ребенком нашего с тобой одноклассника Олега Сувернева – Суверневым Александром. Он обещал приехать около семи вечера, но во время пересадки в метро уехал в другую сторону от Лубянки. Чтобы он не заблудился еще и в нашем квартале (наш дом стоит в глубине двора), я вышла встречать гостя. Ждала его недалеко от дома, стоя на куче подтаявшего снега. Высматривала из проходивших мимо мужчин небольшого и плотного, как его отец, человека около сорока лет, в военной форме с двумя звездочками подполковника на погонах. Но такого все не было и не было. Было уже довольно темно. Вдруг мимо меня быстро прошагал молодой мужчина в гражданской одежде с портфелем в одной руке и цветами – в другой. Я негромко, но уверенно вслед ему говорю: «Александр Альбертович Сувернев!» Мужчина резко повернулся и в два прыжка ко мне: «Валентина Ефимовна! Здравствуйте!» Обнял и поцеловал меня, неловко вручил мне цветы. Взял под руку, и мы пошагали к дому.
«Ребеночек» Олега, в целом очень похожий на отца, оказался высоким, широкоплечим и необыкновенно обаятельным. Одно было плохо – нехватка времени. На все про все у нас было всего два часа. Саше предстояло добираться домой до Люберец, и я понимала, что задерживать его дольше десяти вечера я не решусь.
Мы сначала сидели за столом, но ни есть, ни пить у нас не получалось. Один за другим следовали перекрестные вопросы, на которые нельзя было ответить односложно. Общение было хаотичным – настолько насыщенной была эмоциональная окраска нашего разговора с ним. Слишком многое нужно было рассказать за такое короткое время. Об Огоньке Саша знал очень мало, считал, что он находился где-то недалеко от Иркутска. Когда же я показала на карте, где когда-то находился наш Огонек, Саша ахнул. И, конечно, он не мог и предположить даже, что одноклассники его отца могут находиться близко от него.
Саша привез с собой три фотографии Олега. На двух из них – Олег с сыном. По тому, как Олег на этих фотографиях улыбается, видно, что ему было хорошо в тот момент. Он когда-то мечтал именно о сыне. А вот на третьей фотографии сидит немолодой, хорошо одетый мужчина на садовой скамье, сидит, опираясь на колени руками с прижатыми друг к другу ладонями. Лоб разрезан двумя глубокими продольными морщинами. Глаза Олега, всегда горевшие угольками, на фотографии выглядят потухшими. Взгляд опущен вниз. Отчетливо видно, что человек чем-то сильно удручен. В тот момент, когда я впервые увидела эту фотографию, я еще не знала, что Олег умер от практически неизлечимой болезни – рака гортани.
Мила, я посылаю тебе копии всех этих трех фотографий и фотографии, сделанные перед Сашиным уходом от нас. Мне было очень жаль расставаться с ним, с таким симпатичным и необыкновенно приятным человеком. Я увязалась проводить его до метро. Саша попрощался со мной, как попрощался бы мой собственный сын, и спросил: «Можно я приеду к Вам через две недели?» «О чем ты спрашиваешь, Саша! Да хоть завтра и в любое время», – горячо ответила я.
У Саши второй брак. Жену зовут Леной. Саша, похоже, доволен новой семьей. Сколько лет они уже вместе – не спрашивала: и некогда было, да и неудобно. Мать Олега, Галина Александровна, живет в Полтаве. Саша звонил ей от нас, чтобы спросить про Ненашевых из Новосибирска, которых она знала, а потом передал трубку мне. От нее я узнала о причине смерти Олега. От операции отказался, болезнь перенес терпеливо, мужественно. Умирал достойно.
Саша рассказывал, что отца он помнит как неунывающего и очень веселого человека, способного на разные выдумки, розыгрыши. И еще он рассказал, что отец очень много курил.
Сам Саша без вредных привычек. Он закончил инженерный факультет Академии им. Можайского. Кандидат технических наук. Работает сейчас в Главном управлении кадров Министерства обороны.
Мила, от этого большого «ребенка» исходит ощущение какой-то особой чистоты, доброты, порядочности. Он производит впечатление человека, который в детстве получил большую дозу родительской любви. На фотографиях он не такой, как «вживую»: соответствуют действительно лишь его габариты. В жизни он намного лучше, он весь светится изнутри».
Итак, поиск моих одноклассников сузился теперь до последнего моего одноклассника – Эдика Ненашева…
В течение полутора-двух месяцев Руслан каждый вечер исследовал данные Интернета, относившиеся к фамилии «Ненашев», но нашего огонекского Ненашева Эдика не обнаружилось ни на востоке, ни на западе страны, ни в Новосибирске, ни в Иркутске, ни на Украине, ни в центральной части России.
Я отправила несколько писем в разные города Украины и Крыма, где проживают Ненашевы с именем моего одноклассника и его родного брата Юрия. Посылала запрос в республиканскую газету «Якутия», но ответа не было. Была исследована вся информация о Ненашевых по Москве и Подмосковью. Откликнулась лишь одна женщина, но, к сожалению, с отрицательным ответом.
В начале июля минувшего года по электронной почте пришло письмо из Перми от Владимира Шишкина, которое еще раз подтвердило, насколько люди, пожившие в далеких таежных поселках, особенно родившиеся там, остаются на всю жизнь преданными и верными тем местам. Прииск Огонек продолжает будоражить память и чувства людей, продолжает звать к себе.
В своем письме Владимир рассказал, что он родился и жил в Югоренке. В школе с ним учились ребята, выехавшие с родителями из Огонька, закрывшегося к этому времени как прииск. Владимир вспоминает, как в мартовские каникулы 1970 года он с огонекскими ребятами на лыжах пошли через сопку на Огонек. «За день мы дошли до зимовья Юки, – пишет Владимир, – и, переночевав, пошли через сопку, как раз тем же маршрутом, что описали Вы. В Огоньке в тот момент стояли одни пустые дома – все переехали в Югоренок. Остались только старики Михалевы. Мы ночевали в избушке напротив горы, о которой написали Вы».
Владимир имел в виду сопку «Булочку», у самого подножия которой жили когда-то Суверневы. Возможно, что ребята ночевали именно в их доме.
Далее Владимир сообщил, что он до окончания школы учился в одном классе с Сашей Королевым, сыном того самого Петра Королева, токаря из мехцеха, который когда-то обучил токарному делу моего старшего брата Александра. Письмо Владимира заканчивалось так, что мне, с одной стороны, несколько неловко привести его дословно, но, с другой стороны, жалко что-либо опустить из этого текста: иначе я не смогу передать горячих чувств автора письма, его эмоционального порыва, которое он испытал тогда.
Конец письма привожу дословно: «Уважаемая Валентина Ефимовна! Я от души благодарю Вас за вашу книгу. Как жаль, что не прочтут ее все те тысячи прошедших через золотые прииски Джугджура. Для меня Югоренок – это то место, где прошло мое счастливое, райское детство. Я с любовью помню каждую сопку и распадок в округе Югоренка. Хоть и закрываются наши поселки, я все равно возьму своего сына и привезу его до Югоренка и даже свожу его через Юковский перевал в Огонек. Еще раз спасибо и низкий поклон. Ваш земляк Владимир».
Дата письма: Mon 23 jun 2008. 17:20:18+0400
Отец Владимира – Шишкин Иван был выслан из села Окатово Владимирской области по тому же указу, что и мой отец. «Дорога на край света» попала к Владимиру, скорее всего, через Алексея Китлинского.
В октябре – начале ноября 2007 г. мы разговаривали по телефону с Милой Тихомировой. Вдруг она говорит:
– Хочешь поговорить с Ирой Аллилуевой, помнишь ее?
– Как поговорить? Где она?
– Она у нас гостит, завтра уже отправляется домой, в Гомель. Она уже и книжку твою прочитала. Читала и плакала.
Оказалось, что Ира гостила у Милы с Володей целую неделю.
Мила передала трубку Ирине:
– Валечка, здравствуй! Ты помнишь меня?
– Ирочка, помню лишь имя и фамилию, помню, где ты жила на Огоньке, но лицо твое полностью исчезло из моей памяти. Пришли мне, пожалуйста, свою фотографию тех лет, я верну ее тебе. Мила даст тебе мой адрес.
Ира пообещала приехать в Москву, но, к сожалению, пока выбраться не сумела. Она живет с семьей сына в доме, который нужно ежедневно отапливать. Сын и сноха рано уезжают на работу, возвращаются поздно, поэтому Ирина поддерживает тепло в доме и не может приехать в Москву до наступления теплых дней.
Зато вскоре после нашего с ней разговора Ирина прислала фотографию, на которой она со своей подругой и одноклассницей Людой Артамоновой стоят в молодой лиственничной поросли где-то в районе Верхнего Жара на Огоньке. Я, взглянув на фотографию, сразу же поняла, кто из девочек Ира Аллилуева, Еще на Огоньке я знала, что Ирина – внучатая племянница Надежды Аллилуевой. По словам Милы, Ирина приходится ей дальней родственницей по линии матери.
В одном из писем, очень большом по объему, Ирина подробно написала о своем раннем и школьном детстве. Родилась она в Ыныкчане, по дороге в Аллах-Юнь, в котором годом раньше родилась Мила Тихомирова. Отец ее, Серафим Яковлевич Аллилуев, был строителем и многократно перемещался из одного поселка в другой в пределах Аллах-Юньского района Якутской АССР, который по площади был больше многих центральных областей страны.
Ира пишет, что на Огоньке они жили сначала в 1946–48 гг., с 1948 по 1951 гг. – на Юре. В 1951 г. отца перевели на Югоренок, в 1952-ом – снова на Огонек, потом снова на Югоренок, где он запускал электростанцию и какое-то время был ее начальником. Семья Аллилуевых часто меняла место жительства, а Ирина – школы.
«Я училась и на Юре, и в Югоренке, и на Огоньке. Жила и на квартирах, и в интернатах», – писала Ирина.
Ира помнит, как ее родители и она впервые добирались на Огонек. От Ыныкчана до Югоренка ехали и на грузовых машинах, где было возможно, и на лодках, и на лошадях. Отец оставил жену и дочку в зимовье на противоположном от Югоренка берегу, а сам пошел через Юковский перевал на Огонек.
После ледохода отправился на лодке в Югоренок. На обратном пути отец Иры тащил лодку за веревку вверх по Юдоме. «Мы сидели с мамой в лодке, как барыни, – вспоминает Ира. Я хорошо помню, как одну ночь ночевали на берегу. Развели костер, кипятили чай и ели американскую тушенку. Потом папа наломал много веток и настелил нам постель. Мы с мамой легли спать, а он сидел у костра. Костер потрескивал, и было так хорошо! Через какое-то время папа вдруг насторожился, прислушиваясь, подошел к нам и шепотом сказал, чтобы мы быстро прыгали в лодку, а сам моментально залил костер, покидал вещи в лодку, и мы поплыли на другой берег. Когда отплыли от берега метров сто, увидели, как на наше место вышли человек пять или шесть «зэков». Они что-то громко кричали. Папа выстрелил в воздух из ружья, вроде, как предупредил. Когда переплыли Юдому, там уже мама с папой тащили лодку вместе. Это был 1946 год».
Удивительно то, что и Ирина вспоминает о своем таежном детстве, так же, как и Алексей Китлинский, как и Владимир Шишкин из Перми, как и Олег Платонов из Калининграда, как и я сама. Привожу дословно выдержку из этого же письма:
«Какие были времена!! Какое было счастье, какое было прекрасное детство! Трудное, но прекрасное. Помню, как рубили лед на нашем ручейке – Жаре, таскали его домой, таяли, а потом пили чай с ягодами. И он был такой вкусный!»
Удивительно, просто трудно понять, почему мы теперь вспоминаем, что были необыкновенно счастливы тогда? Мы же говорим об этом совершенно искренне. Может, оттого, что у нас после войны у всех были отцы, еще очень молодые и здоровые? Может, оттого, что переносили неимоверно суровые зимы, и были счастливы, что сидим в тепле и пьем горячий чай с брусникой или голубикой?
И еще хочется рассказать об одном событии, связанном с Огоньком. Год назад Миля Силантьева (Лагуткина) из Ачинска попросила меня попробовать отыскать ее одноклассницу и подругу Свету Соколову. Миля написала, что в начале шестидесятых она получала письма от Светы из г. Щигры Курской области, где она жила с родителями. Отец Светы тогда работал, как написала мне Миля, на местном фосфорном заводе, а Света заканчивала среднюю школу. Затем Света со второй попытки поступила в Ленинградский медицинский институт, а сама Миля за прошедшие десятки лет неоднократно меняла место жительства от Омской области до Иркутской. Миля на всякий случай написала мне то, что помнила от адреса Светы Соколовой: «Курская область, г. Щигры, фосфорный завод, улицу не помню».
Мне ничего не оставалось делать, как отправить письмо почти так, как чеховский Ванька Жуков – «На деревню дедушке Константину Макарычу». Я направила письмо в администрацию фосфорного завода. Буквально через три-четыре дня я услышала в телефонной трубке незнакомый женский голос:
– Здравствуйте, вас беспокоит Мшенская Галина Александровна из Щигров. Я прочитала Ваше письмо, в котором Вы спрашиваете о семье Соколовых…»
Ну, что тут скажешь, кроме того, что народ наш необыкновенный – душевный, отзывчивый?
Совершенно незнакомая мне женщина рассказала, что фосфорный завод давно закрыт, так как был выработан местный карьер, поставлявший сырье заводу. Галина Александровна опросила уже много людей, ранее работавших на этом заводе, но никто из них не знал Соколовых. «Но я буду продолжать искать людей, которые работали на заводе в 60-е годы и могли знать кого-либо из Соколовых», – сказала Галина Александровна.
Я до глубины души была тронута искренним желанием Галины Александровны помочь мне отыскать того, кого я и сама никогда не видела, кроме как на фотографиях, присланных мне Милей из Ачинска.
Вскоре Галина Александровна ошеломила меня совершенно невероятной новостью. Она нашла в Щиграх подругу Светы Соколовой. Оказалось, что Света Соколова, теперь Светлана Митрофановна Амосова, проживает в Усть-Илимске Иркутской области и работает там педиатром. Получилось так, что Миля Силантьева и ее школьная подруга Света Соколова уже много лет живут совсем недалеко друг от друга. Минувшим летом Миля сообщила, что переписываются со Светой и намереваются вскоре встретиться.
А у меня среди знакомых людей появилась замечательная русская женщина Мшенская Г. А., – энергичная, дружелюбная и жизнерадостная, с которой я с удовольствием поддерживаю связь. В июле 2008 г. она приезжала ко мне в гости с тринадцатилетней внучкой Наташей, как две капли воды похожей на свою очень молодую бабушку.
Мы поддерживаем связь и со всей семьей Ельцовых, которых так неожиданно для самих себя отыскали два года назад в д. Малое Уварово, что находится в Коломенском районе в нескольких километрах от нашей Индустрии. Мы регулярно встречаемся с ними и почти в каждый выходной или праздничный день разговариваем по телефону с Галиной Михайловной Зубцовой. Она – жена Юры и невестка Любы Ельцовой, с которыми мы ехали в одной теплушке летом 1948 г., направляясь со своими родителями в отдаленные районы страны, или «на край света», как говорили тогда женщины-попутчицы.