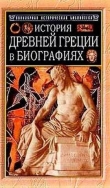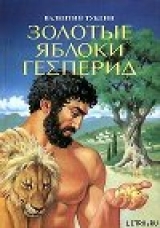
Текст книги "Золотые яблоки Гесперид"
Автор книги: Валентин Тублин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
И тогда, не выдержав, я сказал:
– Меня зовут Мелезиген.
– Так как же тебя зовут? – спросил Геракл. Он лежал на спине, и глаза его поблескивали в темноте, как у кошки.
– Меня зовут Мелезиген.
– Странное имя, – сказал Геракл. – Мелезиген, Мелезиген… «рожденный на берегу Мелеса»…
– Ну да, – сказал мальчик. – Вот именно. На берегу Мелеса. Разве ты не знаешь такой реки? Это же в Смирне.
– В Смирне? Ну конечно, – сказал Геракл. – Конечно, знаю, Мелес. Мутная такая речушка. То-то я помню, что это у черта на куличках. Это же в Малой Азии, ну конечно. Как же, Смирна. У вас еще там продаются такие вкусные засахаренные дыни, таких я не встречал больше нигде. И почти даром – просто удивительно. Да, хороший город, ничего не скажешь. Ты согласен?
– Да, – сказал мальчик. – Конечно, согласен.
Но ему вдруг стало обидно. Он и сам не мог понять, почему. Может быть, из-за дынь? Он смутно помнил огромные городские ворота с вечно сонными стражниками, толпы народа, снующие по широким улицам, базар, где они целыми днями пропадали, необъятный, известный во всем мире смирненский базар с бесконечными рядами, где продавались товары со всего света, где продавали виноград, дыни и яблоки, засахаренные фрукты – все, что производила обильная земля этого города, базар, с его палатками иноземных купцов, побывавших в далеких и неведомых странах, – настолько далеких и неведомых, что в них не понимали даже греческого языка. Но более всего ему запомнилось море – то синее, то зеленое, то в белых прожилках, то в бурунах, а то совершенно спокойное и тихое, – и как хорошо было убежать из дома, выбежать из ворот, домчаться до пристани, где все небо было закрыто мачтами кораблей, сбросить на бегу хитон и прыгнуть в прохладные, зеленые, ласковые волны, сделать гребок и другой, а потом раскрыть под водой глаза и вообразить себя огромной и сильной рыбой, от которой врассыпную разбегаются мелкие рыбешки и рачки…
И мальчик повторил:
– Да. Да, конечно, согласен. Смирна – очень хороший город. Может быть, это потому, что он основан Тезеем?
– Кем, кем? – переспросил Геракл. Он и вправду последнее время стал хуже слышать, особенно после того, как кулак Эвритиона, того самого, что сторожил быков Гериона, попал ему прямо в ухо. Это был бесчестный удар, что и говорить, даже если учесть, что это вообще был единственный удар, который Эвритион успел ему нанести, и уже точно – последний удар в его жизни. Это вечная беда таких людей, как Эвритион. С этими высокорослыми силачами никогда нельзя договориться по-хорошему, их губит неправильное представление о собственной силе. Они слишком полагаются на свои длинные руки, чуть что – пускают их в ход, не задумываясь, можно ли просто так вот взять и двинуть человеку по уху. Решительная ошибка, решительная, – но удар был действительно силен, в ухе у него до сих пор звенело, и он стал замечать за собой неприятную привычку переспрашивать по нескольку раз.
– Тезеем, – повторил мальчик. – Великим героем Тезеем.
Вот теперь он расслышал. Тезей! Как же, отличный парень.
– Тезея я знаю, – сказал Геракл. – Да. Отличный парень! А какой у него удар левой! Что-то о нем ничего не слышно в последнее время. Я-то, правда, был занят, сам знаешь. А что говорят?
– Ну что ты… – сказал мальчик. Он даже привстал от неожиданности. – Что ты, Геракл? Ну и ну! Ты и в самом деле давно не был дома. Да ведь по всей Греции только об этом и говорят. Нет, ты не шутишь? Он же украл эту девчонку, как ее… Ну да, Елену, дочку спартанского царя Тиндарея. Да нет, ты не мог этого не слышать!
– Клянусь Зевсом, которого все считают моим отцом…
– Ну, это поистине чудеса! Не слышать о таких делах! У нас во дворце об этом говорят все – от управляющего до последней судомойки. А про Елену ты слыхал что-нибудь? Говорят, она такая красивая, Елена, что и словами не передать. Дошло это и до Тезея, а он, как ты знаешь, не женат. Слушай, а Пейритоя ты знаешь?
– Из Фессалии?
– Ну, видишь! У него, у Пейритоя, тоже не было жены, вернее, сначала она была, но потом умерла. Так что они оба были без жен, и тут они стали думать, на ком им жениться. Слушай, Геракл, а ты был женат?
– Был, – сказал Геракл.
– Это что, очень здорово?
– Да как тебе сказать… – Меньше всего Гераклу хотелось говорить сейчас о своей семейной жизни. Ни говорить, ни вспоминать. – А что, это тебя интересует?
– Вот еще, – сказал мальчик. – Придумаешь тоже. Я только хотел бы понять, зачем люди женятся. Только поэтому я и спросил, потому что мне это совершенно непонятно. Знаешь, мне кажется даже, что это все просто зачем-то придумано. Ведь ни к чему хорошему такие вещи не приводят. Ну, взять эту историю с Еленой – красивая она, все говорят, – неужели этого достаточно, чтобы из-за нее разгорелась война?
– Как война? – сказал Геракл. – В каком смысле?
– В прямом, – сказал мальчик. – В самом прямом. Тезей и Пейритой украли Елену, а Тиндарей, ее отец, не стал, конечно, такого терпеть, собрал всех своих спартанцев и двинул их на Афины.
– Это уже интересно, – сказал Геракл. – Спартанцы воевать умеют. Храбрые ребята.
– Да не боится Тезей никаких спартанцев! – горячо воскликнул мальчик. – Он не боится никого на свете. Только ведь его не было дома, понимаешь. Они кинули жребий – Тезей и Пейритой, – кому достанется в жены эта девочка, Елена. И выпало – Тезею. Тогда Пейритой и говорит: «Ты мне, Тезей, друг или не друг?» Тот, конечно: «Друг». – «Ну, а если друг, поклянись, что не женишься на этой девочке, пока и мне не поможешь достать жену». Понимаешь? Тезей, натурально, поклялся. Тут Пейритой и говорит: «Пошли, украдем Персефону». Ты понял теперь?
Это Геракл услышал сразу.
– Персефону, – пробормотал он. – Жену Плутона? Это уже слишком. Они что, с ума сошли, что ли?
– Я же спрашивал тебя, – сказал мальчик, – не зря же я спрашивал тебя, что это такое – женитьба и зачем все так стремятся к этому? Я-то считаю, что все это чепуха. Это все выдумали сами девчонки. Я думаю даже, что настоящий мужчина и вовсе не должен жениться. Но это я так думаю, а взрослые, похоже, думают иначе. В этом все и дело. Может быть, тут есть что-то, чего я не знаю, а? Ну так я продолжаю: Тезей, сказал я, дал слово. А уж если мужчина дал слово… Нет, дело не только в этом. Тут еще и другое. Я считаю, что самое главное в жизни – это дружба. А Пейритой был Тезею друг… И вот тут уже то, что он дал слово… Короче, тут они и пошли.
– Куда пошли? – не понял Геракл.
– Да в Тартар же, в том-то все и дело. В подземное царство. Приходят и говорят Плутону – так, мол, и так. Пришли за твоей женой. Тот, как я понимаю, ужасно рассвирепел. Может быть, это и в самом деле нехорошо как-то – отдай и все! То есть я бы просто отдал, но у взрослых другое дело. И вот Плутон говорит им: «Вы вот здесь присядьте, а я схожу за Персефоной. Надо, – говорит, – и ее ведь спросить, может, она не захочет. А если захочет – пусть идет с вами». Они и присели.
– И…
– В том-то все и дело. Нет, наверное, Плутон действительно рассердился. Только они присели – и словно приклеились, словно приросли к скале… э… ты куда, Геракл?..
Мальчик опять не заметил, пропустил мгновение, когда Геракл поднялся, – совсем как тогда, у реки. Только что он лежал на спине, раскинув руки, огромный, спокойный, безмятежный, такой большой и тяжелый, что, казалось, нет такой силы, чтобы сдвинуть его с места, – когда он успел подняться, глаз не успел даже уловить; а он уже собирался: разбросал костер, затоптал угли, залил водой пепелище, нагнулся и вышел из пещеры. Мальчик тоже выглянул. Сидя на корточках, Геракл протирал тетиву кусочком кожи. Протер, смазал воском, снова протер. И еще раз. Поднялся, захватил тремя пальцами тетиву, потянул…
Раздался едва слышный скрип. Огромные рога подались, согнулись… Мальчику было видно, как напряглись мышцы спины.
– Геракл, – сказал он, – послушай…
Но Геракл снова не слышал. Он готовился, нет, он уже готов был идти, он смотрел куда-то вдаль, мысли его были уже не здесь. Нет, не здесь – они были уже далеко, они были далеко отсюда, там, где ждали его новые дела. Он едва не забыл о мальчике, глядевшем на него в немом отчаянии; он поправил на плечах старую львиную шкуру, взял дубину…
– Счастливого тебе пути, великий Геракл, – сказал мальчик сквозь слезы. – Да будут благосклонны к тебе бессмертные боги. Возвращайся цел и невредим. Возвращайся поскорее.
Тут Геракл обернулся.
– Малыш, – сказал он, и голос его снова был глубоким и мягким. – Малыш Мелезиген. Прощай. Ты мне нравишься. Будь ты немного побольше, я взял бы тебя с собой. Жди, я скоро вернусь. Постарайся подрасти.
Ну, я пошел. Ты плачешь? Нет? Это правильно. Мужчины не должны плакать. Даже когда хочется. Ну, прощай еще раз. Ты ведь сказал, что Тезей в Тартаре. А Цербер где? Тоже в Тартаре. Теперь ты понял? Мне надо спешить. Прощай и жди меня…
И вот он уже пошел – повернулся и пошел. Как он был огромен! Уже прошло много времени, а он все был виден, все не пропадал. И тут у мальчика сжало сердце, да так, что он думал – еще мгновение, и он умрет.
Неведомая сила сорвала его с места и бросила вслед уходящему герою. Он мчался что было сил, но пришлось пробежать, по крайней мере, тридцать стадий, пока он догнал Геракла.
– Я хотел спросить только, – говорил он, задыхаясь, – я только хотел спросить тебя, скажи, я не могу понять… Ты идешь в Тартар, в царство мертвых? Но ведь оттуда никто никогда не возвращался. Как же ты найдешь туда дорогу?
– Малыш, – сказал Геракл. – Малыш Мелезиген, рожденный в Смирне на берегах Мелеса. Запомни, дружок, что я тебе скажу. Мир полон вещей, которых мы не знаем. Мир переполнен вещами, о которых мы не имеем никакого представления. Думаешь, самое трудное – это что-то сделать? Нет. Самое трудное – это понять, что ты должен делать. Никто не знает всего, кроме светлых богов. Наш с тобой удел – искать. Вот и я – буду искать.
– Но где … где?
Я же говорю тебе – не знаю. Для этого мне придется немало поработать, по в конце концов все образуется. Главное – это понять, что тебе нужно. Запомнил?
Он наклонился и добавил шепотом:
– И знаешь, что я заметил? Когда человеку нужно – он начинает очень здорово соображать.
* * *
Я ничего не понимал. Мне было жарко, а ноги были как лед. Я ничего не мог сообразить – где я и что со мной. Я открыл глаза и лежал так некоторое время совершенно неподвижно, стараясь хоть что-нибудь понять, но, клянусь, ничего понять не мог. Даже не мог сообразить, сплю я или не сплю. У меня было ощущение, что со мною только что – секунду, мгновение назад – что-то происходило. А потом, в следующее мгновение, между мною и тем, что я только что видел, появилась стенка. Она была сначала такой тонкой и прозрачной, каким бывает лед на только что подмерзших лужах, но с невообразимой быстротой все утолщалась и мутнела – и я не мог понять, сообразить, в каком я мире, не мог удержать в памяти того, что только что видел, говорил, помнил. Это длилось несколько секунд – моя борьба с тем, что уходило, скрывалось прямо на глазах, – пока я не понял, что я проиграл. Тогда я пошевелился – и тут же откуда-то слева, но откуда – я не видел, серый сумрак, который окружал меня со всех сторон, отозвался знакомым голосом: «Ну, как ты?»
Но я даже и голоса сначала не узнал. То есть я сразу понял, что знаю его, но кому он принадлежит, понял только тогда, когда сумрак расступился, а тот, кто спрашивал, сел возле меня. Это был Костя (голос был его) – вот только я не видел ничего – серая какая-то муть. Костя проступает через муть и спрашивает: «Ну, как ты?» – и я вижу даже не его самого, а силуэт, контур, и слышу голос: «Ну, как ты?»
Но все равно ничего сообразить не могу. Почему сумрак? Почему он меня спрашивает? Сколько времени? Какой день? Что происходит? Почему я лежу? И почему так хочется пить? В глотке у меня было сухо, как в пустыне. По правде говоря, я едва шевелил языком, но самое забавное было то, что не успел я даже заикнуться об этом, о том, как хочется пить, – он, Костя то есть, тут же подал мне стакан – и не с водой, а с каким-то напитком, и я даже не выпил его. Нет, мне казалось, что я и ко рту его не успел поднести, как он уже был пустым, и только после третьего – а может быть, это был четвертый или пятый стакан – я понял, что это такое было. Это был клюквенный морс, самый натуральный, и, честное слово, вкуснее я ничего в жизни не пил. И тут я понял, что происходит нечто необычное. Но только я успел приподняться – я просто хотел сесть и спросить Костю, что все это значит, – меня уже стал разбирать интерес, и я дернулся, – как вдруг все качнулось и поплыло – потолок ринулся вниз и тут же взмыл вверх. Это было, как на качелях, когда сильно раскачаешься, и у меня в груди что-то замерло – точь-в-точь как на качелях, я успел закрыть глаза – и тут все кончилось. Нет, не все. Что-то стало давить мне на грудь, и я подумал – правда, подумал: «Может быть, у меня летаргический сон и меня приняли за покойника?» Я слыхал, что такие случаи бывали, – человек засыпал, а его принимали за покойника и хоронили. И я снова открыл глаза, и тут же Костино лицо стало проявляться из серой мглы – точь-в-точь как проявляется снимок, когда его положишь в проявитель, – вот еще нет ничего, вот нет, вот… потом нечто, а вот уже видно – и с каждым мигом все виднее и виднее. Проявился. И тут я понял, что меня давило, что я принял было за могильную плиту. Это Костина лапа придавила меня к постели. Вот что это было. Ну, понятно. Тут я говорю ему, Косте: «Убери, – говорю, – лапу, ты мне грудную клетку сломаешь». А он: «Лежи, лежи. Не дергайся. Дай мне тебя на ноги поставить». Тут меня разобрал смех. Я понял, что произошло какое-то недоразумение, что ли, или разыгрывается спектакль, и говорю: «На ноги?» А он: «Не на руки же!» Он у нас остряк. Тут я ему говорю: «А кое-куда можно сходить или нет?» А он говорит: «Если можешь – потерпи, а нет – подожди, я тебя чем-нибудь укутаю. С тебя же пот льет, словно ты три дня стоял под дождем». Я же вам говорю, что он остряк. Я решил еще чуть-чуть полежать. «Может, – думал я, – сам пойму, в чем дело?» То, что я был весь в поту с головы до ног, – это я и сам чувствовал, только не мог понять, что к чему. И во рту было сухо, и ноги ледяные, но я не мог связать все это воедино. Вы не верите? Я и сам бы не поверил, и не верил – тогда даже, когда Костя сказал, что я уже целые сутки валяюсь с температурой сорок. И что приезжала неотложка – я во все это и не думал поверить. Но вот когда я встал – тут даже вернее будет сказать, когда я все-таки попробовал встать и встал, – вот тогда-то я понял, что все это не выдумка. Ноги у меня тряслись, они меня просто не держали. Я видел как-то в зоопарке новорожденного олененка – ноги у него тряслись, страшно было смотреть. Олениха его облизывает, а он стоит, весь мокрый, и ножки такие тоненькие, что хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть, как они обламываются. Но они не обломились – он стоял (ножки, как спички) и вовсю сосал. Ужасно славный олененок.
Вот и у меня так тряслись ноги. Я прошел всего десять шагов – пять туда, пять обратно, – а ощущение было такое, будто я штурмовал Эверест. Воды с меня текло, начиная с макушки… Все лицо было залито, даже глаза щипало. Я свалился в постель и тут наконец понял: что-то случилось, но что – не знаю, не могу понять, не помню. Не могу даже связать одно с другим. Я спрашиваю у Кости: «Слушай, – говорю, – что со мной произошло?» А он: «Сам, – говорит, – у тебя хотел спросить то же». – «А как, – говорю, – ты здесь очутился?» Тут он на меня странно так смотрит и говорит: «Брось дурака валять. Брось, – говорит, – притворяться. У тебя что, память отшибло?» А я – хотите верьте, хотите нет, – ну ничего, ничегошеньки не могу сообразить, как будто я только сегодня, вот только что родился – как тот олененок, и что же я могу вспомнить? А Костя пристал с ножом к горлу: «Ну, – говорит, – вспомнил? Мы же с тобой к „Электросиле“ собирались ехать на марочный базар, ты договорился с каким-то типом встретиться. Вспомнил? Он тебе должен был кошку принести – для той польской серии…»
А я ничего не помню.
По правде сказать, надоел он мне ужасно. Я только потом, много времени спустя понял, что было бы странно как раз, если бы он не удивлялся. Только потом я понял, как важно уметь взглянуть на себя со стороны. Но это всегда вспоминаешь позднее, а еще точнее, вспоминаешь или понимаешь слишком поздно. Тогда я не понимал. Да, пожалуй, и не мог понять ничего. И вспомнить – тоже. Мы словно на разных языках говорили. Как будто он, Костя, говорил про одного человека, о котором я слыхом не слыхивал, – и выдает его за меня, а я говорю совсем про другого. Клянусь, чем хотите, – даже тогда, когда он про марки сказал, что мы, мол, собирались ехать к «Электросиле», – я и тогда не понял ничего. Такая вот жуткая история. И только тогда, когда он сказал про моих родителей («А что твои родители, – говорит, – что они у тебя за границей, в Сирии, – говорит, – в Ливане, в Афганистане, дороги строят, черт бы тебя побрал!… – Он жутко чертыхался, но теперь я его понимаю, а тогда мне даже страшно стало, он орал, как зарезанный. – Про это все, – орал он, – ты тоже, скажешь, позабыл?!»), да, вот тогда я действительно все вспомнил.
Казалось бы, какая разница, помнишь ты то, что было, или нет? Правда? А вот попробуй представь, что ничего из того, что было, не помнишь, и, странная вещь, ты уже не тот. То есть ты тот же самый – и тело то же, и выглядишь так же, и знаешь столько же. А все равно – не тот. И вот это-то и удивительнее всего. Оказывается, что человек – это не только его настоящее, но и его прошлое.
Многое можно вспомнить, ужасно многое. И все это – твое прошлое. Ты сам. Валяясь в постели, до чего не додумаешься – до такого, пожалуй, дойдешь, до чего в другое время и за миллион лет не доберешься. Так что, может быть, вовсе не худо время от времени болеть. Так человек бегает, носится, куча дел, и, как на грех, дела всегда неотложные, важные. Такие, что если не сделаешь сейчас же, немедленно, то, кажется тебе, что-то в мире остановится, что-то будет не так. А потом на тебя навалится болезнь, и ты оказываешься в постели. День лежишь, два, десять – и ничего. Я имею в виду весь мир. Он обходится. Неизвестно как, но обходится, даже если ты болеешь целый месяц. Поэтому мне и пришло в голову, что, может быть, это специально природой устроено – что-то вроде принудительного отдыха.
Это не значит, конечно, что весь мир может заболеть и месяцами валяться в постели. Это не так. Да так и не бывает. Но один… два человека. Эту мысль надо додумать, к ней надо будет вернуться. Я сам к ней вернусь еще не раз. Но впервые пришло мне это в голову в тот самый момент, когда Костя упомянул о моих родителях. Просто удивительно, как мгновенно я все вспомнил. То есть я вспомнил, кто я и где я. И потом уже все время, пока я лежал дома, я все возвращался назад, к разным временам в моем прошлом, и если бы это можно было нарисовать, то получилось бы множество тоненьких ниточек, ручейков, которые, сливаясь, становились толще, по мере того как они приближались к сегодняшнему дню. Это было похоже на схему розыгрыша Кубка по футболу – сначала шестнадцатые доли сливались в восьмые, те – в четвертьфиналы, потом появлялись полуфиналы и наконец финал. А иногда мне казалось, что это все – все эти воспоминания – похоже на то, когда бежишь быстро вдоль бесконечного забора с палкой в руке, и палка выбивает на досках дробь. И вот если бежишь достаточно быстро, то кажется, будто слышишь еще самый первый звук – и ты убегаешь от него, а он тебя догоняет…
Ужасно здорово было это – вспоминать, заглядывать в прошлое, отыскивать эти ручейки, идти по ним и смотреть, как они сливаются. Видеть, как одно перетекает в другое, и говорить себе: «Вот если бы ты тогда не сделал того, не получилось бы это, а из этого получилось следующее и так далее». И, конечно, тогда же я подумал о Косте. И стал вспоминать, как же это вышло, что мы так подружились, и могло ли быть так, чтобы этой дружбы не было. Сначала-то мне казалось, что этого и быть не могло, а потом я подумал – а почему? Вполне могло. В нашем классе сорок человек – и не со всеми же я дружу. То есть вообще мало с кем. Про Ленку я сейчас не говорю. Это совсем другое, я про парней. Ну, с Головкиным. Ну, с Шаровым еще. С Семеновым – да и то потому, что мы на одной парте сидим два года. Вот, пожалуй, и все. И тут я стал как раз отыскивать тот ручеек, самое начало его, откуда началась наша дружба, которая у нас теперь с Костей на всю жизнь.
Это было давно, по-моему, еще до нашей эры. Я тогда только что пришел в эту школу. Мы получили кооперативную квартиру на Благодатной. До этого мы жили в одной комнате на Кировском проспекте – в маленькой комнатке прямо возле уборной. Квартира была огромной, комнат пятьсот, ей-богу, я даже не всех жильцов там знал. По коридорам можно было кататься на велосипеде. Только, как вы понимаете, никто не катался – в коммунальных квартирах этого нельзя. В нашей нынешней квартире – тоже, хоть она и не коммунальная. Но в ней нет коридоров. Там, на Кировском, все велосипеды висели по стенам. Кто хотел ехать куда-нибудь – ставил стремянку и снимал. Потолки там были – метров пять, шею сломаешь. А в кухне можно было устраивать рыцарский турнир, правда.
А потом мы переехали.
Только сначала я два года провел в интернате. Дед и бабка умерли, а взять меня с собой родители не могли. Потому что там, где они были, школ не было. На Севере.
Они оба – и мама и отец – изыскатели, дорожники. Объяснять этого не нужно. Жуткая работа. Какие там школы! В общем, они на два года завербовались на Север, на изыскания, а я попал в интернат. А когда они вернулись – тогда и купили квартиру. Эту вот, кооперативную, в которой мы живем теперь. Две комнаты. Но на велосипеде, конечно, не поедешь.
Так я попал в эту школу. В четвертый «А» класс. До сих пор не могу разобраться, хорошая это школа или нет. Костя иногда бурчит, что плохая. А я не знаю – мне в этой школе хорошо.
И всегда было хорошо, с самого первого дня. Мне сразу понравилось, что директор – мужчина. Нет, я ничего не имею против женщин, но в директора они не годятся. И дело не в том даже, что надо директора бояться. Но директор должен быть – вы понимаете? – в нем должно быть что-то такое… Но это я говорю про мальчишек, а девочкам, может быть, и хорошо, когда директор женщина, даже наверное хорошо. Но не мальчишкам.
Директор мне понравился сразу. Небольшой такой, плотный, быстрый. И руки нет. Пиджак аккуратный такой, а правый рукав пустой и тоже аккуратно приколот к пиджаку. Борис Борисович. Но я вас уверяю, он управляется с нашей школой и одной левой. Если бы вы его знали! Я опять же не про боязнь говорю, тут что-то другое. Не знаю, что. Но директор что надо. Мы зовем его Б.Б. для скорости, и он никогда не обижается. Мировой директор, это я понял сразу. Когда мы пришли в первый раз, он долго смотрел то на меня, то в табель, а потом спрашивает: «А баловаться ты умеешь?» Я просто обалдел. «Вообще-то умею», – говорю, но не могу понять – он всерьез или нет. Тут он объясняет: «Я, – говорит, – вижу, что ты учишься на одни пятерки. Круглый, – говорит, – отличник. У нас, – говорит, – это большая редкость. Два, нет, три круглых отличника на всю школу. Это, – говорит, – хорошо, когда у человека все пятерки. Но это еще далеко не все. Они не должны быть самоцелью».
Теперь вы поняли?
Он говорил совсем другое, чем то, что я слышал всю жизнь. И мама мне говорила и отец – отметки, отметки, отметки. Отец сказал еще: «Твои отметки – это твое общественное лицо». А Б.Б. сказал: «Я, – говорит, – не против круглых пятерок. Отнюдь. Но главное, – говорит, – как ты понимаешь, – это знания. Но, – говорит, – не только. Еще важнее – это ты сам. Каким ты выйдешь из школы. Каким товарищем. Каким мужчиной. Что, – говорит, – будешь собою представлять как личность. А это, – говорит, – отметкой в табеле не выразишь. Вот, – говорит, – почему я спрашиваю, умеешь ли ты баловаться. Мальчики должны баловаться – только, конечно, не на уроках. И баловаться, и бегать, и гонять в футбол, и ходить в походы, и дружить с девчонками. Ты понял? И если все это есть – это очень хорошо. А если к тому же и отметки хорошие – это уже просто прекрасно. Ну, Дмитрий, – говорит, – ты со мной согласен?»
Да я был бы последним тупицей, если бы не был согласен. То, что я умею баловаться, Б.Б. очень скоро понял. Теперь он уже не спросил бы меня об этом. Но это его нисколько не волнует, клянусь. Я знаю, он ко мне отлично относится, отлично. Такой вот замечательный директор – никогда бы не поверил, что может такое быть. Я только потом узнал, что он генерал. То есть во время войны он был генералом, командовал танковой дивизией. Орденов у него штук сто – наших, заграничных, каких хотите, но он их никогда не носит, только раз в году – в День Победы. Тогда он прикалывает и привинчивает их все – пиджака не видно. Вот какой у нас директор – из-за одного этого только можно учиться в нашей школе хоть двести лет.
Вот только с отметками я ничего сделать не могу. Это от меня не зависит, клянусь. Мне нетрудно учиться. Даже не так – я вообще не понимаю, что в учебе трудного. Мне даже кажется, что те, кто говорит, что учиться трудно, на самом деле не хуже меня знают, что вес это чепуха и учиться совсем нетрудно.
Совсем нетрудно! Костя сначала думал, будто я зубрила. Я его и спрашиваю: «А потом?» – «А потом, – говорит, – вроде бы нет». Вот я и говорю: «Это же так нетрудно – учиться. На уроке послушал, домой пришел, быстро все уроки сделал – и вагон времени. Девать некуда». А он говорит: «Так-то оно так, но как это все у тебя получается – не пойму. Я, – говорит, – тоже прихожу домой, но только сядешь за уроки, то одно отвлекает, то другое. Глядишь – уже вечер». Я его спрашиваю: «Что же отвлекает-то?» А он: «Мысли, – говорит, – разные. Как прицепится мысль, так прямо хоть ложись да помирай…»
Тут мы с ним друг друга не поняли.
Но все это – в том числе и разговоры, – это все было много после. А сначала была эта история с марками, я в то время просто с ума сходил.
Я начал их собирать лет в пять – сейчас даже уже не скажу, как это произошло, да вы и сами можете себе это представить, по-моему, в мире нет человека, который в детстве не собирал бы марок. Ведь они такие красивые. А отклеивать их с конверта так приятно: отрежешь прямоугольник, нальешь в блюдце теплой воды, опустишь туда марку и смотришь, как она плавает по блюдцу – точь-в-точь как маленький парусник. А потом, когда клей размокнет и бумага начнет отставать, марка вся скручивается и отходит, и ты ее берешь аккуратно – и на просушку: на промокательную бумагу – и в книгу. А потом уже в кляссер. Но конечно, это я сейчас так говорю. А тогда, десять лет назад, когда все только началось, я, понятно, этого не знал – просто отрывал с конвертов марки и наклеивал их в обыкновенной тетради. Это я теперь понимаю, что был просто варваром. Сколько я марок перепортил насмерть – убить меня мало, но ведь я тогда ничего не знал. Я жил тогда у деда с бабкой в маленьком городке под Херсоном, откуда мне было знать о филателии. Мне просто нравились эти цветные прямоугольники, и всюду, где можно, – в библиотеке, скажем, или еще где – я отыскивал старые конверты, а потом отдирал от них марки. Вот и все. И, конечно, ни о каком научном коллекционировании не могло даже речи идти. Я собирал, как сейчас говорят, «весь мир», другими словами, все, что попадается под руку. Без разбора. Все страны и континенты, все темы – фауну и флору, спорт, космос – все. Полный идиотизм, верно? Потому что и дураку понятно, что весь мир собирать нельзя. И даже не только потому, что не хватит денег – хотя, конечно, и поэтому тоже. Прежде всего не хватит времени. Даже если человек всю жизнь только тем и будет заниматься – все равно не хватит. Это все равно что вычерпывать море стаканом. Но когда тебе пять лет – ты этого ничего не знаешь. И в шесть – тоже. И в семь. А потом, после того как вы пособираете два-три года, вы к этому делу как-то остываете. Во-первых, школа. А во-вторых и в разных там третьих и десятых, появляются тысячи других дел. А некоторым кажется, что марки вообще можно собирать в пять или, там, в шесть лет, а позже – просто стыдно. Я вам скажу, что это все чушь. Наоборот. Чем больше ты погружаешься в это дело, тем интереснее, это я скажу по себе. Я тоже было бросил, когда пошел в школу. У нас в этом городке был отличный школьный стадион, и каждую свободную минуту мы играли в футбол. Я хотел стать вратарем. Таким, как Яшин. Я прыгал при любом удобном случае, где надо и где не надо, – развивал прыгучесть. Я был маленького роста, самый маленький в классе. Отличная прыгучесть, но роста – никакого. Я целыми днями висел на турнике или на дереве, где только было можно. Я прочитал где-то, что все дело в хрящах, и если у человека достаточно силы воли, чтобы висеть долго, он может сам регулировать свой рост.
Что-что, а это у меня было. Тогда было. Я имею в виду силу воли. Нет, правда, она тогда у меня была просто чудовищной. Я даже сказать не могу, сколько времени я провисел. В общей сложности, наверное, из первых четырех лет – года два. Но что-то тут было не так. Я имею в виду науку. Не знаю. Только я так и не вырос. Не получилась регуляция роста – как был, так и остался самым маленьким, а без роста не спасает никакая прыгучесть. Пришлось оставить футбол. Потому что потом меня даже запасным не брали. Я даже сказать не могу, как я переживал. Если бы я умел плакать, клянусь, заревел бы, как девчонка. Но я не умею. Никогда не плакал – может быть, это приходит только с годами, и у меня еще все впереди.
Так что Яшина из меня не вышло. И тогда я снова вернулся к маркам. Мне приятно было собирать их, определять, какая марка из какой страны, а потом находить эту страну на карте. И если приходилось потом читать об этой стране, мне все казалось, что я уже однажды там был, – ведь марка была там, скажем, в Перу, какие-то перуанцы приклеивали ее к перуанскому конверту перуанским клеем, потом кто-то нес этот конверт по перуанскому городу, а кругом было все перуанское – воздух, дома, деревья, люди, собаки, парикмахеры, пивные ларьки, и когда я держал эту марку в руках, мне иногда казалось, что я вижу все это – вижу и слышу, и мне этого хватало.
Но, как оказалось, в этом подходе совершенно не было основательности. Оказалось – мне долго об этом рассказывал отец, – что каждая марка – это не только простой и красивый квадратик, нет. Это еще и ценность. Каждая марка, как оказалось, имеет свою строго определенную цену. Как, скажем, ботинки. Или лыжи. Или что хотите. Помню, это меня ужасно поразило. Ведь марок в мире так много, и они такие разные.