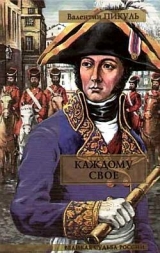
Текст книги "Каждому свое"
Автор книги: Валентин Пикуль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
14. «Мое сердце – тебе…»
3 прериаля IX года (иначе 23 мая 1801 года) генерал Моро вернулся из Страсбурга в Париж и сразу же поехал в замок Орсэ, полученный им в приданое за женою. Из «Монитера», прочитанного еще в Шалоне, Моро узнал, что его обвиняют в дурном управлении интендантством армии, и это его задело… В нижнем вестибюле замка, пока лакеи таскали наверх багаж, он бегло ознакомился с почтой. Нет, пока все оставалось по-старому. Его ожидали два пригласительных билета: из Мальмезона – к завтраку, из Тюильри – для представления первому консулу.
– Что мы наденем для Тюильри? – спросила теща, будучи уверенной, что Бонапарты без нее не обойдутся.
– После случая с ванной вряд ли Жозефине желательно вас видеть. А я зван в Тюильри с начальником штаба Лагори.
Чтобы побыть одному, пока в замке устраиваются, он поселился в старой квартире на улице Анжу. Обедал у Веро или в садах Руджиери, впервые соприкоснувшись с обновленным лексиконом парижан. Словами «исключительные» или «бешеные» отныне именовали республиканцев, а якобинцев называли совсем уж гаденько – «подонки»! В кафе и ресторанах, на зеленых террасах Руджиери к Моро подходили даже незнакомые люди, выражали свою приязнь, в публике не умолкали разговоры о его добродетелях, гражданских и воинских. Иногда – какой же человек без слабостей? – Моро было приятно слышать, что его «ставят выше всех военных без исключения» (именно в таких словах тайная агентура докладывала Бонапарту). И в Сен-Антуанском предместье, где жило рабочее простонародье, и в богатых кварталах Сен-Жермена, где селилась элита общества, всюду бытовали пересуды о том, что для Моро уже готовится в Булони мощная армия – для десантной высадки на берегах Англии, дабы покарать плутократов Сити.
Лагори предупредил своего генерала:
– Надо быть готовыми! Я возьму в Тюильри карты, пусть Рапатель не забудет отчеты по армии. Думаю, Бонапарту вряд ли сейчас приятно возвращение в Париж «исключительного» генерала «бешеной» армии да еще с начальником его штаба – «подонком» Виктором Лагори.
– Я буду в статском, – скупо отвечал Моро…
5 прериаля (на третий день после приезда) Моро прибыл в Тюильри, попав во взволнованный и красочный сонм полководцев Франции, громыхающих саблями и здоровым животным хохотом; особое внимание привлекали сабреташи – отчаянные головы, рубаки и хвастуны, пьяницы и бабники, идущие на смерть легко, как на вечеринку с дамами; именно сабреташи, сроднившиеся с войной, и были главной опорой консула, который любил этих забулдыг, готовых умереть за него хоть сегодня, но Бонапарт держал их в чинах не выше полковника.
Сегодня он принимал одновременно военных, актеров, живописцев, математиков, ученых. Каждый по степени симпатии Бонапарта получал от него – кто улыбку, кто окрик, кто ласку, кто выговор. Но все, кажется, оставались довольны… В ряду актеров находился представительный старик в напудренном парике – Жан Дюгазон-Гурго, вышедший из той же театральной династии, к которой принадлежала и Розали Дюгазон. Этот прославленный актер когда-то был близок якобинцам.
Бонапарт вдруг резко хлопнул его по животу.
– Ты все округляешь, сынок? – спросил он.
Самолюбивый Дюгазон не уронил славы «Комеди Франсез»: с такой же силой он больно треснул по животу Бонапарта:
– Все-таки не так быстро, как ты… папочка!
Это неслыханное «папочка» отбросило Бонапарта в сторону. Заметив Моро, он не взял отчетов у Рапателя:
– Оставьте у Бертье, на досуге он их просмотрит. Впрочем, я все уже знаю… Лагори, у вас ко мне вопросы?
– Я шел сюда с ответами на ваши вопросы.
– Их не будет. – Бонапарт торопливо пожал руку Моро. – Если я поручу Рейнскую армию Бернадоту, как вы думаете, способен ли он справиться с вашей «шайкой»?
После «подонков» следовало учитывать и «шайку». Но Моро решил, что будет не прав, обостряя отношения.
– Армия вполне дисциплинированна, – ответил он (понимая, что, отдав армию Бернадоту, он механически выбывает в отставку). – Все проступки наказаны расстрелами еще на войне. Так что Бернадоту будет не трудно командовать…
К их беседе подозрительно прислушивались сабреташи. Кажется, они ждали скандала, но скандала не получилось.
– Сорок тысяч франков жалованья, – громко объявил Бонапарт, – я оставляю за вами по чину командующего армией, и, надеюсь, вам пока хватит… до нового назначения!
– Благодарю, – сухо кивнул Моро.
После приема к нему подошел старик Дюгазон:
– Не везло мне в Тюильри при королях, не везет и при консулах… А вы хотя бы изредка навещайте бедную Розали. Я все понимаю, дорогой Моро, но она вас так любит!
– Любила, – согласился Моро.
– Нет, она вас любит и сейчас…
Вечером дивизионный генерал вернулся в замок Орсэ, где Александрина с трепетом ожидала его. Моро крепко обнял молоденькую жену:
– Война окончена. Мы победили. Армию отобрали. Сорок тысяч франков оставили. Теперь можно и танцевать…
Нет, Франция не унывала! Продлевалось тревожное время битв, флирта, романтики. Своим возлюбленным военные люди писали тогда: «Мое сердце – тебе, жизнь – ради чести…»
* * *
Недавно Бонапарт расстрелял художника-якобинца Лебрен-Топено, любимого ученика Луи Давида, и Париж был в недоумении – как мог Давид, запросто вхожий к консулу, не остановить убийство своего талантливейшего ученика?.. Конечно, военные толпою стояли перед последним полотном Давида «Переход Бонапарта через Сен-Бернар». Событие недавнее, свидетели еще живы, а Келлерман сказал Моро, что это чепуха:
– Красок много, но… где же правда? Я-то знаю, что Бонапарта трясло на старом ишаке, а здесь его уносит горячий конь. Да случись такое на кручах Сен-Бернара, и кости нашего героя валялись бы на дне пропасти вместе с лошадиными…
Но заядлых бонапартистов, даже верного Мюрата, явно шокировало то, что Давид внизу картины выписал имя их божества подле имен Ганнибала и Карла Великого.
– Неужели, – шептались они, – даже умники не могут обойтись без дешевой лести? Как же наш Бонапарт не догадался велеть Давиду замазать эти нескромные сравнения?
Художник Жерар уже писал однажды портрет Моро, между ними были хорошие отношения, и Моро спросил его:
– Жерар, а что вы-то скажете?
Жерар, далеко не трус, затащил Моро в уголок:
– Критиковать Давида опасно, ибо волею Бонапарта Давид в живописи, как и Тальма в театре, стал непогрешимым, вроде апостола истины. Из прежнего доброго товарища Давид обратился в диктатора, он уже не дает советов – он рассыпает декреты, как надо писать и что надо писать, если хочешь остаться живым и сытым… По секрету скажу вам, Моро: в этой картине Давид бездарен и фальшив, как нигде. Даже фигуру коня, чересчур уж горячего, он наглейшим образом похитил из-под Петра Великого с памятника Фальконе в Петербурге… Вы, – просил Жерар, – не говорите никому, что я вам сказал, иначе у меня могут быть крупные неприятности.
– Благодарю, Жерар. А бретонцы не из болтливых…
По случаю ухода из армии Моро на улице Анжу устроил пирушку для друзей, сослуживцев, приятелей. Полковник Максимилиан Фуа, прозванный «рыцарем революции», явился первым, обещая хозяину как следует напиться.
– У меня дурные предчувствия, – сказал Фуа.
Шарль Декан пришел позже всех, но принес бутылку английского бренди, чем и вызвал дружный хохот генералов.
– Ах проклятый шуан! – кричали ему. – Сознавайся, что продался в Вандею, чтобы сам Жорж Кадудаль таскал для тебя через Ла-Манш бутылки с такой крепкой жидкостью.
– На гильотину его… в Кайенну! – рычал Даву.
Бертье пытался направить хмельной разговор в академическое русло: он выражал удивление, что революция до сих пор не уничтожила уставов королевской армии:
– Наши атаки – от гонора, но мы плохо стреляем… По сравнению с русскими мы совсем не умеем стрелять!
Декан рассказал мрачному Нею о том, что творилось в Швейцарии, когда он там дрался:
– В кантоне Унтервальдена мерзкое было дело у Станцштадта. Три дня бились и в живых не оставили даже раненых. А когда мародеры пошли собирать барахло, под плащами и панцирями убитых открылись женские животы и груди… Женщины Швейцарии дрались с нами, как безумные львицы!
Максимилиан Фуа с брезгливостью отряхнулся:
– Спору нет, мы, французы, победили и заставили швейцарок признать нашу конституцию… самую лучшую в мире!
Из трубки Моро с треском сыпались искры.
– Я помню одну речь Карно, и хотя я здорово пьян, но еще могу цитировать: «Война извинительна лишь в тех случаях, если она имеет целью защиту отечества, но она становится бедствием, если ее цель – покорение соседних народов. Гуманность – первый долг полководца, который даже в своем ужасном ремесле должен отыскивать поводы для проявления человеколюбия…» Друзья! – сказал Моро. – Все мы хорошие республиканцы. Но не слишком ли мы далеко забрались со своими принципами, наколотыми на окровавленные штыки?
Ни Даву, ни Ней не ведали подобных сомнений.
– Главное – бить всех! А когда все эти королевства и герцогства свалим в одну вонючую кучу, тогда и разберемся – что оставить, а что выбросить на свалку истории.
– Не спешите, – вмешался Фуа. – Все эти королевства, все эти герцогства населяют такие же люди, как мы с вами. И немец не виноват, что родился немцем, как и я не чувствую за собой вины за то, что я – француз… Сначала мы вызвали в Европе удивление, которое сменилось страхом. Но страх обязательно обернется ненавистью к нам, французам.
– Да, – подхватил Рапатель, – сейчас мы колотим Европу по голове, и у нас это здорово стало получаться. Но где-то уже растут елки, из которых настругают палок…
– Отчего ты вспомнил елки? – удивился Ней.
– Потому что, помимо трухлявой Германии князей, епископов и герцогов, существует еще и великая страна Россия…
Пьяный Даву выплеснул в лицо Рапателю вино:
– Как ты смеешь сравнивать французов с русскими? Мы свободные граждане, а все эти русские – жалкие рабы.
– Но эти рабы несут на своих знаменах не идеалы рабства. А мы, французы, уже превратились в насильников и грабителей…
Ней ударом в лицо опрокинул Рапателя на пол:
– Мерзавец… подонок… получи от меня!
В руке генерала Моро блеснула шпага:
– Это не твой адъютант! Я убью тебя, Ней, защищайся…
Максимилиан Фуа встал меж ними:
– Вы с ума сошли… Ней, убирайся к чертям!
Доминик Рапатель, бледный от унижения, шатался:
– Мне, капитану, при генералах лучше молчать…
Лакей, встревоженный, шепнул Моро:
– Там кто-то пришел… просит вас…
Это был Жозеф Фуше, который и сказал:
– Ты знаешь, Моро, как замечательно я к тебе отношусь. Но ты сегодня нарушил правила поведения в Париже.
– Какие? Объясни.
– Ты не имел права созывать гостей, прежде не прислав мне список – кто будет, один ли, с женой, с любовницей? Я не стану мешать вашей попойке, но впредь ты учти это… Тем более и консул Бонапарт требует соблюдения этих правил.
– Фуше, так, может быть, заранее готовить протоколы речей, которые будут сказаны за столом по пьянке?
– Этого не нужно, Моро, ты и сам понимаешь, что все речи завтра же станут известны мне и без твоих протоколов…
* * *
Моро утаил от Александрины, что ни он сам, ни она, его жена, не получили от Бонапартов приглашения на большой бал в залах королевского Тюильри. Однако яркая молодость жены, жаждущей удовольствий света, ко многому обязывала, и Моро оправдывал ее и себя перед Максимилианом Фуа:
– А что делать, если в Александрине, при всей ее любви ко мне, крутятся всякие чертенята? Конечно, ей хочется «поддать пару», как говорят русские, или «поддать дыму», как говорят турки… Я ни в чем не отказываю ей, Фуа!
Париж в те годы был перенасыщен сотнями танцевальных клубов. На окраинах в полутьме трактиров топали башмаками торговки овощами, грудастые няньки вели ногами любовные диалоги с ночными ворами или солдатами-«ворчунами». Были и великолепные дорогие клубы, где не жалели музыки и свечей, здесь можно было встретить всех сестер первого консула. Но я, читатель, был, признаюсь, удивлен, когда в мемуарах одной русской путешественницы встретил такую фразу: «Г-жа Моро, красивая, стройная и грациозная, была царицей бала; ее муж, одетый простым гражданином, пожирал ее глазами». Наверное, так и было… Шоколадный негр Жюльен из колонии Сан-Доминго (знаменитый скрипач Европы) руководил с эстрады оркестром, флейты с барабанами сообщали публике веселейший ритм. Полина Леклерк, самая распутная сестра Бонапарта, безумно отплясывала с актером Пьером Лафоном, самым красивым мужчиной Парижа, и среди танцующих можно было слышать:
– А, вот она где! Первый консул затем и услал в Сан-Доминго ее мужа, чтобы он не мешал ей блудить в Париже…
После таких вечеров, после грохота музыки Моро всегда было приятно вернуться домой, освободить шею от галстука, присесть к камину и подумать о том, что ему скоро уже сорок лет… Однажды в чудесном настроении он сказал Александрине, что Париж начинает надоедать и не пора ли им провести зимний сезон в тишине деревни Гробуа?
– Пхе! – отказалась жена.
Это «пхе» всегда напоминало ему мадам Блондель.
– Не спорь со мною и поцелуй меня.
– Пхе! – отвергла она его ласки.
Моро, недолго думая, развернул ее и всыпал жене хороших полнозвучных «нанашек»:
– Вот тебе, вот тебе! Сколько раз говорить, чтобы в моем присутствии ты оставила это дурацкое «пхе»…
Александрина ловко укусила мужа за ухо и, отбежав подальше, издали показала ему розовый язык.
Тут Моро не выдержал и весело расхохотался:
– Ребенок! Я всегда забываю, сколько тебе лет…
* * *
Вскоре молодая женщина ощутила признаки беременности. Кто-то будет у них – Поль или Виргиния? Какие блаженные острова ожидают их в будущем?
Будет ли знать их Виргиния, что останется в дневниках русского поэта А. С. Пушкина, который однажды, вернувшись с бала у Салтыковых, второпях запишет: «Ермолова и Курваль (дочь ген. Моро) всех хуже одеваются…» Тогда был конец 1834 года, и уже выросло новое поколение.
Молодую красивую иностранку, закутанную в русские меха, русские кони увозили в блеск и сияние русских снегов. А ее отец, генерал Моро, отлитый в бронзе, стоял над своей могилой, держа в руке боевую шпагу. На его надгробии было начертано все: когда родился и где родился, когда умер и где умер. Не было, пожалуй, сказано главного: «Мое сердце – тебе, Франция!»
Часть вторая
Сопротивление
Храбрые товарищи по оружию! Республика… сейчас только пустое слово: вскоре, несомненно, Бурбоны будут на троне или Бонапарт провозгласит себя императором… По какому праву этот незаконнорожденный ублюдок Корсики, этот республиканский пигмей хочет изображать собою Ликурга или Солона?..
Из обращения Рейнской армии
Второй эскиз будущего с высоты Монмартра
Почитаемый в нашей истории декабрист Михаил Федорович Орлов, мыслитель и литератор, был адъютантом генерала Моро в самый трагический период его жизни. Весна победы 1814 года застала Орлова уже в чине полковника, в звании флигель-адъютанта царя, в возрасте двадцати шести лет. Жизнь еще только начиналась, и Орлов не мог предвидеть ее конца – тоже трагического, но осененного уважением русского общества, дружбою Чаадаева, Пушкина и юного Герцена…
Шампань удивила русских бедностью жителей и богатством винных подвалов. Наполеон еще готовил поход на Москву, когда мир ошеломило появление ярчайшей кометы, под знаком которой Шампань в 1811 году дала небывалый урожай крупного сочного винограда. Теперь шипучее «vin de la comete» русские казаки растаскивали в ведрах и давали пить измученным лошадям – для взбодрения:
– Лакай, хвороба! До Парижу осталось недалече…
Армия наступала. Вровень с конницей, волоча за собой пушки и зарядные фуры, двигались калмыцкие верблюды, посматривая по сторонам с презрением. Деревенские кюре спрашивали Орлова – почему войска коалиции носят на рукавах белые повязки, уж не символ ли это заядлого роялизма?
Орлов объяснял им казусы коалиционной войны:
– Не умея разбираться в мундирах, наши казаки перекололи столько союзников, что пришлось ввести это отличие. Все простыни, все нижнее белье давно разодрано, и нам уже поздно менять повязки на розовые или голубые. Белый цвет – не признак роялистских воззрений. Я не поручусь за венценосцев Европы, но мы, русские, склонны оставить во Франции республиканское правление… без тирании Наполеона!
Наконец перед армией смутно забрезжили очертания громадного города, вдали угадывались башни Нотр-Дам и Монмартрские высоты. Солдаты стали креститься:
– Ну, здравствуй, батюшка Париж… пора! Давно уж нам пора расквитаться с тобой за матушку Москву…
Авангард генерала Раевского занимал Бондийский лес, прусский корпус Блюхера вливался в рощи Сен-Дени, Ланжерон выводил русских прямо к Монмартру, на холмах которого ветер раскручивал крылья мукомольных мельниц. Орлов видел, как восемь израненных канониров, все в кровище, с матюгами и стонами уже вкатывали на крутизну первую трофейную пушку.
– Пойдет ли в бой лейб-гвардия? – спросил он.
Александр I был в отличном настроении, издалека лорнируя Париж, как волшебную декорацию в театре:
– Пока одни павловцы! Остальную гвардию и кавалергардию побережем для въезда в Париж, дабы не осрамиться перед прелестными француженками нашим рваньем и босячеством… Кстати, милейший Орлов, узнайте, не нуждается ли в ваших услугах фельдмаршал Барклай-де-Толли?
– Сюрприз! Разве он… фельдмаршал?
– С этого момента. С горы Монмартра…
В садах предместий Парижа сами по себе падали деревья, переломленные от самых корневищ чудовищной вибрацией воздуха. Задержка произошла лишь под стенами Венсеннского замка, где на призыв русских солдат сдаваться на фас цитадели выбрался одноногий комендант.
– С удовольствием сдамся! – прогорланил он, размахивая костылем. – Но с одним условием: я вам – крепость, а вы мне – ногу, которую я нечаянно оставил у вашей деревни Бородино…
Дивизия Раевского штурмовала Бельвиль, пруссаки ломили напролом – безумно дерзкие в соседстве с русским союзником. Барклай-де-Толли сказал:
– Господь всевышний вознаградил меня за все мои унижения двенадцатого года… Конец моей жизни прекрасен!
И в этом грохочущем аду битвы, в нервных криках команд и воплях умирающих Орлову было так страшно, было так больно слышать его трудные, мужские рыдания…
* * *
Государственная машина империи работала четко. Каждый француз, будь то спекулянт или рабочий, ежемесячно платил налоги для смазки этой сверкающей машины, не знающей перебоев. Но чем хуже становились дела Наполеона, тем труднее было инспекторам выколачивать подати. В январе 1814 года парижане платили уже неохотно, в феврале обещали рассчитаться с казной в следующем месяце, а в марте чиновников императора просто спускали с лестниц:
– Зайди в апреле! Поглядим, кто тогда будет…
Из денежного оборота парижан вдруг исчезли золото и серебро, базарные торговки не брали ассигнаций. Мошенники сбывали наполеондоры, зато зажимали королевские луидоры. Магазины работали, как раньше, но продуктов не было. Пустые полки украшали бутыли с вином и детские сладости. Однако двери Лувра по-прежнему открывались по утрам, впуская под свою сень говорливые толпы художников-халтурщиков, живших тем, что они копировали полотна великих мастеров на продажу (каждый буржуа не прочь был иметь своего Караваджо или Мурильо). Вся эта богемная шушера, расставляя подрамники и отбивая на ладонях ворс кистей, вольготно рассуждала о последних событиях, как о событиях на Луне:
– А где император? Говорят, в Мо? Но ведь от Мо остались руины после взрыва арсеналов… Плевать, что будет! И пусть Давид, любимец Наполеона, мечется со своей гениальной палитрой, а нам одинаково паршиво при любом режиме…
Иногда художники подходили к окнам Лувра, озирая из них обширные дворы Тюильри, заставленные массою экипажей:
– Наша австриячка уже собирает чемоданы, чтобы бежать под защиту своего папеньки… Ей-то что! Пожила в Тюильри, теперь не пропадет и в родительском Шенбрунне…
В залах Тюильри заранее паковали в дорогу груды золота, серебра, фарфора и драгоценностей. Ящики нумеровали. Два ящика, № 2 и № 3, заполнили фамильными бриллиантами (фамильными они были, правда, лишь до того момента, пока не оказались в руках династии Бонапартов, ограбивших прежних владельцев). Мария-Луиза, дочь императора Франца, молоденькая жена Наполеона и мать его наследника – Римского короля, перетряхивала свой гардероб. Камеристку спросила:
– Как вы думаете, что надеть мне для выезда?
– Вашему величеству в дороге приличествует черная амазонка, выделяющая стройность идеальной комплекции, а шляпа с черными перьями какаду послужит причиной для неподдельного восторга парижан перед вашей скромностью.
– Я такого же мнения, – сказала Мария-Луиза. Оборону столицы Наполеон доверил тогда своему брату Жозефу, бывшему королю в Неаполе и Мадриде:
– Жозефина уже бежала в Наварру, но честь молодой жены должно беречь особо. И пусть болтуны в Париже примолкнут: моя армия еще будет стоять на Висле! Впрочем, – поник император, – я теперь согласен заключить мир и на берегах Рейна, если бы не упрямство русского царя.
На улице Рошуар экс-король Жозеф видел раненых, лежащих на тротуарах, среди них скорчились мертвецы.
– Кто вы и откуда? – спросил он (тут были искалеченные при Фер-Шампенуазе, обожженные чудовищным взрывом пороховых арсеналов в Мо). – Что вы тут валяетесь?
– Госпитали переполнены. Нас уже не берут.
– Вы же умрете на земле.
– Мы и умираем… за императора!
Возле церкви св. Лазаря была устроена свалка русских раненых, попавших в плен; отсюда их грузили на большие телеги, мертвых вместе с живыми, и отвозили прямо на кладбища, где и сбрасывали на землю, как мусор. Мертвые оставались мертвыми, а живые еще окликали редких прохожих:
– Эй, Париж! Не знашь ли, далече ль наши-то?..
Через заставы Клиши, Пасси, Пантен, Сен-Жак и Сен-Мартен тянулись длиннющие обозы беженцев, между колес бежали собаки, за телегами тащились, опустив головы, недоеные коровы. У застав возникали драки – никто не хотел платить в казну пошлину за въезд в столицу империи.
– А по чьей вине мы бросили свои дома, сады и могилы предков? – кричали беженцы. – Мы разорены вконец этими войнами, и теперь с нас же дерут последние деньги. За что? Чем мы виноваты, если наш великий император обклался?
В кварталах Сен-Жермена аристократы провозглашали двусмысленные тосты за «последнюю победу» Наполеона. Ночью роялисты наклеили на Вандомскую колонну призыв: «Она уже шатается – приходите скорее!» Жозеф начал оборону столицы с того, что пытался изнасиловать жену своего брата, а Мария-Луиза обратилась к помощи министра полиции Савари:
– Сейчас только вы можете оградить мою честь…
Толпы рабочих уже громили винные лавки; пьяные, они шатались по улицам, требуя у Жозефа оружия:
– Мы все умрем за великого императора! – Проспавшись, рабочие уже не просили ружей, они издевались над студентами Политехнической школы, которым оружие вручили. – Эй, образованные! Вам больше всех надо? Ну сейчас и получите…
Жозеф велел строить у застав оборонительные тамбуры (нечто вроде современных дотов), из бойниц которых удобно простреливать внешние бульвары и подступы к городским стенам. Все слухи о близости русских Жозеф пресекал.
– К чему волнения? – говорил он. – Да, русские приближаются. Но только потому, что их впереди себя гонит, как стадо, мой брат император, а мы их здесь доколотим…
Генерал Кампан наспех формировал дивизию, куда запихивали всех, кто попадался под руку. Парижский комендант Гюллен поставлял Кампану дезертиров, инвалидов, бродяг и висельников. Наконец, в Париж втянулись остатки разбитой армии, с ними два маршала сразу – Мармон и Мортье.
– Вы прямо с небес? – спросил их Гюллен.
– Мы едва спаслись из-под Фер-Шампенуаза. Дайте нам хотя бы одну ночь, чтобы мы выспались…
Появление маршалов, пусть даже битых, помогло Жозефу избавиться от ответственности за оборону столицы. 29 марта он созвал высший совет, на котором председательствовала Мария-Луиза. Здесь же был и Талейран, делавший вид, что он крайне озабочен спасением империи. Но что путного могли сказать чиновные души, жалкие рабы Наполеона, приучившего французов слепо повиноваться, и только. Правда, речей было сказано много, каждая из них несла в себе мощный заряд ораторского пафоса, но все речи, как одна, были построены по затверженному шаблону. И кончались одинаково: мы готовы умереть за императора, но мы ничего не можем решить без согласия императора… «Ах, так?» – Жозеф с облегченным сердцем достал письмо Наполеона от 16 марта, в котором указывалось, что в случае опасности следует вывезти из Парижа императрицу с сыном.
– Ваше величество, – обратился Жозеф к невестке, – в восемь часов утра последняя карета вашего кортежа должна выкатить последние колеса за ворота Тюильри…
Возле Тюильри не расходилась толпа, наблюдая через окна за суматохой придворных; парижане видели, как в дворцовых люстрах дымно оплывали догоревшие свечи, слышался дробный перестук молотков рабочих, забивавших последние гвозди в последние ящики с сокровищами Наполеона. И всю ночь над встревоженным Парижем колыхалось зловещее зарево – это края облаков проецировали на город отражение многих тысяч бивуачных костров российской армии, стоявшей наготове к решительному штурму. Мармон, злой и крикливый, увел свои молчаливые батальоны на защиту Монмартра, возле казарменных депо гремели барабаны, созывая из квартир ветеранов-инвалидов, добровольцев-студентов. Извозчики выпрягали лошадей из колясок, тащили к заставам пушки. Наконец толпа парижан напряглась в суровом осуждении, когда из дворца скорой походкой вышла Мария-Луиза в черной амазонке с черными перьями на шляпе, она силком тащила Римского короля, который капризничал, отбрыкиваясь от матери. Шталмейстер отворил дверцы кареты, помог женщине справиться с ребенком.
– Трогай! – махнул он перчаткой…
Рессоры карет с хрустом просели от тяжести груза, в охрану длинного кортежа императрицы вступили мрачные кирасиры, закованные в латы. Стало тихо.
– Вот и все, – сказал нищий старик, держа под локтем старенькую флейту. – Видел я, как бежала от революции Мария-Антуанетта, а сегодня имел счастие наблюдать, как бежала ее племянница… Добрые французы, но Франция остается, а наш Париж всегда останется Парижем!
К нему подошел агент тайной полиции:
– Ты чего взбесился? Или чечевицы не пробовал?
– Иди-ка ты… выспись, – ответил музыкант.
* * *
– Талейран сообщает, что Париж беззащитен, а роялисты возлагают на меня особые надежды по реставрации престола для Бурбонов. Елисейский дворец, кажется, заминирован. Талейран предлагает мне кров в своем отеле на улице Сен-Флорентан… Европа должна завтра же ночевать в Париже! – таковы были напутственные слова Александра.
Едва не погибнув под шалыми пулями, Орлов выбрался на вершину Монмартра, увидев Париж у своих ног – во всей его прелести. «На этот раз, – вспоминал он позже, – мне суждено было представлять Европу…»
– Прекращайте стрельбу! – кричал он французам.
В передней цепи обороны стоял маршал в боевой позе. Размахивая призывно шпагой, он сам подошел к Орлову:
– Я – Мармон, герцог Рагузский, а вы кто?
Орлов, назвав себя, сказал маршалу:
– Я прислан из русской ставки, чтобы спасти Париж для Франции, а Францию спасти для мира.
Мармон с лязгом опустил шпагу в ножны.
– Без этого, – сказал он, – мне лучше здесь же, на Монмартре, и умереть… Каковы условия?
На яростные крики бонапартистов «Vive l’empereur!» оба они не обращали внимания. Орлов предложил отвести войска за укрепления застав, заодно очистив и местность Монмартра, с чем Мармон, кажется, согласился:
– Я с маршалом Мортье, герцогом Тревизским, буду ожидать вас у заставы Пантен… К делу, колонель!
Орлов вернулся на аванпосты; здесь возле своих лошадей спешились император Александр с прусским королем, а где-то еще стучали пушки, и король сказал Орлову:
– Это у Блюхера, нам старика никак не унять…
Выслушав Орлова, царь жестом подозвал к себе чиновника Нессельроде, которому и поручил всю ответственность за политическое содержание капитуляции Парижа:
– Вы сопроводите Орлова до заставы Пантен…
Был пятый час вечера, пушки Блюхера, пылавшего хронической ненавистью к Франции, еще гремели, но с русской стороны воцарилось спокойствие. Шумы большого города достигали вершины Монмартра, Орлов хорошо различал звоны колоколов, музыку оркестров, даже цокот лошадиных копыт, женские вскрики и мужскую брань. Мармон ожидал парламентеров у заставы, но Мортье с ним не было. Возле палисадов, опираясь на стволы ружей, стояли плохо одетые молодые конскрипты и национальные гвардейцы, пожилые, в отличной обмундировке. Всюду валялись битые бутылки из-под вина, в кострах догорала разломанная мебель из соседних жилищ.
Мармону подвели лошадь.
– Если герцог Тревизский не едет, мы сами поедем к нему, – сказал он, легко заскакивая в седло…
Мортье встретил их возле Виллетской заставы, и Орлову был неприятен этот человек, который при отступлении из Москвы взрывал и калечил стены Кремля. Все четверо проследовали в пустой трактир. Мортье отмалчивался, говорил Мармон:
– Мы понимаем, что о сопротивлении сейчас можно рассуждать только как о гипотезе. Но просим не забывать, что Париж обложен вами лишь с одной стороны…
Нессельроде настаивал на капитуляции гарнизона.
– Тогда нам лучше погибнуть, – отозвались маршалы. – Мы можем покинуть Париж вместе с гарнизоном, но мы не сдаемся вам вместе с Парижем. Южные заставы для нас открыты…
Уже темнело. Вдалеке раскатывался гул артиллерии, треск ружейной пальбы – это войска Ланжерона всходили на высоты, обратив с Монмартра на Париж стволы пушечных орудий. Но маршалы и теперь не стали уступчивее, в один голос они соглашались оставить Париж вместе со своими войсками, которые – несомненно! – укрепят армию самого Наполеона:
– Дайте нам уйти со знаменами через ворота, которые еще свободны. Сейчас уже вечер, а скоро ночь…
Орлов понимал: взятие Парижа может состояться под утро, а ночью гарнизон все равно может убраться куда ему хочется, так стоит ли ломать копья в напрасной полемике? Именно сейчас требовалась смелая политическая импровизация; Орлов сказал Нессельроде, чтобы тот возвращался в ставку:
– А я останусь в Париже представлять победившую Европу… Герцог Рагузский, вы слышали? Если вы согласны оставить меня заложником, наша армия не предпримет никаких атак на Париж… Устраивает ли вас подобная вариация?
– Да. Но как быть с ключами? Сдай я вам ключи от Парижа, и позор не будет смыт даже с моего потомства.
– Россия, – ответил Орлов, – не желает лишнего унижения для Франции, мы не нуждаемся в поднесении нам ключей Парижа, но с условием, чтобы эти ключи не достались музеям или арсеналам Вены, Лондона, Берлина!
– Отлично, – заметно повеселел Мармон. – Тогда поедем ко мне в отель. Заодно поужинаете… Мне, честно говоря, даже не верится, что я вижу адъютанта генерала Моро…






