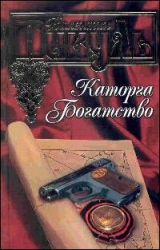
Текст книги "Каторга (др. изд.)"
Автор книги: Валентин Пикуль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Часть вторая. АМНИСТИЯ
Взгляни на первую лужу, и в ней найдешь гада, который иройством своим всех прочих гадов превосходит и затемневает…
М. Е. Салтыков-Щедрин
ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ. Пролог второй части
Если бы Сахалин не был отдан на откуп каторге, наверное, иначе бы сложилась судьба драгоценной «черной жемчужины», как в России называли этот остров наши ученые…
В первые годы Советской власти жители острова постановили: отныне Сахалин не будет знать преступлений, мы станем созидать новую жизнь на добрых началах, а всех нарушителей законности и порядка следует судить высшей мерой наказания:
– Бандитов и воров ссылать… на материк!
Многие из узников царизма не покинули остров, где и поныне проживает их потомство в третьем и четвертом поколениях. Навсегда связал свою жизнь с Сахалином самый последний каторжанин Станислав Бугайский. В 1920 году ему не раз предлагали квартиру в Москве, но он отказался покинуть остров. В 1941 году, как раз накануне Великой Отечественной войны, на экраны нашей страны вышел документальный фильм о Бугайском. Последний из могикан сахалинской каторги, он скончался в 1944 году, и в Михайловке его именем названа центральная улица.
Теперь Сахалин украшен многими памятниками. И тем, кто пал на этой земле, «замучен тяжелой неволей», и тем, кто пал за эту землю – в жестокой борьбе с японскими захватчиками.
Славную историю Сахалина издавна омрачала каторга! Скажем честно: освоением Сахалина мы, русские, вправе гордиться, зато каторга Сахалина – это позорная страница сахалинской истории, однако изучать ее все-таки следует.
Царизм вложил в создание сахалинского «рая» колоссальные средства, ожидая притока неслыханных прибылей, но… министрам было стыдно докладывать о результатах колонизации:
– Ваше величество, Сахалин представил на Нижегородскую ярмарку свои природные экспонаты: полозья для саней, одну кустарную сковородку, деревянное ведро, доску для игры в шахматы, набор обручей для бочки, дверные петли, защелки для окон, набор сапожных шил, три лопаты и… простите, два утюга,
– И это все? – грозно вопросил Александр III.
– Увы! Пока все…
Почти ничего не давая стране, каторга за каждый шаг в тайге, за каждый мешок угля, за каждую сосновую шпалу взимала с людей страшный подоходный налог – кровью, страданиями, жизнями. А. П. Чехов записал рассказ о смотрителе Викторе Шелькинге, который сотню человек довел до самоубийства. Онор остался для Сахалина слишком памятен. Настолько памятен, что Антон Павлович желал бы его забыть – так ужасна была «онорская» каторга! От Рыковской тюрьмы через непролазные дебри каторжане прокладывали дорогу на юг
– к заливу Анива, а где-то среди буреломов затерялось это гиблое место – Онор! Здесь с утра до ночи свистела плеть палача, конвоиры прикладами ломали людям ребра и руки, выбивали им зубы. Ослабевших пристреливали, а если агония замедлялась, человека добивали даже не пулей, а палками. Арестантов так обкрадывали на Оноре, что они молились на хлебную пайку, как на святыню, они пожирали мох под ногами, грызли кору деревьев, каторжане выли по ночам, облепленные тучами комаров, наконец, на Оноре началось людоедство…
Когда Ляпишев явился на Сахалин губернаторствовать, он еще застал в живых отмирающие реликты этого дикого прошлого, эти страшные уникумы сахалинской каторги. Уже освобожденные от работ, заросшие седыми патлами, битые-перебитые, забывшие всех своих родственников, старики Онора сидели на кроватях сахалинской богадельни, не скрывая, что питались человечиной:
– Ну, кушал, да… так и што с того? Бог простит. Тоже ведь мясо. Наткнешь на палочку, у костра и поджаришь. Потом ел. Не мой то грех, а тех, кто довел меня до греха… Теперь чего уж там вспоминать? Одно слово – каторга!
Сахалин по размерам вдвое больше иного европейского государства, его политический строй – тюремнокаторжный, а надо всем этим «государством» доминировала тюрьма, забиравшая у людей не только их физическую силу, но даже таланты и знания. Если ты ничего не знаешь и ничего не умеешь, будешь копать канавы, валить деревья, таскать бревна, чистить нужники. Но в тюрьмах работали кузнечные, слесарные, мебельные, переплетные мастерские, в которых иногда создавались подлинные шедевры – для начальства, для продажи, просто для души. Захудалый инженер, в России мостивший улицы или чинивший водопроводы, попав на Сахалин, мог сделаться автором грандиозных проектов, осуществить которые можно было лишь в условиях каторги.
Каторга не умела ценить время, она никогда не щадила людей. По этой причине каторга бралась осуществить любой проект – хоть полет из пушки на Луну, лишь бы занять людей работой, пусть даже бессмысленной. Отсюда и возникали на Сахалине идеальные просеки, вдоль которых гнили скелеты в кандалах, но тайга тут же губила усилия людей, и об этих просеках забывали. Сооружались диковинные каланчи, с высоты которых нечего было высматривать. Это в России, где труд оплачивался деньгами, не станут просто так, за здорово живешь, проделывать дырку в скале, а Сахалину безразлично – к чему эта дырка и куда она приведет. Начальству хочется иметь дырку – и вот на Сахалине появился грандиозный туннель, в котором никто не нуждался. Он, правда, сокращал расстояние от Алексавдровска до шахт Дуэ, но люди погибали в нем во время прилива, когда туннель захлестывало море… Зато тратить силы с выгодой для себя, с прибылью для государства Сахалин тогда не умел. Рыбу ловили не удочкой, а руками; невод каторжанам заменяла простая рубаха – и при таком изобилии рыбы завозили селедку из Николаевска, а каторга так и не освоила метод засаливания рыбы. Миллионы тонн зернистой икры выбрасывали на свалку как ненужные отходы. К икре здесь относились даже с отвращением, считая ее негодными потрохами. Правда, гиляки икру ели, делая из нее своеобразный салат – пополам с малиной и клюквой. А русские хозяйки иногда жарили «икрянки» (оладьи из картофеля с икрою). Но готовить икру не умели и не хотели. Редко кто из сахалинцев запасал бочонок икры на зиму. Так же и с хлебом! Люди каждый год пахали и сеяли, а хлеб клянчили у России его закупали даже в Америке: своего не было. Как у бедняков Ирландии, главным украшением сахалинского застолья была картошка…
Каждый сахалинец, даже работящий и непьющий, оставался должен казне сорок-пятьдесят рублей. Каждый из них понимал, что, если не построит хибару, если не засеет поле, каторга не отпустит его на материк – никогда. Поэтому осенью когда урожай бывал собран, поселенцы изо всех сил старались доказать властям, что они свои закрома доверху засыпали хлебом. Обычно в ту пору по деревням и выселкам разъезжали чиновники-бухгалтеры, составлявшие смету для губернатора – об успехах в землепашестве. Поселенцы заранее накрывали стол с выпивкой, староста держал наготове взятку. Суматошной толпой бедняги обступали чиновника.
– Ты уж не подгадь… пиши! – взывали они, чуть не падая на колени. – Пиши, что мы сей год с плантом управились. Урожай-то – аховский! Так и пиши, не стыдись: мол, засеяли пять пудиков, а собрали все полтораста.
– Жулье! – ярился чиновник, оглядывая стол с закусками, а заодно озирая и румяную Таньку, кусающую край платочка. – Да ведь сами с голодухи пухнуть и околевать станете… Где эти ваши полтораста пудов, если с каждого из вас портки валятся! Да и с меня за эти приписки потом взыщут.
– Пиши! – кричала толпа, выдвигая вперед ядреную Таньку. – Потому как без твоих приписок нам света божьего не видать, здесь и околеем. А мы уж, сокол ясный, постараемся: какую хошь девку для удобства твоего ослобоним. Знай наших!
Староста уже активно распоряжался:
– Танька! Теперь твоя очередь… в прошлом годе от Петрищевых девку брали, а ныне ты постарайся для обчества. Чтобы, значит, подушки взбивать для господина бухгалтера.
Танька закатывала глаза:
– Охти мне! Да ведь Степан-то меня приколотит.
– Не, – говорили поселенцы, – не посмеет. Потому как ты не для себя, а для обчества. А мы Степану за это бутылку поставим, чтобы он не мучился… Тащи подушки в избу!
В губернской канцелярии, изучив смету, гражданский губернатор Бунте оставался очень недоволен ее результатами. Ему давно уже пора бы получить Анну на шею, а тут эти негодяи не могли для развития его карьеры собрать урожай побольше.
– Почему так мало? – негодовал Бунте. – Из Петербурга вправе спросить: ради чего мы тут сидим? Как хотите, господа, но в этой смете придется нам приписать лишку…накинем пудиков! Иначе, чего доброго, и нашу каторгу прикроют.
Ляпишев подмахивал бумагу своей подписью, заведомо зная, что в ней ни слова правды, и это несусветное вранье о небывалых достижениях колонизации Сахалина отправлялось в далекую столицу. А там солидные бюрократы восхищались:
– Смотрите, какие наглядные успехи достигнуты нами! В прошлом году урожай был сам-пятнадцать, а ныне уже сам-двадцать. Вот вам и каторга! Прямо чудеса там творят, да и только… В самом деле, наша колонизация приносит удивительные плоды!
Этим сановникам из Главного тюремного управления было не понять, почему губернатор Сахалина вскоре же станет просить, чтобы прислали хлеба, ибо население голодает. Вот тут бы и показать им деревенский стол с убогими закусками да вывести бы перед ними стыдливую Таньку, страдавшую ради «обчества»…
Русские ученые – вслед за нашими моряками – проделали большую работу по изучению богатств Сахалина, и за рубежом следили за их трудами более внимательно, нежели мы думаем. «Черная жемчужина» отражала в своей глубине благородно мерцающий отблеск сокровищ, что затаились в недрах острова.
Судьба сахалинского угля сложилась трагично! Угольные копи Дуэ снабжали топливом эскадру в Порт-Артуре, корабли Сибирской флотилии, порт Владивостока, паровозы Уссурийской железной дороги. По своим превосходным качествам сахалинский уголь мог бы соперничать с донбасским, местами встречался и антрацит – тяжелый, как самородки золота, почти не пачкавший рук. Сотни каторжан угробили свою жизнь в штреках копей Дуэ, но уголь год от года становился хуже. В чем дело? Дело в подневольном труде, а каторге безразличны его результаты. Потом уголь брался лишь сверху, какой попадется, а на больших глубинах, где он был высокого качества, выработка прекращалась. Арестант наломает тонны любой породы, лишь бы в конце дня не миновала его миска казенной баланды… Заезжие геологи в ужасе наблюдали, как на отвалы из шахты уголь поступая пополам с пустою породой, которая способна лишь забивать пламя в котлах. Капитаны кораблей, бункеруясь на Сахалине, разносили по свету молву о слабом горении русского угля. Между тем в Японии знали истинное положение в Дуэ, адмирал Того дальновидно рассуждал:
– Наши японские угли не выдерживают конкуренции даже с дурными австралийскими, даже с китайскими, а Сахалин может дать уголь не хуже британского кардифа, и в будущем, я надеюсь, наш флот должен ходить на сахалинских углях. Наконец, сейчас, когда для мира уже назревает проблема жидкого топлива, мы должны заранее подумать об источниках сахалинской нефти…
Легенды о нефтяных болотах, в которых увязали олени и медведи, давно блуждали по Сахалину, гиляки иногда привозили в Николаевск бутылки с подозрительной «керосин-вода». Лейтенант русского флота Григорий Зотов первым застолбил нефтеносные участки на севере острова. Проламывая стенку казенного равнодушия, он не прочь был, кажется, соперничать с самим Нобелем, но ему всюду отказывали в поддержке «по причине занятости соответствующих должностных лиц». Объяснение отказа – прямо как у Салтыкова-Щедрина («а на дальнейшее сказано: посмотрим!»). Лейтенант Зотов навестил Петербург, где Нобель чересчур настойчиво набивался ему в компаньоны.
– Без меня вы разоритесь сами и разорите свою семью. Да, нефть сулит большие прибыли, но прежде она забирает гигантские расходы… Все равно, – пригрозил Нобель, – стоит Сахалину брызнуть первым нефтяным фонтаном, и ваша нефть сразу же станет моей. Не верите, господин лейтенант?
– Не запугаете! – обозлился Зотов. – Я бухаю в нефтяные скважины свои личные средства, но сахалинскую нефть не считаю лично своей, потому что, верю, со временем она будет принадлежать только русскому народу, только моей отчизне…
Еще недавно, в 1950-х годах, в Москве проживала его дочь – Зоя Григорьевна Зотова-Гамильтон; она рассказывала:
– Отец, имея от моей матери немалое приданое, мог бы жить в свое удовольствие, как жили тогда все богатые люди, но он разорил себя и разорил нас, осваивая как раз те места, где сейчас выросли вышки города сахалинских нефтяников – О х а!
…"Черная жемчужина» Сахалина таила роковой блеск.
В жизни каждого поколения каторжан выпадает хоть одна амнистия, дающая им свободу. Коронационные торжества Николая II в 1896 году избавили Сахалин от «помилованных», которые убрались на материк, а теперь каторжане с обостренным интересом следили за приростом в доме Романовых, ибо появление наследника престола сулило новую амнистию. К сожалению, императрица Александра Федоровна родила четырех дочерей подряд, и каторга с возмущением крыла царя на все корки:
– Да что он там не может справиться со своей Аляской? Нетто не может поднатужиться, чтобы наследника сварганить? Что же нам? Так и подыхать тут, ежели у них одни девки лезут!
Грамотные прикидывали «табельные» даты в истории монархии, возлагая надежды на амнистию никак не ранее 21 февраля 1913 года. Безграмотные спрашивали грамотеев:
– А что будет-то в этот день?
– Трехсотлетие царствующего дома Романовых.
– Ну-у… нам не дотянуть. Сдохнем!
Каторга все-таки дождалась рождения наследника, но это случилось еще в том году, когда сахалинцам было не до праздников – даже не до амнистии… Сахалин подстерегала беда.
1. «САХАЛИН – ЭТО КАРФАГЕН!»
Аппетиты японских самураев уже выразил профессор Томидзу, предрекавший три войны с Россией: «В первой войне нам нужно дойти до Байкала, во второй войне с Россией мы водрузим знамена победы на высотах Урала, но будет еще и третья война, когда наша кавалерия напоит лошадей водою из Волги!» В самом низу газетной полосы «Ници-Ници», среди рекламных объявлений и фотографий популярных гейш в траурных рамках, трудно было заметить зловещий призыв: «Вперед же, пехотинцы Ниппона, вперед и вы, кавалеристы Страны восходящего солнца!»
Переговоры между Токио и Петербургом продолжались, когда в клубе господ выступил японский банкир Шибузава:
– Если Россия будет упорствовать в нежелании идти на уступки, если она заденет честь нашей страны, тогда даже мы, миролюбивые банкиры, не будем в силах долее сохранять терпение, и все мы выступим с мечом в руках!
Русская дипломатия размахивала над столами политических конференций оливковой ветвью, а русская армия еще хранила меч в ножнах. Между тем наши чересчур удалые аферисты, камергеры и статс-секретари его величества рубили лес в Корее на берегах Ялу, а где лес рубят, там и щепки летят… Положение осложнялось, и тут на Дальнем Востоке появилась очень живая, выразительная, противоречивая и отчасти попросту бестолковая фигура военного министра – генерала Куропаткина.
Если бы славу можно было выиграть по лотерейному билету наверное, их скупали бы целыми пачками, не жалея денег: как же, это ведь слава – не фунт изюму…
Куропаткин выиграл в «лотерею» все, что другие люди добывают трудом, мышлением, героизмом, пролитием крови. Обладая славою ординарца Скобелева, умея понравиться царю, он быстро поднялся ввысь. Мещанин во дворянстве, подобно бойкому журналисту из провинции, военный министр, любил щеголять хрестоматийными фразами о том, что Карфаген должен быть разрушен, а мавр сделал свое дело, не забывая при случае помянуть и гоголевскую вдову, которая сама себя высекла. Появясь на Дальнем Востоке, министр не посмел уничтожить лесные концессии на реке Ялу, форты Порт-Артура он назвал неприступными твердынями и наметил посещение Сахалина, говоря при этом:
– А за этот островной Карфаген волноваться не стоит. Пусть только кто попробует сунуться – с нами крестная сила!
Михаил Николаевич Ляпишев срочно созвал совещание ближайших советников
– как военных, так и гражданских, просил усилить бдительность, стараться, чтобы ссыльные не докучали высокому гостю подачею прошений лично в руки министра:
– Алексей Николаевич славится добрым сердцем, он человек отзывчивый на любое страдание, но все-таки не стоит его деловой визит обращать в процедуру принятия прошений…
Александровск охватила предпраздничная суматоха, каторжане воздвигали возле тюрьмы триумфальную арку с трогательной надписью «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»; дамы спешно готовили новые туалеты.
– Михаил Николаевич, а бал… дадите нам бал?
– Дам, душеньки, дам! Как же можно оставить вас без бала, если Сахалин посещает столь значительная персона.
В лавках Александровска появились рахат-лукум и апельсины; дамы бегали в магазин примерять модные шляпы, офицеры гарнизона покупали хрустящие портупеи, меняли на погонах поблекшие звездочки на новенькие – блестящие. Постояльцам тюрем и карцеров было в эти дни объявлено, что в честь визита военного министра Куропаткина будут варить рис, а не картошку, обещали дать суп с мясом, и все шесть тюрем Сахалина взволнованно гудели голосами изголодавшихся людей:
– Почаще бы наезживали к нам… всякие! А то ведь с этой тухлой кеты да с гнилой картошки уже пухнуть стали…
Куропаткин прибыл! В его честь был выстроен почетный караул, Ляпишев – как военный губернатор – отдал ему деловой рапорт, приняв который министр соизволил указать:
– У вас не застегнута пятая пуговица сверху.
– Извините, я взволнован.
– Ничего, бывает…
Военный оркестр сыграл бодрый короткий туш. Куропаткин обходил шпалеры войск гарнизона, ряды надзирателей тюрем и солдат конвойных команд, незаметно шепнув адъютанту:
– Ну и рожи! Словно переодетые каторжники…
Парадная тройка с бубенцами уже стояла наготове. Куропаткин уселся подле Ляпишева, любезно козыряя в сторону дам, кричавших ему «ура». Министр с удовольствием обозрел массивную фигуру ямщика, опоясанную малиновым кушаком.
– Ямщик-то у вас, Михаил Николаевич, какой внушительный. Так и кажется, что сейчас лихо гикнет и помчит нас к московскому «Яру», чтобы мы до утра слушали цыганок.
– Таковым и был на Москве, – отвечал Ляпишев. – Отвозил купцов к «Яру», а потом шестерых зарезал в Сокольниках.
– Ай-ай, кто бы мог подумать!
– Зато большие деньги взял, – дополнил свое пояснение Ляпишев, отчасти уже проникнувшись настроениями каторги…
Вечером на улицах было устроено гулянье; средь публики сновали лотошники, продавая орешки и кулечки с карамелью; детвора глазела на леденцовые петушки; мужчины воровато приценивались к штучным папиросам. Среди бушлатов каторжан и армяков ссыльнопоселенцев резко выделялись господа, прилично и модно одетые, все в котелках, при тросточках, у иных же напоказ были выпущены на животы цепочки от золотых часов.
– Наверное, приезжие? – спросил Куропаткин.
– Какое там! – отозвался Ляпишев. – Майданщики из местных. Отбрякали свое «браслетами», теперь лавочки содержат, бани семейные, где своруют, где приторгуют… Здесь страна парадоксов, и все, что видите, это как декорация в балагане.
Для министра было устроено учение пожарных. Сначала они зачем-то с небывалым проворством разломали соседний забор, произвели маневры с приставлением лестниц к стенам домов, прыгали с крыши на крышу, как гимнасты в цирке, а в конце учения дали напор на шланги. Куропаткин подивился их бодрости:
– Сразу чувствуются мастера своего дела! Где вы, Михаил Николаевич, набрали таких ловких пожарных?
– Из числа каторжан, осужденных за поджоги… Тут принцип четкий: если умеешь поджечь, сумеешь сам и потушить.
В саду губернатора разместился хор сахалинских каторжан. Солист, выступив вперед, отличным голосом исполнил начало: Много за душу твою одинокую, Много людей я сгубил. Я ль виноват, что тебя, черноокую, Больше всей жизни любил.
Хор убийц и грабителей разом открыл пасти, могучими басами он поддержал солиста добрым припевом:
Эх, будешь ходить ты, вся золотом шитая, спать на парче и меху.
Эх, буду ходить я, вся морда разбитая, спать на параше в углу…
Кажется, военному министру на Сахалине понравилось. Хотя бы потому, что с такой экзотикой он еще никогда не встречался. Ему захотелось сделать Ляпишеву приятное, и, он сказал:
– Наверное, даже Иисус Христос, будь он назначен губернатором в Иерусалиме, не смог бы так угодить Пилату, как угодили вы мне своим управлением на Сахалине… Хвалю, хвалю!
Адъютант тут же достал карандаш, сделал запись в блокноте. Теперь послужной список Ляпишева будет украшен выразительной фразой: «В мае 1903 г. удостоен похвалы высшего начальства».
Серьезный разговор начался между ними, когда все фейерверки погасли, а улицы Александровска опустели, сразу сделавшись мрачными, жуткими, почти зловещими. Ляпишев, наверное, был неплохим юристом, но большой профан в военных делах. Однако даже он начинал чувствовать, что назревают события, которые сейчас еще трудно предвидеть. Он сказал Куропаткину, что сооружение Великого Сибирского пути еще не завершено до конца: эшелоны через Байкал переправляются на паромах.
– Сейчас, как мне говорили, поезд от Челябинска до маньчжурского Ляояна тащится двадцать суток. Если японцы и начнут войну с нами, они постараются начать ее еще до того, как мы закончим прокладку круговой Северобайкальской дороги. Среди офицеров сахалинского гарнизона поговаривают, что лучше сразу эвакуировать войска из Маньчжурии, нежели залезать в войну, к ведению которой ни армия, ни флот России не готовы.
– Мы готовы! – бодро отвечал Куропаткин. – Да и не посмеет крохотная Япония задеть великую Россию. Как и с какими глазами мы можем уйти из Маньчжурии, если только на создание города Дальнего нами расходовано девятнадцать миллионов рублей, а ведь строительство еще только начинается… Покинуть сейчас Маньчжурию – значит расписаться перед всем миром в слабости русской армии и русского флота. Я не пророк, – сказал Куропаткин, – но смею утверждать, что один наш солдат выстоит в бою противу пяти-десяти японских мозгляков.
– Дай-то бог, – согласился Михаил Николаевич.
– Нежелательные настроения в сахалинском гарнизоне следует решительно пресекать, – наказал Куропаткин. – Если мы гордимся неприступностью такого Карфагена, как Порт-Артур, то вам-то, сахалинцам, чего бояться? Сахалин отгорожен морем, он не имеет рокадных дорог, зато одни ваши комары да болота чего стоят… Да ведь Сахалин – это тот же Карфаген!
– Однако, простите, комары на болотах обороны не построят. В нашем каторжном Карфагене, – уныло отвечал Ляпишсв, – всего четыре пушки времен царя Гороха, которые я хоть завтра согласен отправить в музей. О пулеметах мы даже не мечтаем.
– Михаил Николаевич, – сразу оживился Куропаткин, – вы заставили меня вспомнить ту гоголевскую вдову, которая сама себя высекла… Как можно даже помышлять о нападении японцев на Сахалин, если мы, случись война, сразу же свяжем их по рукам и по ногам удалецким боевым натиском у берегов Японии… Им ли будет до вашего Сахалина, где каторжники даже без помощи гарнизона исколотят их всех своими кандалами!
На следующий день разговор был продолжен. Куропаткин нехотя коснулся январских совещаний в верхах, когда министры царя высказались за modus vivendi – временное соглашение, пока не выработан долгосрочный договор. Дипломаты при этом указывали, что все последнее время Япония ведет себя с нарочитой заносчивостью, почему нам, русским, не следует раздражать Токио излишней боевой бравадой. США и Англия давно и очень активно натравливают японцев на Россию, а Россия – увы! – остается пока что в политическом одиночестве. В сентябре 1903 года решено вывести войска из китайского Цицикара, но… – …не приведут ли эти уступки к потере престижа русской военной мощи? В нашем правительстве, – рассказывал Куропаткин, – немало людей, искренно желающих войны с Японией. По их мнению, маленькая победа на полях Маньчжурии способна предотвратить большую революцию в самой России.
Михаил Николаевич ответил министру, что в любом случае он, как военный губернатор, обязав заранее озаботиться обороною острова – независимо от того, будет война или нет.
– Пожалуйста! – согласился Куропаткин. – Согласуйте свои планы обороны с планами приамурского генерал-губернатора Линевича и присылайте прямо в Петербург… мы их немедленно рассмотрим. Поправим, если надо. Наконец и – утвердим!
– Простите, Алексей Николаевич, – скромно заметил Ляпишев, – но, как бы ни был хорош план обороны, он полетит к чертям, если оборону не подкрепить людьми и боевой техникой.
Очевидно, Куропаткину это прискучило:
– С такими вопросами лучше всего советоваться вам с Линевичем, который поделится с вами амурскими резервами…
Ляпишев не стал утомлять министра дальнейшими рассуждениями, и вечером Куропаткин открыл бал в паре с госпожой Слизовой, которая обомлела от такого внимания. Музыканты из каторжан, укрытые от публики ширмою, оглушали танцевальный зал клуба тревожными всплесками старинного вальса; в воздухе кружилось нарядное конфетти, осыпая оголенные плечи кружившихся в танце женщин, взлетали упругие кольца серпантина, а в бокалах сахалинской элиты вспыхивало золотистое шампанское.
– Хорошо живете! – восторгался Куропаткин. – Вот уж не думал, что на каторге возможна такая веселая жизнь…
Он готовился к отъезду в Японию, мечтая там предаться любимому занятию
– посидеть на берегу с удочкой. Последние дни пребывания министра в Александровске были посвящены церковным службам, посещениям казарм и музея. Как ни пытались местные власти оградить министра от подачи прошений на его имя, все равно – где бы он ни появился, за ним постоянно тянулся длинный хвост людей с бумагами в руках. Стоило в оцеплении министра появиться лазейке, как в нее моментально проныривал либо жалобщик, либо индивидуум из породы вечных искателей правды. Вот и сегодня Куропаткина настиг какой-то мужичонка, назвавшийся Корнеем Земляковым:
– Ваше… ваше сяство, окажите милость. Прошеньице у меня до вас. Не откажите в своем усердии.
– О чем просишь, братец? – вежливо спросил министр.
– Потому как четвертый год маюсь. Все есть, слава богу. Скотинка своя. Двор поставил. Все бы хорошо. Только вот начальство до сих пор бабу не выделило для обзаведения.
Куропаткин пожал плечами:
– Извини, братец. Я ведь военный министр и в каторжных делах ничего не смыслю. Где же я тебе бабу достану? Но поселенец Земляков от него не отставал:
– Потому как вы столичными будете, законы всякие изучили. Не обижайте. Я ведь не то чтобы так. Я ведь свое прошу.
Куропаткин, чтобы отвязаться, сказал адъютанту:
– Прими от него бумагу, иначе не отстанет.
Адъютант взял у Корнея прошение, сложил его вчетверо, сунул в фуражку, а фуражку надел на голову:
– Принято! А теперь будь здоров, не мешай.
Корней Земляков, обрадованный, ушел. Прошу читателя не удивляться, если этот Корней станет нашим героем.
Наступил день прощания. Куропаткин покидал Сахалин, чтобы навестить Японию с визитом вежливости (и на все время его визита в японских школах запретили распевать антирусские песни, которые очень нравились детям своим красивым мотивом). На прощание военный министр сказал Ляпишеву:
– Ваши опасения за судьбу Сахалина напрасны, и вот почему. Существует международное право, в одном из параграфов которого ясно и четко сформулировано: местности, употребляемые для ссылки и наказания преступников, не могут являться театрами военных действий, не подлежат вторжению неприятеля и будут застрахованы от всяческих оккупации.
Тут в Ляпишеве проснулся знающий военный юрист:
– Все это было бы очень мило, – сказал он, – но только в том случае, если бы Япония признала этот параграф. Но японцы его не подписали, как бы заранее оставляя за собой право вторжения на Сахалин – в нарушение всяческих прав!








