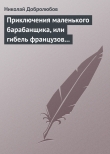Текст книги "Зина - дочь барабанщика"
Автор книги: Валентин Пикуль
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)
Пикуль Валентин
Зина – дочь барабанщика
Пикуль Валентин
Зина – дочь барабанщика
Если гравер делает чей-либо портрет, размещая на чистых полях гравюры посторонние изображения, такие лаконичные вставки называются "заметками". В 1878 году наш знаменитый гравер Иван Пожалостин резал на стали портрет поэта Некрасова (по оригиналу Крамского: со скрещенными на груди руками), а в "заметках" он разместил образы Белинского и. Зины; первого уже давно не было на свете, а второй еще предстояло жить да жить.
Не дай-то Бог вам, читатель, такой жизни.
В портретной картотеке у меня заложена одна фотография, которая – и сам не знаю почему? – всегда вызывает во мне тягостные эмоции: Зина в гробу! Ничего, конечно, похожего с той юной привлекательной женщиной, которую Пожалостин оставил для нас в своей гравюрной интерпретации. Давнее прошлое человека, отошедшего в иной мир, порою переживается столь же болезненно, как и нынешние наши невзгоды. Надеюсь, что историкам это чувство знакомо. Однако, как мало было сказано об этой Зине хорошего, зато сколько мусора нанесли к ее порогу! Если бы великий поэт не встал бы однажды со смертного одра и не увел бы ее в палатку военно-походной церкви, мы бы, наверное, вообще постарались о ней забыть.
Но забывать-то как раз и нельзя. Помним же мы Полину Виардо, хотя вряд ли она была непогрешима, безжалостно вырвав талант русского романиста с родных черноземов Орловщины, чтобы ради собственного тщеславия пересадить его на скудные грядки Буживаля, – но, если у нас любят посудачить об этой французской певице, то, по моему мнению, не следует забывать и нашу несчастную Зину – дочь безвестного русского барабанщика.
Некрасов провел всю жизнь среди врагов, распространявших о нем разные небылицы. Враги и завистники никогда не щадили его. Но даже любившие Некрасова не щадили ту, которая стала для поэта его последней отрадой. Пожалуй, только великий сердцевед Салтыков-Щедрин, всезнающий и всевидящий, сразу понял, что Зина появилась в доме Некрасова совсем не случайно, и он свои письма поэту заключал в самых приятных для нее выражениях:
"У Зинаиды Николаевны я целую ручки."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
У нас почти с восхищением листают "дон-жуанский список" Пушкина, насчитывающий более ста женских имен, а вот Некрасову, кажется, не могут простить его подруг, старательно и нудно пережевывая мучительный разлад с Авдотьей Панаевой. "Я помню чудное мгновенье" – эта строка, исполненная любовных восторгов, никогда бы не могла сорваться со струн некрасовской лиры, ибо его печальная муза скорбела даже от любви:
Бывало, натерпевшись муки,
Устав и телом и душой,
Под игом молчаливой скуки
Встречался грустно я с тобой.
Какое уж тут, читатель, "чудное мгновенье"?
Правда, любить Некрасова было не так-то легко, а женщины, которых любил он, кажется, иногда его раздражали. Одна хохотала, когда ему хотелось плакать, другая рыдала, когда он бывал весел. Одна требовала денег, когда он сам не знал, как рассчитаться гонораром с кредиторами, а другая отвергала подарки, требуя святой и бескорыстной любви.
Можно понять и поэта – трудно иметь дело с женщинами!
Мы, читатель, со школьной скамьи заучили имя Анны Керн, а что скажут нам имена Селины Лефрен, Прасковьи Мейшен или Марии Навротиной, ставшей потом женою художника Ярошенко? Между тем они были, и были при Некрасове не как литературные дамы, желавшие поскорей напечататься в его журнале, – нет, каждая из них занимала в жизни поэта свое особое место. Но каждая свое особое место нагрела для другой и оставила его. Одни уходили просто так, разбросав на прощание платки, мокрые от слез, а одна умудрилась вывезти из имения поэта даже диваны и стулья, которые, очевидно, ей срочно понадобились для возбуждения приятных воспоминаний о былой страсти.
Перелом жизни – Некрасову было уже под пятьдесят.
Скажи спасибо близорукой
Всеукрашающей любви
И с головы, с ревнивой мукой,
Волос седеющих не рви.
На этом переломе времени, столь опасном для каждого человека, и появилась Зина – дочь солдата, полкового барабанщика из Вышнего Волочка; о котором мы ничего не знаем (и вряд ли когда узнаем). В ту пору она еще не была Зиной и не имела отчества – Николаевна, а звали ее совсем иначе: Фекла Анисимовна Викторова. Думаю, она нашла не только приют в доме Некрасова, но отыскался для нее и теплый уголок в стареющем сердце поэта. А рвать седеющих волос с его головы она не собиралась.
Анна Алексеевна Буткевич, любимая сестра поэта, в преданности брату которой нет никаких сомнений, сразу возненавидела эту Феклу, переименованную по желанию поэта. Сестра считала, что брат слишком доверчив, идеализируя подругу, которая только притворяется влюбленной, чтобы он не забывал о ней, когда придет время составлять завещание. Анна Алексеевна Буткевич даже утверждала, что дочь барабанщика стала Зинаидою не тогда, когда появилась под кровом брата, а еще гораздо раньше.
– По секрету, – сообщала она друзьям, – имя Зины эта особа обрела еще в том доме на Офицерской улице, где принято облагораживать имена всяких там Фросек, Акулек и Матрешек.
Впрочем, уже давно (и не мною) замечено, что сестра поэта – слова путного не сказала о Зиночке, а потому вопрос об Офицерской улице отпадает сам по себе. Николай Алексеевич уже прихварывал, а явная, ничем не прикрытая ненависть любимой сестры к любимой им женщине, конечно, никак не улучшала здоровье поэта. Обоюдная неприязнь женщин, одинаково дорогих для него, была мучительна. Чтобы не досаждать сестре, Некрасов еще в 1870 году, на заре своих отношений с Зиною, посвятил ей стихи, но само посвящение утаил в буквах: з-н-ч-к-е.
Остались ее фотографии тех лет. Зина была девушкой стройной, румяной, веселой, благодушной и скромной, с ямочками на щеках, когда она улыбалась. С ней было легко. Сенатор А. Ф. Кони, наш знаменитый юрист, увидев однажды Зину, сразу понял, что она глубоко предана поэту, и с ней поэту всегда хорошо. Иные же писали, что внешне Зина напоминала сытенькую, довольную жизнью горничную из богатого господского дома, которую гости не прочь тронуть за подбородок, сказав в умилении:
– Везет же этим поэтам. ах, до чего же хороша!
Нет, не думала она, входящая в дом Некрасова, о его завещании, не собиралась делить наследство поэта с его сестрами и братьями. Вряд ли она, безграмотная провинциалка, даже понимала тогда, что Николай Алексеевич не только богатый человек, но еще и поэт, имя которого известно всей великой России.
Ах, кому же из нас на Руси жить хорошо?
Некрасову хорошо никогда не было.
Работал, работал, работал – и хотел бы всегда работать!
В один из визитов А. Ф. Кони извинился перед ним, что редко навещает его – все, знаете ли, некогда, некогда, некогда.
Николай Алексеевич только рукою махнул:
– По себе знаю, что "некогда" – в нашем Питере слово почти роковое: всем и всегда некогда. Оглядываясь на свое прошлое, сам вижу, что мне всегда было некогда. Некогда быть счастливым, некогда пожить душой для души, некогда нам было даже любить, и вот только умирать нам всегда время найдется.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Авдотья Панаева в учении не нуждалась, образование же других подруг поэта не беспокоило, а вот для Зины он даже нанимал учителей, водил ее в театры, Зина приохотилась к чтению его стихов, случалось, даже помогала Некрасову в чтении корректуры. Николай Алексеевич вместе с нею выезжал в свою Карабиху, там Зина амазонкою скакала на лошади по окрестным полянам, метко стреляла. Поэт уже тогда начал серьезно болеть.
Помогай же мне трудиться, Зина!
Труд всегда меня животворил.
Вот еще красивая картина
Запиши, пока я не забыл.
Как бы Некрасов ни любил свою сестру, но ее побеждала все-таки она, последняя любовь поэта. "Глаза сестры сурово нежны", – написал однажды Некрасов, но потом эту строчку исправил и она обрела совсем иное значение: "Глаза жены сурово нежны." Обычно сдержанный в выражении чувств, Николай Алексеевич подарил Зиночке книгу своих стихов, украсив ее словами, которыми не привык бросаться: "Милому и единственному моему другу Зине". И она заплакала, прижимая книгу к груди:
– Ой! Заслужила ль я такие слова? Неужто "единственная"?
Некрасов болел, и, болея, он утешал ее как мог:
Да не плачь украдкой! Верь надежде,
Смейся, пой, как пела ты весной,
Повторяй друзьям моим, как прежде,
Каждый стих, записанный тобой.
Если бы это было правдой, что Зина досталась ему с Офицерской улицы, то вряд ли Некрасов стал бы при ней стесняться. Но он, напротив, оберегал Зину от каждого нескромного слова, и не раз так бывало, когда в застолье подвыпивших друзей начинались словесные "вольности", Николай Алексеевич сразу указывал на свою подругу, щадя ее целомудрие:
– Зинаиде Николаевне знать об этом еще рано.
Но уже открывалась страшная эпоха "Последних песен".
Некрасов страдал, и эти страдания были слишком жестоки.
Я не стану описывать всех его мук, скажу лишь, что даже легкий вес одеяла, даже прикосновение к телу сорочки были для него невыносимы, причиняя ему боль. Молодой женщине выпала роль сиделки при умирающем. Зина считала, что при каждом вздохе или стоне его она обязана немедленно являться к нему, и она – являлась! Но. как? Зина даже пела.
"Чтобы ободрить его, – вспоминала она потом, – веселые песенки напеваю. Душа от жалости разрывается, а сдерживаю себя, пою да пою. Целых два года спокойного даже сна не имела". Это верно: сна Зина не имела, а чтобы не уснуть, она ставила на пол зажженную свечу, становилась перед ней на колени и, упорно глядя на пламя свечи, не позволяла себе уснуть.
Вот когда родились эти трагические строки Некрасова:
Двести уж дней,
Двести ночей
Муки мои продолжаются
...
конец ознакомительного фрагмента