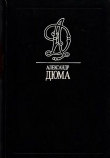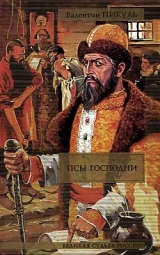
Текст книги "Янычары"
Автор книги: Валентин Пикуль
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
2
КТО СКАЖЕТ ПРАВДУ?
Сераль – и фантазия рисует гарем с одалисками, Диван – и нам представляется удобное ложе для отдохновения. На самом же деле Сераль – резиденция турецкого султана, а Диван – это его правительство во главе с великим визирем. Но султан Селим III был одинок в Серале, а в Диване видел сборище своих противников.
– Все мнят себя мудрецами, – жаловался он. – Но если все умные, то где взять дураков, чтобы пасли наших овец?…
Селим III, могучий ростом, был человеком очень сильным, ему бы впору бороться на улицах Стамбула ради «бакшиша», собираемого с ротозеев. На соревнованиях по стрельбе из лука султан не только поражал цель, но его стрела летела дальше всех (на 890 метров). Однажды, желая польстить ему, великий визирь Юсуф-Коджа назвал султана «Самсоном», и получил ответ:
– Если я и Самсон, то уже ослепленный неправдами этого мира, и не лучше ли сразу разрушить храм, чтобы под его обломками погибли и все вы… мои лживые рабы! Как не видел я ног у змеи, так не вижу и мудрости в людях…
Селиму исполнилось 28 лет. Лицо султана, источенное оспой, сохранило отпечаток той утонченной красоты, какой обладала и его мать Михр-и-Шах, украденная в Грузии для гарема отца; горячая грузинская кровь, сдобренная острыми приправами мусульманского фанатизма, часто управляла поступками султана. Впрочем, Селим III был достаточно образован и начитан; он писал недурные стихи; его влекло к мистике, музыке и поэзии. Империя досталась ему в развале хаоса военного, административного, финансового.
Своей любимой сестре Эсмэ он говорил:
– Если бы не война с русскими, мне было бы легче насытить голодных и усмирить недовольных. Но пока Екатерина режет громадный арбуз, мы никак не можем поделить свои жалкие орехи.
– Будь жесток, – поучала султанша брата, – и храни тебя Аллах от избытка слов, ибо сейчас в Стамбуле вязанка дров или ломоть лепешки важнее любых обещаний. Даже нищие устали слышать о наших бедствиях на Дунае… Наконец, избавь страну от визиря Юсуфа, живущего воровством и взятками.
Долгобородый Юсуф-Коджа начинал жизнь с того, что заваривал кофе для матросов, имея лавчонку на кораблях военного флота, а теперь… он и визирь, он и главнокомандующий, он и раб!
– Непойманный вор все-таки намного честнее вора пойманного, – отвечал Селим. – Да и где взять другого с такой длинной бородой, чтобы внушать почтение другим ворам?..
Со времен Сулеймана Великолепного (современника русского царя Ивана Грозного) все турецкие султаны обычно следили за работой Дивана через окошко, вырезанное в стене над седалищем великих визирей. Селим III первым нарушил эту традицию Османов, появляясь открыто – уже не мусульманское божество, а как живой человек, обладающий земной властью:
– Наше будущее осталось в прошлом, – объявил он министрам, – мы отстали от Европы не на год и не на два года, а сразу на полтора столетия, и, как во времена Сулеймана, наши пушки стреляют булыжниками. До сих пор наши книги переписываются от руки – страна не имеет даже типографии. Смотрите мне прямо в глаза, не отворачивайтесь… Я стану вас бить, и вы сами знаете, что битый ишак скачет быстрее небитой лошади… Где же ваша правда?
Правды не было. Один лишь колченогий шейх-уль-ислам, верховный муфтий Атаулла осмелился возразить султану:
– Ты решил оседлать муравья, чтобы, взобравшись в седло, возить на своих руках еще и верблюда… Не гневи Аллаха, о великий султан! Сначала ты раздавишь под собой бедного муравья, нашу империю, а тебе не удержать верблюда…
В воротах Баби-Гумаюн, ведущих к Сералю, перед Селимом высыпали из мешков гору ушей и носов, отрезанных у взяточников, казнокрадов, обманщиков и торговцев, обвешивавших покупателей. На базарах с утра до ночи истошно вопили купцы, уши которых были прибиты гвоздями к дверям их лавок, и эти гвозди из ушей им выдернут только завтра, чтобы наказуемый до конца жизни помнил: торговать надо честно!
Стамбул присмирел, словно мышонок при виде льва.
Облачившись в рубище дервиша, живущего подаянием, Селим III инкогнито появлялся на рынках, в канцеляриях и на фабриках, всюду требуя от людей честности. А телохранители, идущие вслед за султаном, тут же казнили обманывающих и ворующих. На одном из кораблей эскадры, когда отрубали головы офицерам, обкрадывающим матросов, палач султана, занеся меч, просил Селима посторониться, чтобы кровь не обрызгала его одежды.
– А кровь – не грязь, – отвечал Селим, и сам схватил казнимого за волосы. – Так тебе будет удобнее… руби!
Султанше Эсмэ он потом признавался:
– Только один час жестокого правосудия намного лучше ста часов смиренной молитвы.
Обращаясь к заправилам Дивана, султан возвещал: «Страна погибает. Еще немного – и уже нельзя будет ее спасти… мы должны положить конец злоупотреблениям чиновной власти. Я хочу, чтобы мне говорили правду, и только правду!»
Его навестил Татарджик-Абдулла-Эфенди, престарелый мулла из Румелии (так называлась европейская часть Турции).
– Великий султан, твои подданные работают с детьми и женами не для того, чтобы насытить себя, а едино лишь ради того, чтобы уплатить налоги, и не за тот год, в котором живут, а за полвека вперед, когда жить будут не они, а их внуки… Скажи, бояться ли мне своих слов, великий султан?
– Не бойся и говори, – разрешил Селим.
– Зато вельможи строят на берегах Босфора виллы-сахильхане, каких не имеют даже маркизы Парижа, они завозят к Порогу Счастья предметы роскоши, служащие соблазном для других, их окружают сотни бездельников и множество алчных евнухов, гаремы уже не вмещают невольниц, которые так и умирают девственны, ибо не хватает жизни для их искушения. Скажи, я еще не вызвал твоего гнева, великий султан?
– Не бойся. Смело выдави суть вещей из благоуханного сока житейской мудрости, – просил Селим богослова.
– Твоя казна пуста, а вельможи тратят награбленное на свои прихоти, они обвешивают одалык (одалисок) драгоценностями. Так прикажи им носить фальшивые камни, запрети покупать соболей и горностаев, ибо шерсть наших баранов и нежных ангорских кошек – не хуже иностранных мехов. К чему нам шали из Кашмира или шелка Лиона, если в Алеппо или в Дамаске ткутся прекрасные ткани? Наконец, султан, и налоги…
– Говори, мудрый эфенди, не бойся слов правды.
– Налоги таковы, что многие деревни стоят пустыми, люди разбегаются, согласные жить в странах неверных – в Сербии и в Мадьярии, даже в России. Нельзя постоянно угнетать славян, греков и прочих христиан, с которых берут по сто пиастров за воздух, которым они дышат. Священный шариат не велит взыскивать подати со стариков и нищих, а у нас платят даже слепцы, безногие и безрукие. Наконец, только у нас народ обложен налогом «на зубы» чиновникам, у которых во время еды стираются зубы… Я прогневал тебя, султан?
– Нет, эффенди. Я внимал тебя с открытым сердцем. Но что делать, если нам мешает эта война с Россией?
– Так закончи ее! – воскликнул Татарджик-эффенди…
Погруженный в мрачные мысли, Селим III удалился в Эйюб, что возвышался над синевой Золотого Рога, и, поникший, он продумывал услышанное – правда была слишком жестокой. Ему хотелось создавать новую армию европейского типа, чтобы она заменила старое и прожорливое стадо янычар, но…
– Казна пуста, – признался Селим. – И где добыть деньги? Как мне стать ножом, который бы не резал свои же ножны?
Первые Османы, его предки, подобными вопросами не терзались. Для пополнения казны имелось два верных способа. Первый: при обилии жен в гареме дети рождались часто, новорожденных девочек еще в колыбели объявляли невестами богатейших сановников, которые до наступления их зрелости вносили в казну колоссальные налоги на «содержание» будущих жен. Второй способ был еще проще. Все визири, живущие взятками, собирали громадные состояния, а султаны не мешали им воровать. Но, когда их богатство становилось чрезмерным, визирям отрубали головы, а все их имущество поступало в казну султана.
Не оттого ли в старину казна Османов не оскудевала?..
До покоев Эйюба долетал голос бродячего певца:
В тазу золотом разминаю я хну,
Зовите ко мне молодую жену…
Гарем Селима III оставался бездетен, а сестра Эсмэ заменяла ему всех женщин на свете. Именно для нес султан и выстроил Эйюбский дворец-киоск, щедро украшенный золотыми орнаментами, для нее порхали под сводами райские птицы. Красавица-султанша, под стать брату, была умна и тоже писала стихи. Заняв престол, Селим выдал ее замуж за своего фаворита Кучук-Гуссейна, человека крохотного роста («кучук» по-турецки значит маленький); Кучук был грузинский раб и товарищ детства султана.
Они встретились в Эйюбе втроем. Скинув туфли, мужчины сели, поджав ноги, на тахту. Невольники-нубийцы, опустясь на колени, разожгли им табак в длинных трубках. Султан сказал:
– Тебя, Кучук, я решил назначить капудан-пашой. – Это значило – быть «маленькому» адмиралом флота.
– Но я плавал не далее Родоса, – отвечал шурин, – и, делая меня капуданом, куда денешь старого флотоводца Хассана?
– Наш флот разбил неистовый Ушак-паша, пришло время звать корабли из Алжира и Туниса, а Хассака я пошлю на Дунай, пусть уговорит «одноглазого» (Потемкина), чтобы смирил ярость своего «Топал-паши», – последнее было сказано султаном о Суворове, который хромал после ранения…
Кучук-Гуссейн отвечал, что войска разбегаются:
– А наши янычары бегут с войны первыми. В таборе великого визиря стоит залаять собакам, как они бросают оружие и бегут прочь, крича, что русские их окружают.
– Да, – согласился Селим III, – янычары способны только хвастать, что перевяжут всех русских веревками. А на самом деле их на войну не дозовешься. Просишь четыре тысячи человек голов, но из казармы с трудом выманишь четыреста…
В беседу мужчин вмешалась Эсмэ:
– Не лучше ли помириться с Россией сейчас, пока Ушак-паша не стронул свои корабли к берегам Румелии? Куда нам бежать, если его эскадра бросит якоря напротив Сераля?
Селим сам хотел мира, но боялся мира постыдного:
– Молчи… женщина! – прикрикнул он на сестру. – Пока Измаил неприступен, империя остается непобедима. Я объявлю новый набор мужчин от четырнадцати до шестидесяти лет. Чтобы пополнить казну, я заставлю платить налоги уличных певцов и нищих столицы. От моих налогов не спасутся даже цыгане, которые привыкли шататься без дела. Наконец, христианским женам я велю появляться на улицах только в черных одеждах и босиком, чтобы, непричесанные, они громкими голосами выражали скорбь – на радость всем правоверным…
Длинные ресницы Эсмэ были загнуты и накрашены. Она взяла лютню и стала вслух импровизировать стихи:
Уеду от вас я в далекий Измир,
Где сладкий в садах вызревает инжир,
Где птицам подам я кормиться с руки,
А плакать уйду я на берег реки…
– Я женщина, но умнее всех вас, – вдруг сказала султанша, отбросив лютню. – Сразу как началась война с Россией, а русского посла заточили в Едикюле, я каждый день не забывала посылать ему от своего стола свежие фрукты.
– Зачем ты это делала? – строго спросил Кучук.
– Наверное, потому, что я всегда помню о страданиях вашей праматери-Грузии… Разве нам, сидящим в Эйюбе, дано оградить Тифлис от ужасов, которые несут грузинам алчные толпы персидского шаха Ага-Мохамеда, будь он проклят, этот кастрат!
Эсмэ вовремя вспомнила, что не так давно грузинский царь Ираклий II просил Петербург о покровительстве, и Екатерина II сулила грузинам защиту от варварских набегов. Но война на Дунае отвлекла русские войска от Кавказа.
Эсмэ сказала, что империя Осмалов нуждается в переменах.
– Реформы необходимы, – кивнул ей Селим. – Но мне легче проглотить железную лопату, нежели провести в жизнь эти реформы. Лучше пожалей меня, сестра, и, если янычары потащут меня на виселицу, ты не кричи мне вслед, чтобы я не забыл на обратном пути купить тебе новую юбку… Мне страшно!
День угас. Золото Эйюба померкло. Птицы уснули.
– Будем осторожнее с янычарами, не раздражая их новшествами, – тихо сказал Кучук-Гуссейн. – Чтобы измерить глубину колодца, не надо бросать в него ребенка. Я согласен. Пусть плывут к нам эскадры корсаров из Алжира и Туниса, чтобы разбить флот Ушак-паши, и пусть Хассан на Дунае договорится с Потемкиным о мире, столь нужном. Но Измаилу стоять вечно…
Да, молодой султан очень хотел бы разломать старое, чтобы на его обломках возрождать новое. Селим был человеком большой личной храбрости, а если кого и боялся, так, пожалуй, только одних янычар, которые уже не раз играли головами турецких султанов. К сожалению, Селим, всегда зная, что ему делать сегодня, никогда не знал, что ему делать завтра…
Было время начала Французской революции, когда князю Потемкину оставалось жить лишь два года, а императрице Екатерине Великой предстояло царствовать еще долгих семь лет.
Французская революция разбередила весь мир, и только у Порога Счастья оставались равнодушны, не понимая, почему возник такой шум из-за Бастилии, которая в понимании турок ничуть не лучше Едикюля (Семибашенного замка), в темницы которого они привыкли сажать на цепь иностранных дипломатов.
Королевский посол, Габриэль-Флоран граф Шуазель-Гуфье, известный археолог, изучал античные древности, исследуя места, воспетые еще Гомером, а революцию воспринял как национальное бедствие. Впрочем, высокообразованный человек, он никак не мог растолковать туркам, что такое «демократ», ибо в их произношении – демыр кыр ат – означало «белую железную лошадь».
Когда визирь находился при армии, в столице его замещал каймакам с правами визиря, а иностранными делами ведал реис-эфенди, Ахмет-Атиф, окруженный драгоманами-фанариотами, которые и подсказывали ему, как надо ругаться с франками.
– Если ваша Европа когда-нибудь и погибнет, – ругался реис-эфенди, – так только от того, что она много знает такого, чего нормальным людям знать совсем необязательно.
– Ваша правда, – не возражал посол. – Но если империя Османов и погибнет, то, наверное, только по той причине, что она постоянно воевала с Россией, никогда не желая видеть в ней могучую соседку, с которой полезно дружить…
Подобный упрек вызвал в реис-эфенди приступ ярости, и он попросту накричал на графа, как на мальчишку:
– Постыдитесь! Вся ваша беда в том, что мы всегда смотрели на Францию, как на единственного друга в Европе, и не вы ли, французы, толкали нас на войну с Россией? А теперь, когда у вас завелась «белая железная лошадь», вы советуете нам мириться с «одноглазым» и его «хромыми»…
Шуазель-Гуфье отвечал с учтивым поклоном:
– Франция перестала быть королевской, и советую вам мириться с Россией не как посол короля, а, скорее, как честный француз, умудренный опытом в дипломатии… Я не хотел вас обидеть! Просто мне стало известно, что Хассан-паша выехал на Дунай, дабы убеждать Потемкина в том же, в чем осмеливаюсь убеждать вас и я, посол несчастного короля!
Топал-паша (Суворов) уже одержал внушительные победы – при Фокшанах и Рымнике, и мир Селиму III был крайне необходим, чтобы приступить к обновлению своего государства. В конце беседы граф Шуазель-Гуфье утешил турок словами:
– Скоро вам станет легче! Я имею известие из Вены, что там желают выйти из войны с вами, и Потемкин, встретясь с Хассаном, смирит свою гордыню, ибо Россия, покинутая Австрией, останется в одиночестве, имея два фронта сразу: один на Дунае – против вас, а другой на Балтике, где шведские эскадры грозят пушками Петербургу и лично императрице Екатерине…
…1789 год заканчивался, . в этом году жители Корсики (тайком от французских властей) связались с русским послом в Париже, умоляя доложить императрице Екатерине о том, что корсиканцы согласны быть в русском подданстве, лишь бы избавиться от тягостной парижской опеки.
Тогда же генерал Иван Заборовский набирал на Корсике волонтеров, и средь прочих добровольцев, ищущих выгод от русской службы, заявился некий поручик Наполеон Бонапарт – угрюмый, взирающий хмуро, немногословный, скверно одетый и, очевидно, не каждый день обедавший.
– Желал бы служить короне российской, – сообщил он.
– Эге! – свысока отвечал Заборовский. – Да больно уж много вас таких, почему и указ мною получен, чтобы в службу российскую иностранцев всяких брать одним чином ниже.
Бонапарт не соглашался начинать жизнь в России подпоручиком, и Заборовский, рассердясь, указал ему на дверь:
– Коли вы столь высокого о себе мнения, так соизвольте не досаждать мне более своей персоною незначительной.
Наполеон Бонапарт, уходя, пригрозил генералу:
– Тогда я предложу свою шпагу султану турецкому!
– А по мне, – получил ответ, – так хоть дьяволу…
Много позже генерал И. А. Заборовский рассказывал:
«Не видать ли в сем случае движения Вышнего Промысла? Ведь указ о понижении в чине я получил дня за два до того, как Бонапартий сей явился ко мне… Опоздай указ на два дня, и я бы принял сего жалкого поручика в русскую службу тем же чином, а в двенадцатом годе Москве не гореть бы…»
Странный казус истории! С трудом даже верится.
Много позже Александр I, испытав поражение при Аустерлице и пережив позор Тильзита, говорил Заборовскому:
– Дернула же вас нелегкая отказать этому пройдохе в русской службе! Случись такое, и Европа никогда бы не знала императора Наполеона, а наша Россия имела бы еще одного скромного поручика артиллерии по фамилии Бонапарт…
3
В БОРЬБЕ ЗА МИР
Светлейший хандрил. Неприятно, что адьютант его Пашка Строганов – из графов! – замечен в числе штурмующих Бастилию, а рядом с ним была куртизанка Теруань де-Мерикур; теперь же этот Пашка из Парижа извещает отца в Петербурге: «Единого желаю – или умереть или жить свободным…»
– Во, щенок паршивый! – недоумевал Потемкин, ворочаясь на тахте. – Свободы ему захотелось. Чья бы корова мычала, а его бы лучше молчала. Вздумал на стенку лезть, коли перед нами свои Очаковы да Измаилы… чай, еще пострашнее!
Спать расхотелось. Зато вспомнилось нечто. За партией в пикет его Танька, племянница возлюбленная, от дядюшки отвратясь, ногою под столом пылкость свою молоденьким партнерам выражала туфелькой, и в гневе князь кликнул секретаря:
– Розог мне! Да вели Татьяну звать, чтобы явилась.
– Их превосходительство, – подобострастно отозвался секретарь, – уже изволят в галантном дезабилье пребывать.
– Тем лучше! Зови. Чтобы не мешкала…
Разложил превосходительную племянницу поперек тахты и усердно порол ее розгами, а она плакала, вскрикивая:
– Ах, дядюшка, ох, родненький, ай, больно, ой, за что?
Была племянница мягкая, упитанная, метресса зело сдобная, и потому не сразу об нее все розги переломались.
– Ступай вон, – распорядился светлейший.
Стал думать дальше. Очень неприятно, что великий визирь Хассан, бывший капудан-паша, недавно умер – ни с того, ни с сего, и, наверное, без отравы не обошлось. Потому мирные переговоры, едва начатые, прервались. А мужик-то был здоровущий, ранее (сам сказывал) лихо пиратствовал у берегов Алжира, винище хлебал не хуже православных… Поговорили о мире, выпили как следует, а он вдруг помер. «Еще подумают, что я отравил!» – похолодел Потемкин, пирата сего жалеючи.
Утром в ставку светлейшего заявился атаман Платов, с ним казачий конвой доставил янычарский оркестр, плененный при Рымнике – со всеми «погремушками», сваленными на телегу. Но даже сейчас, опутанные веревками, янычары еще рыпались, рыча в сторону неверных. Матвей Платов, молодой ухарь и пьяница, сказал Потемкину, что этих башибузуков отвозить до России боязно: они же по дороге до Тамбова весь конвой передушат. Потемкин велел пленных развязать:
– И пусть разберут с телеги громыхалы свои. Мне, братец, от Моцарта и Сарти скучно бывает, так хоть этих послушаю…
Сам взял медные тарелки, сдвинул их, с удовольствием выслушав звон, завершенный таинственным «шипением» меди.
– Ага! – сказал Потемкин, – Не эти ль турецкие тарелки и употребил Глюк в опере своей «Ифигения в Тавриде»?
Янычар развязали. Один из них засмеялся.
– Или ты понял меня? – спросил его Потемкин.
– У меня бабушка была… калужская.
– Это, небось, твои тарелки?
– Вот как надо! – И янычар воспроизвел гром, в конце которого загадочно и долго не остывало ядовитое «шипение»…
Янычары нехотя разобрали свои инструменты с телеги. Над их головами качался шест с перекладиной, на шесте висели, приятно позванивая, колокольчики. Придворный композитор Сарти еще не пришел в себя «после вчерашнего», а до Моцарта было далеко…
– Ну, – сказал светлейший, – теперь валяйте! Хотя бы свой знаменитый «Марш янычар»… не стыдитесь, ребяты.
Разом сомкнулись тарелки, заячьи лапы выбили первую тревогу из барабанов. Полуголый старик лупил в литавры с такою яростью, словно убивал кого-то насмерть. Звякали треугольники, подвывали тромбоны, звенели триангели и тамбурины. В это варварское созвучие деликатно (почти нежно) вплетались голоса гобоев, торжественно мычали боевые рога, а возгласы трубных нефиров рассекали музыку, как мечи. Янычары увлеклись сами, играя самозабвенно, словно за их оркестром опять двигались в атаку боевые, гневно орущие отряды «байранов»…
«Марш янычар» закончился. Платов спросил:
– Ну, дык што? Опять мне вязать всю эту сволочь?
Потемкин взял нефир, выдувая из него хриплое звучание.
– Не надо, – сказал он. – Лучше мы их покормим, дадим выспаться. А потом в Петербург поедут и пущай наши гудошники поучатся, как надо играть, чтобы кровь стыла в жилах от ужаса, чтобы от музыки шалел человек, не страшась ни смерти, ни черта лысого, ни ведьмы стриженой…[2]2
Впоследствии русская военная музыка многое переняла от оркестров янычар, вызывая самые воинственные эмоции в своих воинах. Недаром же в 1814 г., при начале штурма Парижа, русские оркестры играли на высотах Монмартра, и, услышав их оркестры, французы сразу выслали парламентеров. Наполеон однажды сказал, что русские солдаты побеждают благодаря музыке своих духовых оркестров .
[Закрыть]
По-хозяйски князь заглянул и в другую телегу, приподняв кошмы, и на него вдруг глянуло страшное, сплошь изрубленное лицо турецкого офицера.
– Ну и рожа! – сказал Потемкин. – Что с ним?
– Да вот, взяли, – пояснил Платов. – Рубился лихо. Мы его тоже не жалели. Думали, живьем не довезти – сдохнет…
Потемкин велел отвезти пленного в госпиталь:
– И накажите хирургам, чтобы вылечили. Ежели не поставят этого злодея на ноги, так я всех лекарей с ног на головы переставлю… Они меня знают, что шутить не люблю!
Вернулся в спальню, обвешанную персидскими коврами, завалился на тахту, обтянутую алым лионским бархатом. Думал.
– Жаль Хассана, жаль, что не успели помириться…
Опять Эйюб, опять звуки лютни в руках Эсмэ…
Известие о внезапной кончине Хассана было огорчительно для Селима III, и султан – как и Потемкин! – тоже подозревал отравление визиря, говоря сестре:
– Тут не обошлось без алмаза, растертого в мелкую пыль, которая умерщвляет человека, не оставляя следов от яда…
Между тем, переговоры на Дунае прервались, и Селим был горестно удручен. Турецкие султаны во всех затруднительных случаях привыкли советоваться с послами Франции, и сейчас султан тоже возымел желание видеть Шуазе-ля-Гуфье.
– Кучук-Гуссейн не спешит выйти в море, откровенно боясь, что его кораблям не справиться с эскадрой Ушак-паши… Что вы, посол, могли бы мне сейчас посоветовать?
Шуазель-Гуфье от советов явно воздерживался.
– Времена изменились! – уклончиво отвечал он. – Сейчас я лишь несчастный заложник взбунтовавшейся черни Парижа. Одно мое неосторожное слово, сказанное у вашего Порога Счастья, и моя бедная жена, оставшаяся во Франции, будет заточена в тюрьме Бисетра. В таких условиях я могу повторить лишь сказанное ранее: ищите мира с Россией, пока ее штыки сверкают на Дунае, и мы еще не видим их под стенами вашего Сераля.
– Может, вернетесь во Францию? – намекнул Селим.
– Я… боюсь, – честно сознался аристократ.
Смерть Хассана казалась дурным предзнаменованием. Лишенный советов от имени Франции, Селим III был вынужден внимать послам Англии и Пруссии, которые в один голос убеждали султана в том, что войну на Дунае следует продолжать, при этом англичанин обещал поддержку Сити, а пруссак говорил, что в Пруссии все готово для нападения на Россию:
– Шведский король и поляки поддержат наши благие намерения, чтобы загнать русских обратно – до гор Рифейских, до лесов Сибири, а вы, великолепный султан, вернете себе Крым, чтобы из тиши Бахчисарая грозить набегами Украине…
Голубой грунт потолка был украшен золотым небосводом, в стрельчатых окнах сияло солнце, отчего в арабесках вспыхивали причудливые картины, возбуждающие фантазию. Эйюбский дворец высился невдалеке от Сладких Вод столицы, и оттуда, со стороны ручьев Кяятхане, звучала музыка, но это была не воинственная музыка победителей-османлисов, а сладкоречивая музыка покоренных ими эллинов. В чередовании свирелей и лир игрался «хасапикос» – танец мясников, в котором угадывались мотивы давно погребенной Византии… Селим, натура художественная, невольно заслушался.
– Благодарю вас, – отвечал он послам. – Спешу обрадовать ваши кабинеты: я распорядился, чтобы алжирские и тунисские беи, подвластные моему Сералю, прекратили заниматься разбоем, их корабли уже плывут сюда, чтобы под флагом Кучука решить исход войны на Черном море.
– В этом случае, – поклонился британский посол, – лондонское Сити не оставит вас своим доброжелательным вниманием.
– Браво, браво! – воскликнул пруссак…
Но случилось то, чего на берегах Босфора не ожидали: шведский король первым из коалиции понял, что в Петербурге ему не бывать, и в августе 1790 года Россия – опять-таки победоносная! – принудила Швецию к миру. Антирусская коалиция потерпела крах, и в банках Сити мешки с золотом остались целы. Здесь уместно напомнить, что адмирал Горацио Нельсон не был еще знаменит и, залечивая тяжелую форму дизентерии, он пребывал на берегу в унизительном забвении, получая лишь половину жалованья, ибо своим отвратным характером и завистью к подчиненным немало испортил свою карьеру…
Селима III навестили дряхлые евнухи:
– Гаремные жены изнылись от тоски и даже стали роптать, отчего столь великий султан не навещает их для услаждения?
– Скажите им, – отвечал султан озлобленно, – чтобы забыли обо мне, пока я не развяжусь с русскими на Дунае…
Селиму было сейчас не до жен, а ропчущих всегда можно зашить в мешок и окунуть в ночные воды Босфора, – нет, теперь совсем иное занимало султана. Неожиданный мир между Россией и Швецией расстроил его планы, но в эти же дни Селима утешило известие из габсбургской Вены: Австрия соглашалась на сепаратный мир с Турцией, она выходила из войны, отдавая туркам сербский Белград – эти главные ворота в Европу, откуда турки много столетий подряд грозили Габсбургам; теперь эти дунайские «ворота» снова были в руках Турции…
Русский посол еще томился в темнице Едикюля!
Но в Константинополе, после заключения мира с Веною, вскоре появился австрийский консул. Нигде так не испугались французской революции, как в Вене, и потому консул сразу стал жаловаться на безобразное поведение французской колонии в Константинополе. Селим III, конечно, его не принял, считая Австрию «побежденной», и потому консул высказал свои обиды реис-эфенди Ахмету-Атифу:
– Накажи Аллах этих сумасбродных французов! – вопил консул. – Если вы не решаетесь снять им головы, так заставьте их снять со своих шляп хотя бы революционные кокарды, которые нам, австрийцам, противно видеть. Наконец, эти лавочники посадили «дерево свободы» и теперь, напившись вина, они отплясывают вокруг него свою бесстыжую «карманьолу», дергаясь членами в судорогах, словно стали припадочными…
Реис-эфенди дал консулу выговориться.
– Ах, дружище! – отвечал он с усмешкой. – Не забывайте, что Оттоманская империя – государство не христианское, и нам, мусульманам, безразлично, каковы поводы для безумия ваших единоверцев. Если франкам захотелось посадить «дерево свободы», так пускай сажают, лишь бы не забывали иногда поливать его. Да и что толку с этих значков на шляпах? Если франки завтра будут таскать на головах корзины для собирания винограда, так мы, османы, даже не станем их спрашивать, зачем им это нужно? Пусть поют и пляшут что хотят, а вы не утруждайте себя и меня подобными глупостями…
Ахмет-Атиф был пьяница, о чем Селим был извещен, но, сам любивший выпить, султан просил рейса выпивать не более ста драхм (одна аптекарская драхма составляла меру около четырех граммов). Выпроводив венского консула, реис-эфенди стал отмерять драхмы, словно аптекарь капли спасительного бальзама, но, чтобы вино получилось крепче, он растворил в нем комок едкой извести. Выпив, он сказал драгоманам:
– Это у франков рухнула королевская Бастилия, зато вечен и нерушим наш твердокаменный Измаил…
11 декабря 1790 года неприступный Измаил пал…