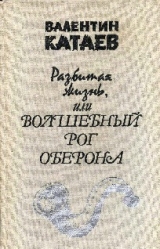
Текст книги "Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона"
Автор книги: Валентин Катаев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 41 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Дети капитана Гранта
Билеты в городской театр стоили дорого, в особенности кусались места в партере. Поэтому в те редкие случаи, когда мне удавалось попасть в театр, я всегда видел зрительный зал из боковых мест амфитеатра или даже галерки – глубоко внизу, косо, причем знаменитая электрическая люстра на грубо размалеванном потолке – гордость одесской городской управы – была совсем близко от меня – рукой подать! – большая, усыпанная светящимися жемчужинами, как корона, в то время как живописный занавес с изображением сцен из «Руслана и Людмилы» казался не больше цветной открытки, прилепленной боком над совсем крошечной рампой и суфлерской будкой величиной с небольшую рубчатую ракушку. В яме оркестра виднелись пюпитры, люди во фраках, музыкальные инструменты, перелистывались ноты, и оттуда взвивались вверх фиоритуры и гаммы настраиваемых инструментов – какофония звуков, взвинчивающая нервы и обещающая вскоре превратиться в страстную стройную музыку оперы.
Когда же свет в зале мерк и в темноте виднелись лишь фотографическо-красные фонарики над выходами из зрительного зала, и картина занавеса уходила куда-то вверх, я обыкновенно видел только переднюю часть дощатого пола сцены, выступы декораций и артистов в таком ракурсе, что все они были какие-то головастые, коротконогие и передвигались по сцене боком, как крабы, то и дело исчезая из поля моего зрения. Тут не мог помочь даже бинокль.
Но вот однажды на рождестве мы всей семьей отправились в театр на детский утренник по удешевленным ценам. Давались «Дети капитана Гранта», и тетя настояла, чтобы мы сидели, как все порядочные люди, в партере, в креслах, обитых бархатом, и даже не где-нибудь сзади, а в шестом ряду, что считалось большим шиком.
Я думаю, в глубине души тетя мечтала о ложе первого или второго яруса. О ложе бенуара или бельэтажа с зеркалом на косом муаровом простенке аванложи нечего было и мечтать.
Однако и шестой ряд партера было тоже неплохо.
Правда, наши места находились немного с краю, так что сцена была видна все-таки не на всю свою глубину, но совсем незначительно, так что это не раздражало.
…волшебное слово «утренник», от которого холодели руки, падало сердце и свежий крахмальный воротничок под стоячим воротником суконной гимназической куртки холодил шею, как ледяной…
Стояли трескучие морозы, редкие для нашего края, в театре было холодновато и пустовато, и я испытывал ни с чем не сравнимое чувство утреннего спектакля, когда в белых фойе стоял голубой дневной свет, проникавший сквозь высокие замерзшие стекла окон, а в зрительном зале царил парчовый электрический свет, и над ложами светились крупные удлиненные жемчужины матовых ламп, отделанных бронзой.
Одна из прелестей городского театра – как говорят, самого красивого европейского театра XIX века – заключалась в том, что в антракте между третьим и четвертым действиями медленно, очень медленно опускался и тут же снова поднимался особый, противопожарный железный занавес, раскрашенный под золотистую парчу с прямыми складками и тяжелыми шелковыми кистями, хотя под ними явственно ощущалась ребристость железа, которое где-то вверху, невидимо для зрителей накручивалось и раскручивалось, о чем свидетельствовали слегка рыжеватые от ржавчины продольные полосы. Спуск железного занавеса так занимал зрителей, что в антракте между третьим и четвертым действиями почти никто не покидал своих мест и буфет в фойе торговал плохо.
Буфет в фойе бельэтажа привлекал наше внимание и волновал, быть может, еще сильнее, чем действие на сцене. Нигде я не видел таких больших груш дюшес, от одного взгляда на которые рот наполнялся слюной, таких больших, обернутых серебряной бумагой шоколадных бомб с сюрпризами в середине, таких сводящих с ума пирожных, маленьких бутылочек лимонада – газес, которые стреляли своими пробочками, как пистолеты, а потом их горлышки с остатками проволочки слегка дымились, распространяя вокруг влажный, покалывающий запах лимона, наконец, не было ничего прекраснее театральных бутербродов, выставленных на прилавке буфета, в особенности маленьких круглых бутербродиков с блестящей, черной, как вакса, паюсной икрой по двадцать копеек за штуку, чего наше семейство не могло себе позволить.
Вообще цены в буфете были нам недоступны. Как некую легенду я воспринимал слух о том, что большая груша дюшес стоит здесь один рубль. Это было выше моего понимания и окружало театральный буфет каким-то сказочным ореолом.
С большим волнением мы прохаживались мимо буфетной стойки по как бы ледяной поверхности хорошо натертого штучного паркета фойе бельэтажа, боясь поскользнуться и не отводя восхищенных глаз от резного великолепного буфета, похожего на величественный орган, от всех лакомств и закусок, выставленных на его прилавке, от букетов искусственных восковых роз и папоротников, из-за которых выглядывало, отражаясь во многих зеркалах, лицо буфетчика, розовое, как лососина, на котором было написано некоторое презрение, относящееся ко всем зрителям, не имевшим средств, чтобы взять что-нибудь в буфете. Он как бы вскользь оглядывал нас, нашу одежду, наши башмаки, зная наверняка, что мы не подойдем к его буфету и ничего не купим. Здесь мы могли только бесплатно отражаться в громадных холодных зеркалах вместе с лепным гипсовым потолком.
…нет, вы только подумайте: одна груша – пусть даже дюшес – стоит один рубль. Грабеж среди белого дня!…
Рядом с нами в шестом ряду партера сидело еще одно семейство с девочкой моих лет в бархатном гранатовом платье с белым кружевным воротником, который до половины закрывал ее стройную, прямую спину. У девочки были распущены по плечам волосы, что делало ее в моих глазах похожей на русалку. От нее пахло одеколоном, и она от волнения все время мяла в руке маленький батистовый платочек. Башмачки на ней были белые, лайковые, на пуговицах.
Нечего и говорить, я сразу же почувствовал к ней сильнейшее любовное влечение, но так как я был с девочками робок и не осмеливался с ней заговорить, а она была высокомерна, то мы так с ней и не познакомились.
…что касается самой пьесы, то сюжет ее был всем нам хорошо известен, и мы не уставали удивляться, как это все хорошо, наглядно, красиво и убедительно выглядит на сцене: лорд Гленарван внушал почтение своим бритым длинным лицом с большими рыжими бакенбардами; Паганель в клетчатых панталонах, со складной зрительной трубой в руках то и дело спотыкался, падал, был очень рассеян и один раз даже надел на голову вместо своего тропического шлема дамскую муфту, что вызвало в зрительном зале бурю смеха и аплодисментов; подлец и негодяй Айртон вызывал дружное негодование… Индеец из длинного ружья выстрелил в летящего картонного орла, который нес в когтях фигуру картонного мальчика, кажется Роберта. Мы все боялись, что индеец промахнется и попадет в мальчика, но все обошлось благополучно. Орел был убит и упал за кулисы, откуда выбежал живой белокурый мальчик Роберт в бархатном костюме, так счастливо избежавший смерти…
…Держу пари, что это была переодетая девочка, даже скорее женщина!…
…Это все, конечно, волновало, но еще больше занимал меня вопрос: как все это делается на сцене? самая механика спектакля? И я делал вслух различные предположения, возбуждая недовольство соседей, шиканье в мою сторону и презрительные взгляды обольстительной девочки с распущенными волосами.
Но одна картина по-настоящему потрясла нас до глубины души – это когда герои попали в Патагонию, в антарктические льды, и неизбежно должны были замерзнуть среди нагромождения ледяных глыб, зловеще освещенных ртутно-белым полярным солнцем. Пресная вода и продовольствие кончились, топлива не было, ужасный мороз в сто шестьдесят градусов по Фаренгейту леденил дыхание, и не было топлива для костра, тем более что и спичек тоже не было.
Отчаянное положение, совершенно безвыходное!
Они сидели на сугробе, прижавшись друг к другу и поручив себя провидению, так как ничего другого не оставалось делать. Они замерзали на глазах у всего зрительного зала, а провидение медлило! В довершение всего громадный ледяной торос вдруг как-то странно осветился внутри магическим синим светом, и зрители ахнули, увидев во льду Смерть: самую настоящую, доподлинную Смерть с оскаленным черепом, в белом саване, с косой, занесенной над коченеющими героями.
"Как они это сделали?" – думал я в одно и то же время с ужасом и удивлением.
Казалось, все кончено. Провидение опоздало. И в этот самый миг вдалеке, за нагромождением полярных льдов на узкой полосе синей воды открытого океана вдруг появилась точка, превратившаяся в совсем крошечный фрегат, на всех парусах идущий на помощь погибающим путешественникам. Иногда фрегат удалялся за кулисы, а затем снова выплывал уже гораздо ближе, делаясь значительно больше. Потом он снова ушел за кулисы, и сейчас же выехал на первый план среди прибрежных льдов его нос в натуральную величину, с бушпритом, якорем и тремя надутыми кливерами – мал мала меньше.
«Ура!» – закричали погибающие и бросились в объятия своих спасителей, выскочивших из корабля на сцену. Неописуемый восторг охватил зрительный зал. Все кричали «ура», хлопали, хохотали, визжали. Это был настоящий триумф. А несчастной Смерти ничего не оставалось, как, взвалив на плечо свою бутафорскую косу, уйти за кулисы, путаясь в своем белом саване: видно, помощник режиссера забыл выключить синий свет в ледяной глыбе, так что бегство Смерти вызвало в зале прилив злорадного веселья.
Тут тетя, вытирая кружевным платочком невольные слезы, вынула из своей большой муфты коробку шоколадных конфет «от Абрикосова» и велела своему любимцу, маленькому Женечке, угостить соседей. Женечка, в коротеньких бархатных штанишках и длинных чулках, открыл коробку и, увидев много чудесных шоколадных конфет, посередине которых так аппетитно лежал оранжевый треугольник засахаренного ананаса, не сразу нашел в себе, силы приступить к угощению соседей.
– Ну что же ты, Женечка, угощай, не стесняйся.
Тогда Женя, посмотрев из-под своей мягкой челочки каштановыми невинными глазками, поднес открытую коробку красивой девочке и дрогнувшим голосом сказал: «Может быть, вы не хотите конфет?» – чем, в сущности, и закончился наш рождественский выезд в городской театр.
…о зимнее отражение вазы с яркими апельсинами в громадном – во всю стену – зеркале фойе бельэтажа! О маленькие бутерброды с паюсной икрой! О девочка-русалка!
Ловля воробьев
Среди мальчиков распространилась неизвестно откуда взявшаяся уверенность, что воробьев очень легко и просто ловить на водку: стоит лишь вымочить хлебный мякиш в водке и раскидать его кусочками во дворе или на полянке в тех местах, где они обычно собираются стаями.
Сейчас мне непонятно, для чего понадобилось ловить воробьев. Но тогда этот вопрос казался настолько ясным, что не требовал ответа.
Какой же мальчик откажется от возможности поймать живого воробья, а для какой цели – не имеет значения. Важен самый факт ловли. Это, если угодно, заложенный в каждом человеке древний инстинкт зверолова.
До этого простейшим способом ловли воробьев у нас в Отраде считался такой способ: из четырех кирпичей складывали на земле нечто вроде открытой коробки, а пятый кирпич, приподнятый на палочке, являлся крышкой. От палочки тянулся длинный шпагат. В кирпичную коробку насыпали пшено или какую-нибудь другую приманку. Едва воробей вскочит в кирпичную ловушку, чтобы поклевать приманку, надо дернуть за шпагат, выбить палочку-подпорку, и верхний кирпич накроет воробья в кирпичной западне. Теоретически это было очень хорошо, но на практике всегда почему-то оказывалось, что воробьи не хотят идти на приманку; по всей вероятности, их пугали грубые кирпичи, а палочка с привязанным к ней шпагатом вызывала подозрение, что тут дело нечисто.
Сколько раз я ни пытался поймать воробья таким способом – никогда ничего не получалось.
Ловить воробьев на водку сделалось чем-то вроде общего поветрия среди всех мальчиков нашего города. Появились мальчики, которые божились и ели землю, что собственноручно поймали несколько воробьев на водку. Поддался этому поветрию, разумеется, и я.
Желание собственноручно поймать воробья на водку сделалось моей навязчивой идеей, и я почувствовал, что не успокоюсь до тех пор, пока моя мечта не осуществится.
Но возникал серьезный вопрос: где достать водку? В нашем трезвом доме ее не водилось. Запрещалось даже произносить это слово. Я знал, что обычно пьяницы покупают водку в монопольке, то есть в так называемой казенной винной лавке, и чаще всего распивают ее тут же на улице прямо из горлышка – буль-буль-буль-буль, – причем водка течет по бороде извозчика-пьяницы.
Я знал, где помещается ближайшая монополька, но не имел представления, сколько стоит водка и продадут ли ее мальчику моего возраста, да еще и гимназисту, что строжайше запрещалось законом.
Я навел справки у дворника и узнал, что водка бывает разная: «белая головка» и «красная головка», то есть запечатанная белым сургучом и красным сургучом. «Белая головка» считалась лучшей очистки и стоила дороже «красной головки» – водки плохой очистки. Я понимал, что воробьям все равно, на какую водку их будут ловить, поэтому решил купить «красную головку», если, конечно, мне ее в монопольке отпустят. Остановка была, как всегда, лишь за деньгами.
…Эх, деньги, деньги! Сколько раз мне приходится упоминать о них в этой книге. Но ничего не поделаешь. Такова жизнь…
Где их достать? Я обшарил доску буфета, на которую кухарка клала сдачу с базара. На буфете денег не было. Тетина комната была заперта на ключ. В шкафу, в старых папиных брюках тоже ничего не нашлось. Что же делать, как быть? Я посмотрел в окно и увидел во дворе – как нарочно – множество воробьев, которые попрыгивали на тугой осенней земле среди облетевших кустов сирени и клевали всякую дрянь. Была б у меня под рукой водка, я бы им показал!
Надо заметить, что водка продавалась в бутылках разного размера, носивших соответствующие названия: «сотка», «шкалик», совсем крошечные «мерзавчики» и еще что-то в этом же духе. Кажется, шкалик стоил с посудой двадцать одну копейку. Я был уверен, что шкалика вполне хватит на десятка два воробьев.
Тут же я придумал тонкую хитрость, чтобы мне отпустили в монопольке водку: пущу слезу и скажу жалобным голосом, что у меня простудился маленький братик и доктор прописал растирать его водкой, так что с этой стороны все было продумано очень хорошо.
Но деньги, деньги!… Где их взять?
Между тем желание немедленно приступить к ловле воробьев уже как пожар охватило мою душонку.
Тогда мне пришла в голову мысль обратиться за помощью к нашему жильцу. Жилец был препоганая личность, сварливый и придирчивый. Он нигде не служил, целый день валялся в жилете и без сапог, положив ноги в белых несвежих карпетках на железную спинку кровати. Нанимая у нас комнату, он отрекомендовался известным путешественником Яковлевым. Это произвело на тетю некоторое впечатление, и хотя его волосатое лицо, грязное пенсне, несвежий крахмальный воротничок, бумажная манишка и какое-то как бы вогнутое лицо с глазами привередника и склочника тете не понравилось, но путешественнику все же отдали комнату.
…я еще при случае расскажу более подробно про этого жильца-путешественника, а также про других жильцов, которые снимали у нас в разное время комнаты, но сейчас не буду отвлекаться…
Гримасничая от чувства неловкости, я постучал в дверь известного путешественника. Храп, раздававшийся в комнате жильца, прекратился, и я услышал скрипучий, недовольный голос в нос:
– Кто там? Что вам надо от меня? Войдите!
Я вошел и, преодолевая страх перед знаменитым человеком, произнес, не забыв шаркнуть ножкой:
– Здравствуйте. Извините, что я вас разбудил. Дело в том, что дома никого нет, а мне крайне необходимы деньги на водку.
– Вот как, – сказал в нос знаменитый путешественник. – Рановато начал. У меня нету денег.
– Всего двадцать одну копейку, – умоляющим голосом сказал я.
– Ну да, на шкалик, – заметил путешественник.
– Вы не беспокойтесь, я вам отдам. Честное благородное слово, святой истинный крест, – перекрестился я и для большей убедительности прибавил: – Пусть я провалюсь на этом месте.
– М-м-м, – недовольно промычал Яковлев, надевая пенсне, отчего его вогнутое лицо стало как будто бы еще более вогнутым. – М-м-м, довольно странно так бесцеремонно врываться в комнату отдыхающего квартиранта и требовать от него каких-то денег! Н… не по-ни-маю-с!
С этими словами знаменитый путешественник, не вставая с кровати, порылся в карманах своих полосатых, так называемых «штучных» брюк, пожелтевших по швам и вокруг ширинки, позвенел связкой каких-то ключиков и затем протянул мне на ладони ровно двадцать одну копейку мелочью.
– Но имей в виду, что я даю тебе эти деньги в счет квартирной платы. И не смей меня больше беспокоить.
Я на цыпочках удалился, за моей спиной заперли дверь на ключ, затем послышался звон пружин и храп, похожий на всхлипывания.
С покупкой водки обошлось не слишком гладко, но все же кое-как обошлось. Сиделица казенной винной лавки, помещавшаяся за проволочной сеткой загородки, напудренная дама с заплаканными вдовьими глазами и толстым жирным лицом с лиловым румянцем, сказала мне грубо:
– Пошел вон отсюда. Как не бессовестно, а еще гимназист, сын интеллигентных родителей, и уже с таких лет начинаешь. Вот я сейчас позову городового, и он отнимет твой гимназический билет. И чтоб я тебя больше не видела. Пошел!
Я выскочил как ошпаренный на улицу, где толпились выпившие извозчики и босяки, откупоривая свои сотки, мерзавчики и шкалики. Делалось это следующим образом: сначала обдирался с головки сургуч; обдирался он о жестяную терку, нарочно для этой цели прибитую к стволу акации, чтобы пьяницы не портили городских насаждений.
Извозчики в своих клеенчатых или касторовых шляпах с пряжкой, в синих армяках до полу, бородатые, с прозрачно-голубыми глазками и красными носами, а также босяки – действительно босые или в каких-то немыслимых бахилках, привязанных к ногам веревочками, в ситцевых штанах и рваных рубахах, сквозь дыры которых виднелось голое тело, – то, что тогда называлось «типы Максима Горького», – под наблюдением городового толпились возле терки, обдирая об нее сургуч, так что терка казалась как бы окровавленной. Затем пьяницы ловким ударом ладони о дно шкалика выбивали пробочку и, задрав голову, вливали себе в рот чистую жидкость, распространявшую сладковатый, слегка наркотический запах, от которого у меня кружилась голова; затем они вытирали рукавом волосатые рты и, аппетитно хрустя, заедали желтовато-прозрачным соленым огурцом, истекающим рассолом, в котором блестели бесцветные огуречные семечки.
Я увидел тачечника с мешком на голове, уже немного выпившего, который лежал внутри своей тачки с опущенными оглоблями, ожидая, когда его кто-нибудь наймет. У него были русые мокрые усы и добрые полупьяные глаза. Почувствовав к нему доверие, я попросил, чтобы он купил мне в монопольке водку. Подмигнув мне, как своему брату-алкоголику, он охотно согласился, и вскоре я со шкаликом в кармане шинели, откуда постыдно выглядывало горлышко с красной сургучной печатью, прибежал домой, не раздеваясь, накрошил в глубокую тарелку белого хлеба и залил водкой, предварительно отодрав сургуч о подоконник. Затем я вышел во двор и стал разбрасывать кусочки мокрого мякиша под голыми кустами сирени и под яблонями со стволами, уже закутанными на зиму соломой.
Меня удивило, что ни одного воробья поблизости не было, хотя до покупки шкалика они покрывали все кусты и деревья.
Я спрятался за дверью черного хода и стал поджидать, справедливо полагая, что воробьи непременно заметят кусочки белого хлеба и слетятся на добычу. Однако воробьев как не бывало. Прошло не менее получаса, прежде чем прилетел первый воробей, красивый, уже немолодой, по-зимнему пухлый, хорошо отъевшийся, с блестящими перышками, как бы искусно, тщательно, во всех деталях нарисованными на шелку тушью каким-нибудь великим китайским или японским художником. Глазки воробья по-детски блестели, и головка вертелась во все стороны, в то время как он сам упруго попрыгивал на своих ножках. Сначала он не обратил внимания на кусочки мокрого хлеба, но наконец заметил, подскочил и клюнул один из них, потрепал, с отвращением выпустил из клюва, вспорхнул и быстро улетел: ф-р-р-р!…
«Вот дурак», – подумал я.
Скоро прилетели штук пять отличных воробьев и стали всей стайкой как по команде прыгать среди моей приманки, но почему-то не обращали на нее внимания, клюя землю между кусочками хлеба. А хлеба не трогали.
«Что они, сдурели?» – подумал я.
Воробьи попрыгали немного среди кусочков хлеба, а затем как по команде улетели, катясь по воздуху низко над землей как рассыпанные бусы.
Фр-р-р-р-р…
Я порядком озяб, но твердо решил не уходить, пока не поймаю хоть одного воробья. Больше всего меня интересовало, как будет вести себя опьяневший от водки воробей.
Из своей засады я видел, как тетя привела из детского сада Женьку и как потом пришел папа в драповом пальто, держа под мышкой кипу голубых ученических тетрадок, накрест перевязанных шпагатом.
Я проторчал за дверью черного хода до темноты.
Уже пролетело несколько первых снежинок, предсказывавших скорое наступление зимы.
Воробьи прилетали и улетали – стаями и поодиночке. Некоторые клевали кусочки моего хлеба и даже, случалось, уносили их куда-то в клюве, наконец они полностью расклевали приманку, но ни один из них не опьянел и не свалился с ног – на чем, собственно, и строились все мои расчеты.
Несколько раз мне кричали из форточки, чтобы я шел готовить уроки и пить чай, но я не подавал голоса, будучи не в силах примириться с мыслью, что моя мечта рухнула. Мне все еще казалось, что вот-вот прилетит новая стая воробьев, которые наедятся остатками смоченного водкой хлеба, опьянеют, свалятся с ножек, и я их подберу, вдребезги пьяных, сразу штук пять. То-то все будут поражены!
…увы, мои мечты так и остались мечтами. Способ ловли воробьев на водку оказался полной чепухой. Пришлось возвратиться домой с пустыми руками…
На этом историю еще одной моей разбитой мечты можно было бы и закончить, если бы через несколько дней не произошло следующее.
Едва я, возвратившись из гимназии, переступил порог квартиры, как передо мною предстал отец. Пенсне прыгало на его носу, шея подергивалась, словно ее давил слишком тесный воротничок, на щеках играл гневный румянец.
– Негодный мальчишка! – закричал он, выставив вперед нижнюю челюсть. – Оказывается, ты тайно предаешься употреблению спиртных напитков!
– Папочка, – зарыдал я, – клянусь тебе чем хочешь… Святой истинный крест…
– Не кощунствуй, – сказал отец и, взяв меня за плечи, стал трясти, приговаривая: – Боже мой! У меня сын пьяница! Он пьет водку!
Его борода тряслась все сильней и сильней.
– Папочка, откуда ты знаешь? – рыдая спросил я.
– Путешественник Яковлев сегодня рассчитывался за комнату и вычел двадцать одну копейку, которые ты у него тайно выпросил на водку. Так что запирательство твое бесполезно. Ты мне больше не сын!…
…и так далее и так далее.
По-видимому, чаще всего человек говорит правду, когда фантазирует, и больше всего врет, когда старается быть правдивым…







