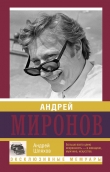Текст книги "Повесть о граде Лиходейске"
Автор книги: Валентин Холмогоров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Лакеев Хлебоженовы не держали, ибо были оне роду не дворянского, но мещанского и средствов на то особливых не имели. Жили оне хоть и не бедно, но и не богато; впроголодь не сидючи, но и в шелках не расхаживая. На звонок Андрюшин нетерпеливый открыла ему сама хозяйка. Была она дамою в возрасте, да все ж еще в соку, годы оставили на лице ея след морщинами подле глаз и уст, но глаза те, яркие и живые, говорили за нее, что славилась она некогда неотразимою красотою. Стан ее утратил уж былую гибкость, поплыл, но не сделался покамест столь бесформенно толст, как бывает порою у женщин, что прошли в жизни своей за вторую ее половину. Встретила его нынче Мария Ивановна в убранстве домашнем, к визиту явно не подготовленная. – Ах, Андрей Григорьевич к нам пожаловал, радость-то какая! – Всплеснула руками дама. Вы проходите, проходите, родненькой, обувку-то сымайте, да ступайте в гостиную. А я покамест чаю сооружу.
– Да нет, что вы, благодарствю, – потупился в пол Андрюша, – я так уж... Ненадолго... Лизавету Сергеевну повидать... – Так вот и Лизавета Сергеевна к нам за чаем присоединится. – Подмигнула ему Мария Ивановна. Она сейчас музицирует в малой гостиной комнате, а как освободится – так сразу и к нам! Проходите, друг мой, не топчитесь в прихожей Бога ради, пол только что мытый.
В просторных стенах квартиры Хлебоженовской и впрямь разносились фортепьянные аккорды. – Так что ж? – Благодарю покорно. Пройду. – Вот так бы и сразу! – Радостно согласилась Мария Ивановна. – Ваша стеснительность, Андрей Григорьевич, достойна всяческих похвал. А вот и тапочки вам.
Тапочки пришлись как нельзя кстати, ибо стеснительность Андрея Григорьевича проистекала из несколько иного роду: а именно на носке левой ноги, сокрытой теперь новым башмаком, явилася необозримая дыра, коя, как ни пытался ее Андрей Григорьевич починять, ширилась оттого лишь еще более. Сменив башмаки на тапочки со всею возможною поспешностию, Андрей Григорьевич зашлепал в гостиную. – Лизонька! Лизавета! – Крикнула с кухни мать. – Гости к нам! Убери себя до состояния благопристойного. – Хорошо, маменька! Прозвенел откуда-то веселый девичий голосок, завершившийся затем пронзительным соль-диезом.
Сергей Антонович застал Андрея Григорьевича в гостиной комнате за занятием весьма достойным: взяв с полки книжного шкапу сочинение прославленного таланта литературного Набокова, тот растерянно перелистывал страницы, в суть повествования явственно не нвникая. Сергей Антонович не удостоил Андрюшку рукопожатием, лишь глянул сердито из-под светловласых своих бровей. – Что-то гляжу, сударь, вы частым гостем в доме нашем сделались? – Вопросил он, усаживаясь в глубокое, накидкой укрытое кресло, что стояло подле стола. – А не жалуете вы меня, Сергей Антонович, ответствовал Андрюша, ставя книгу на полку. – Так с чего ж тебя жаловать-то, прохвоста? – Возмутился хозяин, лысину свою, яко самовар сверкающую, степенно при сем приглаживая. – В дом ко мне ходишь, что на базар, за дочерью моею увиваешься, точно хлыщ столичный, а за душою ни копейки не имеешь и першпектив жизненных для себя наметить не соизволил. Вот уж: двадцать второй год пошел, а в какой стезе карьер себе делать станешь, еще, гляжу, и не надумал. Чаешь, дочь свою за тебя отдам, за остолопа? Так уволь меня господь от такого зятя! – Да я вот... До титулу дворянского дослужиться хочу... – Начал робко Андрюша. – Ишь чего! – Захохотал Сергей Антонович надрывисто. – Или шутить со мною изволите, юноша? Титулу он возжелал! Будто не знаете, что патенты дворянские – не блохи, на каждую собаку не прыгают. Это в допрежние времена графа получить возможность была, вельможному господину какому, ко двору приближенному, слезное письмо сочинив. А нынче-то люди дворянские титулы имеют, у государя за деньги большие их выкупая. Кто заводом, иль фабрикою владеет, а может, еще предприятией какой, тот в свет и пробивается. А тебе, проходимцу, вот чего скажу: ты на титулы дворянские не замахивайся, ибо вечно тебе, по роду твоему, к деньгам не приспособленному, в оборванцах ходить.
На том беседа их была прервана, ибо в гостиной комнате объявилась Мария Ивановна с чайным набором на подносе хохломской работы; следом за нею туда же впорхнула Лизавета Сергевна. Была та особа весьма хороша собою, слыла красавицею и модницей, лицом отличалась весьма привлекательным, а глаза живые и яркие – достались ей по всем видимостям от матери. – Ах, Андрей Григорьевич, – повторила она материнские слова почти в точности, протягивая ему руку для поцелуя, – как я рада вас видеть! – И я рад видеть вас, сударыня. – Ответствовал Андрюша, чуть касаясь тонких пальцев ея губами. Ну – к столу! – Произнесла Мария Ивановна, то-ли старательно притворяясь, что не слышала, то-ли и впрямь упустив Андрея Григорьевича с мужем ея недавний разговор.
За чаем Андрей Григорьевич чувствовал себя весьма неуютно. Мария Ивановна без устали болтала о своих новоприобретениях – а обладала она великою страсьтью собирательства вещей старинных и иных раритетов минувших эпох. Кабинет ее уставлен был множеством предметов мебельных, старательно ею повсеместно выискиваемых – был тут и стол
письменый весьма искусной работы, и другой столик для туалетных принадлежностей, крышка в котором имела способность открываться, обнажая бархатом обитые отделения внуренние, с натюрмортом живописным, на другой ея стороне устроенным. Справедливости ради отметить следует, что мебель оная отобрана была ею с величайшим вкусом и тщанием. Полке в комнате той украшали фигурки из фарфору во множестве, изображавшие то зверей, то птиц, то плакальщиц; по стенам размещены картины были, большою ценностью не обладавшие,но приятно радовавшие глаз, а в ящиках комода многочисленных, ежели поискать, нашлись бы и ассигнации времен Николаевых и Александровых, да карточки фотографические давно всеми позабытых персон на пожелтевшем картоне, и письма старинные, девятнадцатого веку, не ей и не предкам ее адресованные, но необыкновенно ею ценившиеся, и блюда с изображеньями портретными дам в кружевах да господ в орденах и со шпагами. Все означенное почиталось Марией Ивановной за фамильные драгоценности и составляло предмет ея необыкновенной гордости.
Лизавета Сергевна заливалась серебристым смехом, вставляя местами фразы, то колкие, но доброжелательные, то обобщительные и ни к чему не обязывающие; Сергей Антонович сохранял сердитое молчание, да и Андрей Григорьевич также все больше молчал, отвечая лишь в меру возникновения крайней на то необходимости. Наконец, чаепитие приблизилось к своему завершению, о чем Андрей Григорьевич подумал с величайшим для себя облегчением, не позабыв, впрочем, поблагодарить хозяйку; та же, из-за стола поднямшись, повлекла мужа за собою, дочери заговорщицки подмигнув, и кивнув ей же едва заметно. – Что ж вы, сударь, все застолье просидели бессловестно? – Спросила Андрюшу Лизавета Сергевна, едва остались оне наедине. – Иль обет молчания был вами давеча до скончанья веку даден? Ну же, развеселите меня! Уж простите, грешного, не хотел, право, вас обществом своим тяготить, отозвался ей Андрей Григорьевич смущенно. – Фу, сударь, какой же вы бесконечно скучный! – Отмахнулась от него Лизавета Сергевна. – Ужель вам и порадовать слух мой более совершенно нечем?
За сим сотворилась в комнате пауза весьма тяжелого свойству, и уж когда оная совсем в тягость обоим стала, Андрей Григорьевич решил первым ее разрушить. – Лизавета Сергевна, – начал робко он, – знаете ли, что в душе моей вызывает облик ваш трепет совершенно необычайный, а голос ваш, подобный пению ручья вешнего, заставляет сердце мое биться учащенно,
только разве что из груди вовне не выпрыгивать с неосторожностию...
Лизавета Сергевна, услышав сие, проявить решила мужество прекрасному полу не свойственное, и в обморок, как по этикету положено, не падать; вместо того сказала она, воспылав щеками: – Ах, сударь, что вы такое говорите! Не понимаю я слов ваших. Извольте объясниться, сделайте милость! Лизавета Сергевна... Лизонька... Выходите за меня замуж! – Выпалил Андрюша в ответ ей на едином дыхании.
Возможно, ожидал он, что после слов таких предмет его воздыхания кинется на шею ему со слезами и нашептываниями сладкими, всевозможного содержанью, однако ж предмет означенный лишь отвернулся, сызнова заливаясь краскою. – Андрей Григорьевич, – ответствовал предмет сей, выдержав молчание благопристойное, – я весьма польщена вашим ко мне вниманием, но извольте видеть: ничего окромя дружбы быть промеж нами не может, ибо папеньке моему, во-первых, вы не по сердцу пришлись, а во-вторых, не желаю я жизнь свою во бедности великой заканчивать, во платья рваные облачаясь, и хлеб зачерствелой с водою вкушая ежеденственно. Уж простите меня, друг мой сердешный за откровение сие, ибо обещаний и надежд я равно вам никаких все одно не давала...
Не умею я, читатель мой благодарный, сцен любви безответной и отвергнутой описывать, ибо пером слаб в великой степени, посему уж не сочтите за труд тяжкий диалоги, за сим воспоследовавшие, за меня додумать самостоятельно, и к разумению своему принять; а коль уж не сойдемся мы с вами относительно того мненьями, так и невелика в сем беда заключается.
Нету во мне знания определенного, что меж героями нашими во пять минут воспоследовавшие длилось, однако ж доподлинно известно мне, что вышел Андрей Григорьевич из комнаты гостиной, будто оплеваный, и направился он засим прямиком в кабинет Сергея Антоновича. – Простите меня, сударь, что тревожу вас сызнова понапрасну, – произнес Андрюша при виде его, в дверь постучавшись предварительно, – но не откажите мне в милости иметь возможность об одолжении вас попросить незначительном... – Опять денег клянчить явился? – Возопил тут Сергей Антонович с яростью. – Уж в позатом месяце сто рублей занимал у меня, да так до сих пор возвернуть и не соизволил! – Уж услужите, Сергей Антонович, мне в последний разок, рубликов сто ссудите на бедность мою с излишков ваших, на пропитание... – Услуги моей домогаешься? – Вопрошал его Сергей Антонович ласково. – Так вот тебе мое услужение...
Со словами оными взял он Андрюшу за шиворот, и, без раздумий долгих спустил его, грешного, с лестницы.
Андрей Григорьевич, Сергея Антоновича жестокою рукою с лестницы спущенный, происшествием тем расстроен был не в столь сильной степени, как мы с вами, многоуважаемый мой читатель, ожидать от него можем, ибо подобные истории случались с ним на неделе через день, ежели порою не чаще. Однако, самолюбие его все ж задето было значительно, и потому, нащупав в заднем брючном кармане последнюю монету пятирублевую с двуглавым орлом на аверсе, двинулся Андрей Григорьевич к ближайшему трактиру с единственной целью горе свое пивом горьким залить, решивши при том, что на пропитание тех пяти рублев ему все одно не достаточно.
Воздух в трактире был тяжел и густ, как сметана, под потолком витал бестелесными клубами сизый дым, сигаретами и трубками, табаком туго набитыми, обильно источаемый. Посетителей в сей неурочный час было здесь во множестве; однако, тесноты, тем не менее, не ощущалось, хоть сам трактир и не был чрезмерно велик. Чистотою и обхождением заведение сие не отличалось отродясь, но было в нем одно достоинство великое: цены на предлагаемое тут съестное и питейное держались всегда умеренными.
Андрей Григорьевич прошел промеж столов, со времен допотопных собственную девственную первозданность хранящих, ибо тряпками их до сей поры не касались ни единожды, к трактирной стойке, и взявши бутыль пива жигулевского, по три рубля с полтиною штука, да немытый же стакан, ко свободному столику неторопясь направился.
Наплескавши пива в стакан до краев, решил было Андрюша напиток сей по назначению своему употребить, как заслышал он неожиданно за дверьми трактирными разговор весьма напряженного свойства. – А я говорю тебе, кретин, не мешайся! – Изрекал один грудной голос, гулкий и басистый, точно выдох трубы медной. – Негоже это, ваше высокородие, – вторил ему второй, высокий и суетливый, – не место то для вас, поверьте уж мне, бога ради.
– А я говорю, не мешайся! – Повторяла труба. – Застрял, так теперь уж молчи. Какого рожна поперек дороги лезешь? – Одумайтесь, ваше высокородие! Позволительно ли, в вашем-то положении? – В нашем положении многое позволительно. – Отвечала труба.
Засим дверь, что в трактир прокуреный вела, распахнулась с треском и грохотом; в дверях же показался человек, раскрасневшийся и упитанный, в длиннополом пальто, на животе расстугнутом; по всем видимостям, был он немного в подпитии. За плечом его возникла иная голова, всклокоченная и растерянная, с короткою дьяконской бородкою. Упитанная персона в пальто, что являлась, как Андрюша смекнул сразу же, обладательницею того самого трубного голоса, направилась к стойке, следом за нею засеменил человек с бородкою, что-то под нос себе при том причитая непрестанно. Тревогу и растерянность последнего Андрюша объяснил себе без особых для того затруднений, ибо одного взгляда на компанию сию становилось достаточно, чтоб понять, что персона в пальто есть лицо весьма состоятельное и обстановке ее сейчас окружающей никоим образом не соответствующее. Присутствовавшие в трактире
обернулись к вновьприбывшим с удивлением, но вскоре любопытство свое и интерес всяческий утратили, ибо своими бедами, что водкою, иль пивом, иль тем и другим за раз заливали, поглощены были в значительно большей степени. Когда ж лицо означенное столик его миновало, сам Андрей Григорьевич изумление испытал неописуемое, ибо признал он в человеке этом Василия Петровича Пришивалова, господина, более богатого которого во всей губернии сыскать вряд ли было б возможно при всем на то желании. – Водки! – Прогудел трубою Василий Петрович. – Сей момент! – Отозвался трактирщик за стойкою, и, выбрав с подноса стакан, что почище, наплескал туда чего-то из бутыли. Персона в пальто, нос двумя пальцами с аккуратностью зажавши, стакан вовнутрь себя опрокинула залихватски, опосля чего спала с лица, глаза ее выкатились, и выдохнула она с таким видом, словно проглотила сейчас змеюгу ядовитую, или, как минимум, ежа.
– Это чем же ты, собака, народ травишь? – Взревел Василий Петрович, уста свои рукавом утирая. – Водкою-с. – Отозвался трактирщик, улыбаясь извиняющейся улыбкою. – Столичной-с. Ничего другого не имеем-с...
Василий Петрович сгреб его за грудки, и встряхнул, точно грушу, так, что при иных обстоятельствах с груши той вмиг посыпались бы наземь плоды переспелые. – Водкою? – Повторял он при том неласково. – Водкою? Я тебе покажу водку, прохвост!
Человек с дьяконской бородкою, угадав, видимо, происшествия сего продолжение нелицеприятное, поспешил за рукав Василия Петровича уцепиться хватко и прочь повлечь с поспешностью, приговаривая суетливо: – Да как же, ваша милость? Да говорл же, ваша милость... – В деле малом не пособите ли, юноша? – Обратился он к Андрюше, мимо столика его проходя, с ним поровнявшись. – Машину не поможете ль подтолкнуть застрявшую? Здесь, рядышком. – С радостью, – согласился Андрей Григорьевич не раздумывая.
Автомобиль Василия Петровича Пришивалова был, как ожидать того и следовало, заморской драгоценной породы: суетливый человек же оказался при нем водителем. Пропуская мимо внимания своего Василия Петровича речи гневные о выпитом давеча напитке и заведении, оный предлагающем, во многом содержания весьма нелицеприятного, Андрей Григорьевич, в лакированый металл руками упершись, столкнул автомобиль с места, отчего тот завелся с заметным усилием. – Пьешь ли? – Обратился к нему Василий Петрович, душу свою в непристойной тираде излив окончательно. Андрей Григорьевич смутился. Случается. – Ответил он по минутном размышлении. – Что же, раз так, поехали. – Сказал Василий Петрович, дверь автомобильную пред собой открывая.
– Отчего ж служить не идешь в какую контору? – Спрашивал Василий Петрович Андрея Григорьевича, меню ресторанное изучая внимательно, когда на вопрос его тот поведал ему о жизни своей неприкаянной. – А возьмут ли? Пожал плечами Андрюша. – Ведь пытался, и не раз, верите ли? – Верю охотно. И о деле своем, небось, всерьез подумывал? – Бывало. – Вздохнул Андрюша обреченно. – Только ведь как оно теперь? В былые-то времена, институт иль университет какой закончишь, тут тебе и распределение, и должность инженерная, и оклад. Можно было и по партийной линии, коль науки да философии коммунистические изучил прележно. А ныне, при капитализме да царе, нет тебе дороги, кроме как на улицу иль в лавку за гроши. – И что же думаешь? – Спросил Андрюшу Василий Петрович, сощурившись любопытственно. Да вот до титулу дворянского дослужиться мечтаю... – А на что оно тебе? – Да как же? – Изумился Андрей Григорьевич неподдельно. – Тут тебе и в общество дорога, и связи со знакомствами, и возьмут, может, куда, где поприличнее... Вы вот, к примеру, уж простите меня за бестактность такую великодушно, тоже, небось, состояние великое заработали, да в губернской управе и при минестерстве столичном места властительного добились не просто так... – Уж ясно, не просто так. – Улыбнулся Василий Петрович. – А ну-ка, Прокофий, подай мне дипломат с бумагами!
Явился Прокофий, водитель господина Пришивалова, с дипломатом, явилась же вслед за ним вторая перемена блюд, каких Андрей Григорьевич не едал отродясь. Принялся он за блюда те с усердием, в то время, как Василий Петрович записал что-то в бумаге, из портфеля им извлеченной, и протянул ее Андрею Григорьевичу. Посмотрел ее Андрюша, и обомлел: то была дворянская грамота, с подписью да печатью от министерства столичного. – Интересно мне, – сказал Василий Петрович, дипломат Прокофию возвращая обратно, – как ты случаем таким распорядиться сумеешь, с толком или без толку. Принимайте патент, ваше голодраное благородие. А уж дальше – от тебя лишь все оное зависит...
Устроился вскоре опосля событий описанных Андрей Григорьевич в банковскую контору Камышина, что на Оружейной улице, в должности ответственного распорядителя. Работал он не покладая рук, и неплохо управлялся, за что ценили его необыкновенно. Денег имел с того Андрей Григорьевич не то, чтоб уж очень много, но достаточно; сменил он комнату свою с тараканами и иными удовольствиями в лице домохозяина сварливого на отдельную квартиру, что снял за сходную плату неподалеку от места сего; трудился он теперь в том самом костюме за пятьсот рублев и при галстуке к нему шелковом, почти никогда означенное из любви трепетной ни на что иное не сменяя.
В тот день явился неожиданно по делам своим в контору, где служил теперь Андрей Григорьевич, никто иной, как Сергей Антонович Хлебоженов, тесть его несостоявшийся. Долго разглядывал он Андрея Григорьевича издалека взглядом оценивающим, наконец приблизился, и заговорил с ним привычно поздаровавшись, что со старым знакомым. – Отчего же не заходите к нам более, милостивый государь? – Осведомился он с любезностью. – Нету, уж поверьте, у меня теперь на то ни времени, ни желания, – отозвался Андрюша холодно. Слышал я, что звание дворянское вожделенное заимели вы, и в средствах теперь, как судить могу, не ограничены ни в малой степени? – Спросил его Сергей Антонович в свою очередь ласково. – Все так. – Откликнулся ему Андрей Григорьевич. – А счастливы ли?
Заслышав слова сии, опустил Андрюша взгляд свой смущенный, в крайнем замешательстве. – Вот то-то же...
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Об том, как сочинитель Никита Натужный романы писал, об том, как редакции всеразличные романы те издавали, сказывающая.
Рождение нового таланта на Руси сопровождается завсегда явленьями необычайными. Встречают талант новорожденный с неизменною благожелательностью, восклицая при сем радостно: – Ох! Новый талант явился! – Ах! Вы только гляньте, какая прелесть! Какие рученьки, какие ноженьки, а улыбается-то как, глаз не отвесть!
Подымают талант неокрепнувший на руки с превеликою осторожностью – не дай Бог, чтоб уронить, иль ушибить, – прижимают его к груди отеческой заботливо, ласково, и ласково же в обширную кучу навозную укладывают, нежно при том приговаривая: – Полежи уж здесь, родненький, покуда мал еще: тут тебе хорошо будет. А что пахнет дурно, иль мухи тебя обсиживают – так оно в государстве нашем везде так. Полежи, миленькой; это пока неудобно – потом попривыкнешь. А надобность в тебе возникнет какая, мы тебя первого же обратно выдернем.
И – выдергивают, не всех, некоторых. Кто половчее, иль подаровитее выдался. Иль, кто с голоду кричит громче, а тот, кто ранее его выбрался, руку ему за знакомство былое протянет, да выкарабкаться пособит. Сочинителя, об котором немногословный рассказ далее воспоследует, выдернули из навозу того, видимо, по великой неосторожности, ибо был он непревзойден в бездарности своей творческой: а хватились – поздно... Так и возник на литературном горизонте русском писатель-прозаик Никита Иванович Натужный.
Ныне заседал Никита Иванович в веранде домишки своего загородного за новою рукописью, уж заранее им романом нареченной. Роман Никита Иванович порешил о двух частях враз произвести, и бумагу для тех целей уж на две стопки разложить пред собою успел. На верхнем листе первой стопки название он повествованию грядущему размашисто начертал: "Смерть в огне, роман в двух частях, с любовию, страстью и ревностию, убийствами и возвышениями, великого писателя россейского Ник. Натужного". Однако ж, далее названия дело ни в какую не шло, как ни старался Никита Иванович процесс сей глотками водки
неумеренными ускорить, ибо подобно древним мудрецам эллинским вдохновение обыкновенно черпал, обильно вином чрево свое услаждая. Перо острое ложилось на бумагу, но муза тотчас отворачивалась от него в брезгливости, перегару водочного убоямшись. И Никита Иванович, ругаясь матерно, к стакану наполненному сей же миг сызнова прикладывался.
Вот так, тираду очередную от души произнеся, одну из тех, что в обществе приличном вслух никогда не высказываются, взялся Никита Иванович строчку за строчкой на лист бумажный класть, как торговец на прилавок кладет товар залежалый: "В небе светило блеском жемчужным солнце, день зачинался над Петербургом солнечный, но над горами стоял еще туман утренний..."
Перечитал творчество сие Никита Иванович, и пришло в голову ему, что слова "солнце" и "солнечный" сочетаются промеж собою в весьма невеликой степени, глаз при прочтении повествования такого нещадно коробя. Переправил он одну строку на бумаге и принялся читать сызнова:
"В небе сверкало блеском жемчужным солнце, день ясный зачинался над Петербургом, но над горами стоял еще туман утренний..." Так оно вышло гораздо лучше и на слух приятнее, только вот никак сочинитель наш припомнить не мог в точности, есть в Петербурге горы, иль нет. На всякий случай, дабы пред друзьями да издателями не опозориться ненароком, решил Никита Иванович горы из Петербурга убрать. После таковой процедуры многотрудной вышло у него следующее: "В небе светило блеском жемчужным солнце, день ясный зачинался над Петербургом, но в небе стоял еще туман утренний..." На сей раз получилось у писателя два неба. А по сюжету надобно одно. Взяв перо в руку, Никита Иванович одно из небес вымарал из романа безпощадно. Отхлебнув из стакана водки, да огурчиком соленым ее закусив, опять углубился он в чтение: "В небе светило блеском жемчужным солнце, день ясный зачинался над Петербургом, но стоял туман утренний..." В таковом варианте рукопись пришлась ему по душе еще менее, ибо конец предложения, подобно евнуху турецкому, выглядел словно бы оскопленный острым ножом хирургическим. Скомкал Никита Иванович исчирканный лист с досадою, швырнул его в угол, где по обыкновению своему мыши шуршали беззастенчиво, охватил руками голову, да так и замер, в печали и безисходности. На сем и оставим мы его покамест, для того лишь, чтоб вскорости к персоне указанной вновь возвратиться, поскольку предстоит персоне таковой пройти по страницам повествования настоящего поступью хоть и не твердою, но к делу нашему применительно вполне сгодящейся.
Доподлинно известно человеку любому, науки мудреные зоологические да биологические изучающему, что любая какая ни есть тварь живая влачит свое существование по-разному. Медведи, скажем, обитают в берлогах лесных в одиночестве, ежели медведь вышеназванный не есть медведица и не стряслось с нею в близлежащем прошлом прибавления семейства. Скот домашний пасется все больше стадами, пастухами заботливыми при том опекаемый усердно. Писатели же живут стаями. Стая писательская есть объект как нельзя более организованный. Имеется при ней и вожак, либо нечто, такового равноценно замещающее: быть может, сочинитель в летах и с громким именем, но по старости лет промысел писательский уж забросивший совершенно, быть может, издатель, вокруг которого сочинители вьются, что мухи подле сладкого, и что забавляет его самого в степени необычайной. Поглощена стая такая ежеденственно трудами тяжкими и в величайшей степени для общества небесполезными: а именно, собираясь вечерами за чаем, с торжественностью прочитывает друг дружке собственные же сочинения, после чего шумно их обсуждая. Обсудивши, расходится, с твердым сознанием, что день прожит не напрасно, ибо пикировки таковые подогревают в душах их пыл творческий, желание произвести из-под пера в другой раз что-нибудь эдакое, дабы сородичей своих как следует умыть. Организуют сообщества названные, порою в содружестве с иными схожими стаями, конкурсы литераторские, сами себя на места их призовые выдвигая, и сами же себя награждая призами и званьями всеразличными по очередности. Однако ж, не все средь собрания литераторского есть литераторы по сути своей. Присутствуют средь них и иные, к сочинительству относящиеся в столь малой степени, как артиллерийский лейтенант, к примеру, имеет относительство к балету иль опере. Характерны оне в обществе тем, что водят дружбу крепкую с издателем, со многими писателями же на короткой ноге; не пропускают они ни единого собрания иль конкурса, где же наметится спор иль иная полемика на тему, к литературе близкую, там и они – стремятся вставить свое веское мнение. Сами же, будучи сочинить что-либо заметное не в силах, пишут статьи в издания во множестве, восхваляя, порицая, иронизируя.
Зовутся они редакторы и критики.
Роман Вениаминыч Липатов как раз состоял на должности ответственного редактора в одном лиходейском издательстве, по старым временам гордо именовавшемся "Серп и Молот", но, поддавшись веянью времени, перекрещенном наново гордым именем "Меч и Секира". Учреждение сие, не в обиду ему будет сказано, жило во многом одними лишь стараниями Романа Вениаминыча, труды же к процветанию предпреятия упомянутого прикладывал он неизмеримые. Но, не смотря на факт этот отрадный, среди издаваемых конторою книг, книжонок и книженций, большинством преобладала форменнейшая чепуха. Причин столь грустного положения вещей господин Липатов никак уразуметь не мог, приписывая их по настроению различным видам обстоятельств: ни то, писатели все враз писать разучились, ни то читатели – читать. Возьмет он, бывало, произведение какого-либо хорошего автора, напишет ему рецензию положительную, выдвинет на соискание премии литературной, да и издаст, как бы между прочим. И писатель, что творение то сочинил, вроде бы человек прекрасный: всегда у него рублей сто на месяцок подзанять можно, не откажет; и рецензию его в кругах окололитераторских повторяют все в голос, чуть ли ни слово в слово, и премию какую-никакую роман на конкурсе получает сразу же, ан не покупают, что тут поделаешь?
Пролистывал сейчас Роман Вениаминыч рукопись очередную, вчера ему кем-то прямиком в кабинет доставленную, и рукопись ему та определенно нравилась. Давненько уж повелось в землях заморских повести сочинять, пользовавшиеся в народе любовью безграничною. Сюжет в повестях тех был насквозь футуристический: облачал писатель героя в одежды кожанные да кольчуги стальные, давал ему в руки меч острый, и скакал герой сквозь страницы повествования всенепременно на гнедом коне, круша клинком злодеев да колдунов направо и налево, а в тех, кого не сокрушил, обязательно влюбляясь. Тут тебе и драма, и высокая поэзия. А ежели сочинение то на язык русский переложить, снять с героя сапоги со шпорами, да обрядить в лапти, отобрать мандолину, да сунуть в руки балалайку, произведение выходит вполне даже самостоятельное. Именно таковое сочинение и прочитывал теперь Роман Вениаминыч, подчеркивая карандашом красным несообразности всяческие, подлежащие неприменному исправлению: то автор по забывчивости, или по злому умыслу, сунет в руки врагу героя главного пулемет заместо копья, то сам герой, замечтавшись, прикурит ненароком от зажигалки. Читал он, и думалось ему, что хоть творение данное вынести пред очи читательские в любом случае не мешало бы, но много творчества подобного во времена последние опубликовано им было, и хотелось ему чего-то, чего сам он словами описать в точности не мог при всем старании. А хотелось ему хорошего произведения. Только что завершилась на страницах рукописных баталия кровавая промеж колдуном злокозненным и героем-богатырем, только что спас последний из рук злодейских принцессу синеглазую, как дверь, в кабинет Романа Вениаминыча ведущая, открылась без стуку, и на пороге нарисовался никто иной, как Никита Иванович Натужный собственною персоною. Прошел Никита Иванович прямиком к столу редакторскому и ухнул без слов поверх колдуна и принцессы тонкую папочку, тесьмой аккуратно перевязанную. – Чего это? – Спросил Роман Вениаминыч оторопело. – На новый мой роман заявочка, – Объяснил Никита Иванович с гордостью,– двадцать четыре страницы текста, как положено, да сюжету краткое изложение. Шедевр! Нонсенс! – Ну-с, посмотрим-с... – Ответил ему Роман Вениаминыч с осторожностью, – а об чем роман-то намечается, не просвятите ли? – Нонсенс! Шедевр! – Продолжал меж тем Никита Иванович. – А роман-то? Будет то произведение в двух частях, с любовию, страстью и ревностию, убийствами и возвышениями. Я и название уж присочинил ему подходящее – "Смерть в огне". Прелестно, не правда ли? – Да-с? – Произнес Роман Вениаминыч задумчиво. – Ну-с, поглядим-с...
Открыл он в папке той первую страницу, и прочел: "В небе светило блеском жемчужным солнце, день ясный зачинался над Петербургом, но над городом стоял еще туман утренний..." – Что же, неплохо-с... – Констатировал на том Роман Вениаминыч, проглядывая лист наискось, и второй за ним ненамного преокрывая, точно боялся он, что выползет ему на руку из-под листа того таракан, или какая иная гадость. – Неплохо-с... И стиль авторский за строками вашими чувствуется, и идея, и полет, так сказать, фантазии литераторской... – Неплохо? – Переспросил его Никита Иванович с ревностию. Неплохо? Шедевр! Нонсенс!