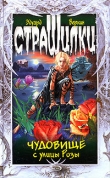Текст книги "Нежданно-негаданно"
Автор книги: Валентин Распутин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]
Распутин Валентин
Нежданно-негаданно
Валентин Распутин
НЕЖДАННО-НЕГАДАННО
Расположились в скверике напротив дебаркадера. Скверик уже не походил на скверик: на бойком месте земля была вытоптана до камня, с одного бока его поджимала стоянка для машин, выдвинутая из-под моста и огороженная высокой металлической сеткой, с другого – теснила расползшаяся, в ямах, дорога к Ангаре, с третьего – асфальтовая дорога вдоль Ангары. Высокие тополя в скверике стояли редко, но раскидисто и тень давали. К ним и повел Сеня Поздняков свою группу, как только объявили, что "Метеор", на котором предстояло им ехать, подадут с опозданием на час. Группа была из своих, из своей деревни, и из соседей, из замараевских, возвращающихся из города. Поровну по три человека оттуда и оттуда. Свои: Сеня, Правдея Федоровна, потерявшая свое имя Клавдея еще в старые времена за пристрастие к правде, когда, выступая на собраниях с разоблачительными речами против начальства, она повторяла: "Я правду люблю", – и Сенина соседка по деревенскому околотку бабка Наталья. Замараевские: муж и жена Темниковы, он инженер в леспромхозе, она – бывший врач. Но это еще по старой сдаче инженер и врач. Теперешняя жизнь сдала карты заново и козырей поменяла. И кто из них сейчас кто, они и сами не знали. Леспромхоз то работал, то не работал, больницу ужали до фельдшерского пункта, и поговаривали, что закроют и фельдшерский.
Третья замараевская – молоденькая девчушка по имени Лена, сдававшая вступительные экзамены в один из новых университетов.
Сеня, как человек бывалый, рассмотрел неподалеку за разбитой дорогой торгующую пивом коммерцию и приволок от нее три картонные коробки. Их сплющили, разодрали и устроили под седево – чтоб не на землю. Вышло вполне культурно. Расселись и принялись за разговором поджидать, когда стянется назначенный час.
Вот наступили времена: раньше, как лето, каждая деревенская изба полна городских гостей. Ехали и воздухом подышать, и стариков повидать, а у кого руки не отсохли – и помочь старикам в их непрестанном битье-колотье по хозяйству. Теперь в деревню не едут: для одних дорого, для других неинтересно. Одни спасаются участком подле дачки, который не отпускает к отцу-матери, другим позарез стал нужен и берег турецкий, и Африка вместе с Америкой. Теперь и писем в деревню не пишут, а заказывают при случае: пусть мама приедет, пусть папа приедет – соскучились.
А что такое "соскучились" – понятно.
Вот и Сене Позднякову, по которому донельзя соскучились внуки, пришлось набивать снедью два мешка и отправляться как Магомету к горе. Правдея Федоровна прямо называла себя "савраской". Уже второй раз за лето впрягалась она и ехала. Бабку Наталью на старости лет заставила сниматься с лежанки другая, как говорила она, "везея". Гостила зимой внучка и оставила золотые сережки. И два месяца уже: бабушка, отправь, бабушка, отправь. А с кем отправишь золотые сережки какого-то фасонистого издела? Пришлось снаряжаться самой. А сын привез сегодня на пристань и посадки не дождался: некогда.
Зачем ездили замараевские, муж с женой, осталось еще не расспрошено. Впереди длинная дорога. И до дороги сидение в маете. Девчонка, Ленка, сказала, что экзамены в университет сдала, но учиться, наверно, не будет, не понравились ни университет, ни преподаватели, а в общежитии и селиться опасно, там одни кавказцы.
Солнце нагревалось и начинало дышать горячо. По мосту через Ангару дребезжали трамваи и ползла из машин с краю с шипом огромная, во весь мост, разноцветная гусеница, то вздымаясь горбом, то опуская уродливые сочленения. А по другой боковине моста навстречу ей двигалась, поддергивая длинное членистое тело, точно такая же гусеница. И дух с моста сбрасывался едкий, злой. За Ангарой, вздымаясь в гору, продолжался город, сначала деревянный, низкий, закрытый зеленью, затем переходящий в коробчатые белые многоэтажки, нахальные и одновременно сиротски печальные. В одной из них, с шестью рядами разноцветных балконов по фасаду, и жили Сенины дочь с зятем и семилетним внуком. Сын жил по эту сторону Ангары далеко, за плотиной. Только в Сенины наезды они и сходились, что-то у них меж собой не ладилось. Но ни одна, ни другая сторона, ни дочерняя, ни сыновья, сколько ни выспрашивал Сеня, не признавались, в чем дело, закатывая одинаково при расспросах глаза, будто Сеня тронулся. Но не из тех был Сеня, кого можно оставить в неведеньи надолго, и на следующее гостеванье у него появилась надежда на сватью, на невесткину мать, которую собирались осенью окончательно забрать в город. Деревня деревню поймет. Сеня видел однажды сватью, крупную старуху с больными ногами и пытливыми глазами; она без обиняков сразу же уставила их на Сеню с хитрым прищуром – будто Сеня когда-то до родства за нею приударял. Этого быть не могло. Сеня на всякий случай выспросил, где протекала ее жизнь. Не могло. Но, выспрашивая, убедился он, что сватья, которую звали Руфина Сергеевна, не поверху глядит на мир и все, что надо, выглядит. "Как вот в деревню залетают такие имена?" – подивился Сеня, знакомясь со сватьей, подбирая руку, которую она как-то быстро выронила, но имя еще больше его убедило: мимо Руфины Сергеевны ни одна семейная соринка не пролетит, она во все вникнет.
По скверику неприкаянно бродили люди, томившиеся ожиданием, натыкались на Сенин табор и отходили, морщась от убитого и захламленного угла, обманывающего сверху зеленью. У пивной за обнаженной земляной дорогой становилось веселей, оттуда доносились частый звон и бряк, возбужденные голоса. Дебаркадер, хорошо видимый по сквозящему скверику, был совершенно безлюден, на деревянном помосте причала, с которого была перекинута на дебаркадер под ступенчатым спуском стремянка с поручнями, высилась гора из огромных полосатых баулов, известных всей России.
Девчонка отошла от табора и стояла неподалеку. Отошел и инженер, рассматривая за решетчатой оградой машины.
Правдея Федоровна достала из сумки яблоки, тугие, краснобокие, с глянцевым отливом, и принялась угощать. А чего не угощать на прошлогодние зубы, которые хорошо кусали только в воспоминаниях? Сеня и бабка Наталья отказались, яблоки даже с виду были неукусные. Отказалась и фельдшерица и принялась рыться в старой черной сумке с испорченным ездовым замком, застрявшим посреди хода. Склонясь над сумкой, фельдшерица вытянула ногу. Сеня смотрел на крепкую неодрябшую ногу с безобидным интересом: есть на ней чулок или нет? Чулки пошли под цвет кожи, не отличишь, а отличить зачем-то хотелось.
Ехали обратно, сумки были полупустые, с обвисшими боками. Что давалось в гостинцы или что покупалось, шло в легкую укладку. Только инженер вез большой и плоский фигурный предмет, замотанный в целлофан. "Крыло для "жигуля"", – еще при встрече догадался Сеня, по привычке всем интересоваться, спросил, много ли отдано за крыло. Отдано было много, Сенина прикидка осталась далеко внизу. "Все в порядке, – решил он. Никакого торможения". Он все угрюмей и терпеливей относился к загадке: если торможения нет и не предвидится, то куда же они взлетят?
Замараевская фельдшерица, елозя на Сениной картонке, вытянула из-под замка прозрачный пакет, а в пакете небольшой глиняный горшочек с землей и торчащим зеленым отростком. Бабы заинтересовались: что такое? Можно было и не спрашивать: комнатный цветок. Но из каких-то особых, сказала фельдшерица, живучих настолько, что хоть забудь о нем на полгода. Она выговорила и название, уж больно чужое, так что никто не решился переспросить. И рассказала то, чего Сеня не знал. Оказывается, на комнатные цветы в их краю нашел мор. Да, и на цветы тоже мор. Хиреют и мрут. Хоть заухаживайся, хоть глаз не спускай – никакого спасенья. Уж на что геранька терпеливый цветок, та самая геранька, без которой и солнышко не заглянет в окошко, а и на нее порча нашла. Не дает уж красного цветенья, корешок слабый, слизистый.
– А и правда! – громко подтвердила Правдея Федоровна. – То-то я все смотрю: что за казня на них, что за казня?! Правда, хворают цветы. Так это отчего? Это ежели у всех, должна быть серьезная причина.
– А у меня вроде ниче, – сказала бабка Наталья.– И геранька цвет дает. Вроде не жалобится.
– Где ты ее держишь? – Правдею Федоровну исключения не устраивали. По серьезной причине, а сейчас причины на все пошли только серьезные, цветы должны быть в опасности у всех.
– На подоконнике и держу, – отвечала бабка Наталья. – У меня подоконники широкие, я зимой подале от стекла отодвину.
Фельдшерица повторяла:
– У нас в деревне у всех, ну прямо у всех хозяек беда. А я не могу, когда окошки голые. Будто съезжать собрались. – Она подносила горшочек ко рту и ласково обдувала зеленце косолапого отростка. – Но уж этот-то, говорят, никакой заразе не поддастся.
Бабке Наталье сделалось неловко, что у всех геранька болеет, а у нее не болеет:
– Мои-то, что говорить, они вековушные, у них и цвет старуший... А этот-то, ежели незаразливый, до чего хорошо!..
И вдруг Сеню осенило: ведь все просто! Проще пареной репы. Он молодецки вскочил на ноги, напугав резким движением подходящую Лену, и начал с Правдеи Федоровны:
– У тебя в какой комнате цветы стоят?
– Во всех стоят.
– Где телевизор – стоят?
– Телевизорная у нас большая, на три окна.
– Ясно. – Теперь Сеня взялся за фельдшерицу: – А у вас, Александра Борисовна, под телевизором стоят?
– Они не под телевизором стоят. Они на подоконнике стоят, под солнышком.
– Телевизор на них влияет?
– Откуда я знаю?
Сеня перешел к бабке Наталье:
– А у тебя, бабка, телевизор влияет?
– Нет, – опять виновато отвечала бабка Наталья. – Не виляет. Он у меня не вилятельный.
– Нету, что ли?
– Нету, Сеня. Одна доживаю.
Подошел, привлеченный страстным Сениным голосом, инженер, прислушался. Сеня взглянул на него гоголем и начал разъяснения:
– Вот, Сергей Егорович, сделал открытие. – Взмахом руки в центр табора, как бы усаживающим, Сеня показал, что открытие тут, рядом. Благодаря вот этому ма-аленькому вашему цветочку сделал открытие. Я вообще-то раньше его сделал, но не придал значение, что это открытие. Я ведь тоже комнатный огородник, лимоны выращиваю. Лимоны у меня – о-го-го! Все знают. За крупность балдуины называются. Приезжему кому покажешь – не верит.
– У нас сват тоже ростит, – сказала Правдея Федоровна.
– Не знаю уж, как твой сват теперь ростит, если меры не принял, усомнился Сеня. – Не знаю. У меня, к примеру, полное процветание было до "перестройки". А завозилась она – кто мог подумать, что на лимоны повлияет! А только лимоны мои все хужей, все мельче. Уж не балдуины... так, хреновина какая-то, на перец смахивает. Потом и этого не стало. Завязь возьмется – и обгнила. Только завяжется – отпала. А у меня книжка, я по книжке провожу уход, у меня ошибок быть не может. Какие ошибки, если я пятнадцать лет с этим делом вожусь! – еще решительней отмел Сеня и придержал голос, принапряг для самого главного: – И только после, как выбросил я телевизор из дому!., я по другой причине его выбросил... А почему по другой? спохватился он. – Причина одна. Причина какая: что он преподносит. Я выбросил – такие номера он стал откидывать, что я... человек неконченый... возмутился!
– Возмутился! – слабо ахнула бабка Наталья.
– И выбросил! – продолжал Сеня. – Выбросил и живу, на лимоны не гляжу. Я уж на них рукой махнул. Похоронил, можно сказать. А потом как-то ненароком глядь: лимоны-то мои, лимоны-то! – оживают! Я глазам не поверил. Неделя прошла – еще лучше. И пошли, и пошли!
– Телевизор виноват? – насмешливо спросил инженер, отмахиваясь от слетевшего на него желтого листа.
Сеня задрал голову: откуда взялся желтый лист среди сплошной зелени? внимательно осмотрел тополевое верховье: нет, кое-где желтизной проблескивало... Август как-никак. И только после этого твердо ответил:
– Телевизор. Вот почему. Мы же читали все, кто с этим делом возится, что домашняя растения любит ласку. Спокойствие любит. Мужик на бабу если рявкнет – тут твоей гераньке смертная казнь.
– Они музыку любят, – добавила Лена.
– Музыку любят. Но какую? Опять же ласкательную, она им рост дает. А какую музыку нам по телевизору показывают? Крапиву посади перед телевизором – и крапива сей же момент под обморок! А уж что там нагишом выделывают!.. Это мы, как червяки, глядим, а растения... она чувствительная. Она и "караул!" закричать не может, а то бы они все враз вскричали...
– Закон, значит, такой вывели? – посмеивался инженер.
– Закон! Вывел! – еще тверже отвечал Сеня.
Замараевские бабы смотрели на него с уважением: ну, Сеня... наш Сеня любой спор выспорит, на любого ученого человека храбро пойдет.
Все чаще стали оглядываться на Ангару: не взбелеет ли "Метеор"? – и народ появился возле дебаркадера, торопя посадку. Подъезжали и машины, куда-то ненадолго отскакивавшие, запряженные для проводов. Ангара, взбученная мостовыми быками, бурлила, закручивалась в воронки, пенилась, звенела и, скатываясь мимо дебаркадера, уходила быстро и рябисто. Солнце, безрадостное от чадящего города, стояло почти над головой. Шел только десятый час.
Неподалеку, за старым раздвоенным тополем, одним стволом сильно склонившимся в сторону моста, пристроились, заметил Сеня, женщина с девочкой. Девочка сидела спиной, видна была только белая головка с разлохмаченной косой; женщина, уже немолодая, видавшая виды, со встрепанным выражением на круглом нервном лице, беспокойно оглядывалась. Когда Сенин голос поднимался до накала, она вздергивала голову и морщилась.
Фельдшерица спрятала обратно в сумку отросточек, от которого Сеня и вывел закон, и вытянула взамен какую-то завертушку в красивой обертке, протянула мужу. Он отказался. Она принялась сама разворачивать завертушку. Но не тут-то было – та не давалась. С какого бока, с какого края ни тянула фельдшерица – хрустящая бумага только издевательски повизгивала. Все с интересом наблюдали, чья возьмет. Нет, не бралась штукенция. Не выдержав, фельдшерица применила зубы. Она вонзала их так и этак, испуганно поводя глазами за наблюдавшими, вот-вот, казалось, зарычит от нетерпения – и со стыдом отступилась, сплюнула.
– Там стрелка должна быть, – подсказала Лена. – Указательная стрелка, куда тянуть.
Принялись всей компанией, передавая друг другу изжульканную завертушку, искать стрелку и не нашли, ее или забыли указать, или нарочно не указали, чтобы проверить смекалку деревенского народа. А что проверять! – инженер вынул откуда-то из-под куртки нож, с которым и на медведя не страшно идти, и с наслаждением, крякнув, будто от усилия, вспорол штукенцию.
– Вот так, – мстительно отозвалась бабка Наталья. – Дофунькалась.
– Пошто дофунькалась?
– Откуль я знаю? – Бабка Наталья тянулась рассмотреть, что было в хрустящей бумаге, до чего так мучительно добивались. – Ну и че? спрашивала она. – Че там?
– Сама же говоришь: фунька. – Фельдшерица взяла в рот какое-то цветное крошево из красного, зеленого и желтого и, замерев, испытывала ощущения.
– Попробуй. – Она протянула в ладони крошево бабке Наталье. Та осторожно приняла, лизнула с руки.
– То ли едово, то ли ядово. Нет уж, – решительно отказалась она, лутче знать, от чего помирать.
– И правда, – подтвердила Правдея Федоровна, со страданием на лице наблюдавшая, как пробуют неизвестное вещество. – Его, может, для того и запечатывают крепко, что оно опасное.
– Написали бы, если опасное...
– Там че-то написано.
– Написано-то не по-русски.
– А не по-русски написано – русский человек не лезь, не разевай рот, неожиданным басом сурово сказала Правдея Федоровна. – Там, может, от тараканов написано.
Фельдшерица сплюнула жвачку:
– Тьфу вас! Наговорите!
– Нисколь не проглотила? – полюбопытствовала бабка.
– Нет.
– Ну и слава Богу. От греха подале.
Помолчали, оглядываясь на реку.
– Ну, а что такое все же "фунькать"? – заинтересовалась Лена. – Есть такое слово или нет?
Бабка Наталья с Правдеей Федоровной переглянулись, улыбаясь, остальные вопросительно смотрели на них.
– Ты вроде деревенская, а спрашиваешь как городская. – Бабка Наталья рассмеялась мелконьким сухим смехом. – Маленькая была – воздух портила втихомолку али с музыкой?
– С тем и другим, – не растерялся Сеня.
Посмеялись, потом бабка Наталья закончила:
– Ежели втихомолку, так это оно и есть...
– Искомое насекомое, – отличился на этот раз инженер.
День разгорался жарким. Со стороны улиц, набегающих на мост, доносился дых города, сладковато-выжженный, сухой. С другой стороны набегала волной речная свежесть. То одним пахнет, то другим. Назначенное для "Метеора" время еще не вышло, но народ томился все пуще, запрудив асфальтовую дорогу возле Ангары. Машины музыкалили на разные голоса, прокладывая себе проезд.
– Пойду узнаю последние известия, – вызвалась Лена.
Последние известия были: еще на полчаса отсрочка.
Женщину под солнцем разморило: ночь она спала плохо, голова была тяжелой, и чувствова-ла она несвежесть во всем теле. Они с девочкой оказались здесь случайно. Случайно и не случайно. Женщину всегда тянуло на вокзалы, откуда можно уехать, и сегодня они с девочкой уже побывали на железнодорожном. Сегодня женщина задумала такое, что и вокзалы не помогут, и без них не обойтись. Проезжая в трамвае, она с моста заметила кружение пассажиров перед отправкой "Метеора" и на остановке потянула за собой девочку. Они побродили-побродили вокруг, ни с кем не заговаривая, выделяясь среди пассажиров своей вялостью, и приткнулись возле компании деревенских. Разговор их еще больше убедил женщину, что люди они невинные и настоящей жизни, которая теперь взяла силу, не знают. Ей тем и нравился речной вокзал, что пассажир тут был не из воронья и отдавался он теплоходу на подводных крыльях, чтобы поскорей добраться до семьи, до деревни и подольше оттуда не выглядывать.
Девочка грызла пряник, как белочка, держа его обеими руками. Женщина принялась укладываться, шурша газетами, которые поднимало речным поддувом, пока она не догадалась придавить их камнями. "Никуда не уходи", – сказала она девочке. Та не ответила. "Сегодня, сегодня!.." – как заклинание, повторяла женщина, закрывая глаза и подбирая под себя ноги, чтобы не выглядеть так, будто валяться на земле ей в привычку.
Голоса бубнили, то затихая, то усиливаясь, когда принимался говорить этот, петушистый... Женщина уже различала его голос – горячащийся, нервный и наивный. Острый голос – заснуть под него не удавалось, но и открывать глаза, смотреть на белый свет не хотелось.
– Вот объясни ты мне, Сергей Егорович, – шел на очередной приступ горячий мужичонка, – у меня ума не хватает понять. У нас ведь победа на культурном фронте дошла до всеобщей грамотности. Всеобщее среднее образование у нас было. Было или нет?
– Было, – соглашался с мукой второй мужик. Он что-то сказал еще, но в движении, должно быть переходя под тень, – что-то недолетевшее.
– Но ведь среднее образование – это же много! – горячился первый. Это по уши ума. А едва не половина народу – с высшим образованием. Дальше некуда. Так? Так, да не так. Вот тут и фокус. Если мы все были такие умные, почему мы вышли в такие дураки? Я об этот вопрос всю голову сломал. Почему, Сергей Егорович?
– Мы не дураки...
– Мы не дураки, мы теперь умные, – быстро, с удовольствием согласился спорщик. Этот, если никого рядом не окажется, сам с собой будет спорить. Очень хорошо, – продолжал он. – Но если мы сегодня такие умные, почему мы вчера были такие дураки? При всеобщем среднем образовании с заходом в высшее. И работу мы делали не ту, и ели не то, и спали не так, и ребятишек делали не с той стороны, и солнце у нас, у дураков, не оттуда всходило. Кругом мы были не те. Но почему? Говорят, нас специально учили так, чтобы и высшее образование было не выше дураков. Такая была государственная задача. Ладно, задача... Но почему?.. Если мы все были такие дураки, как мы за один кувырк стали такие умные? И сразу взяли правильный курс – все делать с точностью до наоборот?
Второму мужику не хотелось спорить, он замолк, делая опять какие-то передвижения. Старуха вздохнула с жалостью и сказала:
– Почему ты у нас, Сеня, такой истязательный? Ну прямо сердце надрывается на тебя глядеть.
"Умные, дураки... – полусонной и безжалостной мыслью прошлась женщина по услышан-ному. – Нет теперь ни умных, ни дураков. Есть сильные и слабые, волки и овцы. Все ваше образование пошло псу под хвост. У нас и профессора в лакеях служат или на цепи сидят".
У соседей началось шевеление, и женщина решила, что, должно быть, подходит их водный транспорт. Она села и огляделась. Нет, все было в том же томительном ожидании, все так же толокся народ, не знающий, чем себя занять. Солнце сразу стало горячей, едва она подняла голову. А зашевелились рядом – принесли пиво и воду и устраивали посреди круга стол.
– Дать еще пряник? – спросила женщина у девочки. Та отказалась и опять застыла, держа головку на поднятой шее, глядя без всякого чувства на дорогу, где, гоняясь друг за другом, играли в пятнашки мальчик и девочка ее лет.
"Надо что-то делать", – опять забеспокоилась женщина и покосилась на стоящего к ней вполоборота Сеню. С моста сорвался грохот трамвая, особенно тяжелый, оглушительный, над головой зашумела листва. Сеня взапятки сделал два шага и стоял с задранной головой.
– Эй! – окликнула его негромко женщина и еще раз, посильнее, пока он не оглянулся. И показала ему кивком головы, чтобы он подошел. Сеня подумал и подошел, со стаканом воды в руке облокотясь на изгибающийся ствол тополя. Женщина пригладила ладонями лицо, точно обирая с него усталость, вгляделась в Сеню, что-то решая, и сказала:
– Угости пивом.
Ей было лет сорок, на круглом лице с большими, теперь припухшими глазами и большими синими подглазьями замечались следы не только бессонной ночи, но и приметы покатившейся жизни. Смотрело лицо угрюмо и растерянно. Женщина еще старалась держать себя, на ней была свободная и длинная серая кофта поверх тонкой полосатой рубашки и короткие, открывающие щиколотки, коричневые брюки хорошей материи. На ногах кроссовки. Женщина старалась держаться, и все же нельзя было не заметить, что каждый месяц жизни дается ей в год.
– Пивом я и себя не угощаю, – ответил Сеня, всматриваясь и не умея сдержать любопытство. Не походила она на попрошайку, играла какую-то роль.
– Тогда водой угости. Жарко.
– Ангара рядом.
– Девочка любит сладенькую, – играя лицом, что, должно быть, когда-то получалось у нее красиво, а сейчас – манерно, настаивала женщина.
Девочка, сидевшая спиной, обернулась, и Сеня ахнул. Он узнал ее. Он видел ее только вчера.
Вчера они с Людмилой, с дочерью, пошли по базару посмотреть кой-какого товару. Требовалось самое необходимое для подступающей осени – телогрейка для Гали (старую, истрепанную недосмотрели в сенцах, в углу, и на ней кошка принесла котят) и ему, Сене, кирзовые сапоги. Любил он еще, бывая в городе, поискать "то, сам не зная что", как в присловье, в чем нет крайней нужды, а увидишь и загоришься, возьмешь. Так он купил однажды кофемолку за один только притягивающий взгляд ее вид – приглянулась и запросилась в руки, а потом долго не знал, что с нею делать, кофе он не пил. Простояла кофемолка в праздности, наверное, года с два, и вдруг слышит Сеня грохот из избы, будто там запустили дизель. А это Галя приспособила кофейную машину под помол сухой черемухи, и та от возмущения подняла крик. Сеня прикрутил винты – стала работать тише. С тех пор безотказно мелет. Вот и игрушка... любую игрушку, если имеется голова, можно пустить в дело.
У них в Заморах ничего подчистую не стало, и магазин о двух высоких крыльцах на две половины показывал замки уже года три. Бросили деревню. Как ни ругай коммерцию, а приходится говорить спасибо одному приезжему парню, который муку с крупой и соль с сахаром изредка привозит и торгует из амбара. Торгует с наценкой, но делать нечего. Да и денег нет, чтобы скупиться. Что появится чудом или из милости – отнесешь этому парню, Артему, и живи без размышлений, что бы еще купить.
Покупают в Иркутске в "Шанхае". Так называется вещевой рынок, по-старому барахолка, расположившийся по обочинам рынка продовольственного, крытого. Название дано по китайскому товару, который гонят сотни и тысячи "челноков", снующих беспрестанно туда и обратно. Громадные полосатые сумки, раздувающиеся как аэростаты, способны вместить полцарства. Гвозди и спички, карандаши и нитки, шнурки и пуговицы, мертвые цветы и бегающие игрушки, не говоря уж о тряпках, о посуде, об обуви, о снеди, о всякой подручности, все везется из Китая. И все непрочно, быстро дырявится, портится, расходится по швам, превращается в хлам, а значит, требует замены. И китайцы заинтересованы в плохом качестве, и "челноки", и, похоже, сам Иркутск, потому что иной работы он дать не может. Все свое сделалось в России невыгодно.
В "Шанхай" и повезла Сеню Людмила. Они сошли с трамвая и сразу окунулись в светопреставление. Кругом все кричало, визжало, пищало, совало под нос какую-то раскрашенную дрянь, и все колыхалось, двигалось, полосатые баулы били Сеню по голове и по ногам, дюжие квадратные девки кричали на него и яро матерились – и он бы упал, его бы затоптали, но упасть в плотной движущейся массе людей и товара было некуда. Людмилу он быстро потерял, онемел и только покрякивал, когда толкали и сжимали особенно больно. Каким-то чудом вынесло его на отбой, несколько раз еще крутануло и остановило. Из последних сил Сеня отпрыгнул в сторону.
Деньги в кармане оказались на месте. Сеня отдышался, для верности еще раз ощупал себя, целы ли кости, приободрился своим спасением и стал наблюдать, что это такое – откуда он спасся и что называется торговлей. Покупать там невозможно, там происходило что-то иное. Полосатые, под вид матрасовок, баулы все двигались и двигались, их катили на тележках, несли на загорбках, на головах, выставляли перед собой в две, в три пары рук и таранили ими народ. Сеня кумекал: значит, тут место перевалки. Одни привозят из Китая, другие съезжаются со всей области, а может, и шире, делают оптовую закупку, потом и у них появляются перекупщики – и так за несколько оборотов товар наконец добирается до Сени и таких, как он, кто выкладывает за него последние деньги. Увидев действие этой огромной крутящейся машины изнутри, Сеня поразился ее адовой простоте и изобретательности, какому-то беспрерывно громыхающему взрыву, раскидывающему полосатые тюки.
Они договаривались с Людмилой пойти после "Шанхая" в торговый центр на базарной площади; сапоги могли залежаться там. Туда и отправился Сеня, надеясь, что Людмила догадается, где его искать. Он подошел к главному входу и стал прогуливаться, наблюдая тутошнюю жизнь. Везде, на каждом шагу, теперь сделалось интересно. Неподалеку, слева, мучили медведя, облезшего, полуживого и старого, выставив его как приманку для фотографирования. Медведь стоял на задних лапах, уронив голову и исподлобья косясь на окруживших его ребятишек; видно было, что он давно смирился и с цепью на шее, и с тем, что жизнь его кончилась; потом перевалился на все четыре лапы, цепь загремела, ребятишки завизжали, а медведь понуро, по-собачьи, ткнулся мордой в бетон, что-то там вынюхивая. Фотограф, толстый мужик с бабьим лицом, хозяин медведя, сидел на складном стуле возле щита с фотографиями и изображал улыбку на недовольном лице: на медведя глазели, а под фотокаме-ру не шли. От массивного здания магазина уже ложилась тень, и под нее пристроились прямо на бетонной плитке несколько цыганят и три старика, один совсем безногий, на каталке. Сеня и за ними понаблюдал: давали совсем плохо, но из малого больше всего перепадало безногому. Цыганята не выдерживали пустого сидения, бросались канючить, хватали прохожих за руки – их отталкивали, зная, что цыганское племя нынче богаче русского. И гремело из ларька, торгующего музыкой, так оглушительно, что Сеня тряс головой и думал: а ведь этак недолго вызвать землетрясение.
Чтобы не разминуться с Людмилой, он поднялся по ступенькам и у самого входа в магазин присел над последней ступенькой на край мраморной широкой площадки. Туда и обратно, вверх и вниз сновал народ, это был субботний день, но после "Шанхая" суета здесь крутилась спокойно и люди шли своими ногами, могли разговаривать и понимать друг друга.
Тут-то и увидел Сеня эту девочку, точно слетевшую из сказки. Она сидела прямо напротив, по другую сторону ступенчатого подъема. Сеня сначала не догадался, зачем она сидит среди этого хоть и затихшего по сравнению с "Шанхаем", но все-таки лежащего повсюду безобразия с нищими, медведем и бушующей музыкой, и только обратил внимание на ангельское личико лет пяти-шести, промелькивающее между проходящими. Не засмотреться на него было нельзя: дымно-белые волосы, какие называют льняными, сразу уходили назад в тугую косу с темно-красным бантом, и лицо, чуть вытянутое, чистое, нежного и ласкового овала, было открыто. Глаза, нос, губы, щеки – все было вылеплено на этом лице с удивительной точностью, чтобы ничто отдельно не выделялось, а вместе являло ангельский лик. Глаза небольшие, глубокие, голубые; курносинка, та самая изюминка, которая делает лицо занимательней; щеки без подушечек, ровные; рот правильный, со слегка оттопыренной нижней губой. Нет, не лепилось это лицо взаимным наложением родительских черт, а выдувалось, как из трубки стеклодува, небесным дыханием.
Сеня так внимательно рассмотрел девочку, когда, заметив, что возле нее приостанавливают-ся, подошел взглянуть, почему приостанавливаются. И увидел: на коленях девочки, зажатый ногами, уже и не лежал, а стоял раскрытый пакет. В него опускали деньги. Опускали и, отходя, оборачивались, чтобы полюбоваться. Девочка склоняла головку, острые плечики ее подавались вперед, и монотонно и печально повторяла:
– Спасибо. Спасибо. Спаси вас Бог. Спасибо.
На ней была синенькая курточка с большими накладными карманами и подвернутыми рукавами и плисовая оранжевая юбочка. То и другое старое, стираное, но чистое. Красные сандалики поверху потрескались.
Сеня тоже опустил в пакет бумажку в пять тысяч. Для него это были деньги. За такие деньги он встал сбоку, на ступеньку ниже, и, чувствуя второе после "Шанхая" потрясение, охваченный удивлением, жалостью и болью, смотрел неотрывно, как опускают и опускают деньги. Господи, что же это на свете делается?! Видит ли Бог? А может, это Он, Бог, послал от Себя это ангельское создание, чтобы иметь чистое свидетельство?
Не удержавшись, Сеня тронул за плечико девочку и спросил:
– У тебя мама есть?
Она торопливо и отрицательно, не поднимая глаз, замотала головой.